Михайловское. Галич. Россия
Село Михайловское Галичского района в истории страны,
в судьбе и творчестве соотечественников

Выходные данные, оглавление
УДК 82-4
ББК 83.014.46
Л 34
Михайловское. Галич. Россия: Село Михайловское Галичского района в истории страны, в судьбе и творчестве соотечественников / Автор-составитель: Н.Ю. Леванина. – Саратов: Издательство «КУБиК», 2025. – 468 с.
ISBN 978-5-6053474-4-6
В эту книгу, посвященную истории старинного русского села Михайловское, что на Костромщине, вошли уникальные архивные материалы, интереснейшие воспоминания жителей о разных периодах истории страны и села, а также увлекательные художественные произведения, посвященные этому замечательному селу, расположенному в самом центре России. Среди авторов-земляков этого издания – российские писатели и литераторы, ведущие свой род из заповедной Костромщины и пишущие о ней.
Книга адресована самому широкому кругу читателей.
© Н.Ю. Леванина, 2025
ISBN 978-5-6053474-4-6
© Издательство «КУБиК», 2025
Содержание
Наталья Леванина. От автора-составителя 3
Елена Балашова. «Обыкновенное чудо» 7
I. История села Михайловского 8
Елена Балашова. «Очистится душа от суеты…» 18
II. История Михайловского храма
Нина Розанова (Зубова). «Здесь Родины моей начало»:
отрывок из историко-биографического очерка 19
Алевтина Погодина (Лапшина). «Православная вера и русское слово…» 36
Вера Клевич. «Вот и всё, что осталось…» 40
IV. Село в годы Великой Отечественной войны.
Наши герои 41
Олег Зайцев. «Баллада о погибшем» 51
V. Михайловский тыл.
Всё для фронта, всё для победы! 52
Виктор Лапшин. «Горит в веках твоя звезда!» 57
Скворцов Валентин Константинович 70
Ольга Колова. «Где-то в дебрях глухих…» 74
VII. Михайловское в судьбах человеческих 75
Светлана Павлова. Петров день: биографический очерк 75
Валентин Скворцов. Село Михайловское: мои воспоминания 113
Любовь Котикова (Шубина). Мои воспоминания о родном селе и дорогих людях 117
Нина Розанова (Зубова). Здесь Родины моей начало:
историко-биографический очерк 145
Геннадий Дормидонтов. «Освободите сердце для любви…» 296
Мария Барыкова. Из истории михайловской семьи Василисиных: моя бабушка – половина моего «я» 298
Мария Барыкова. Из питерской истории михайловской семьи Налимовых 316
Сергей Потехин. «Не ты один тропинкой узкой…» 324
VIII. Наша малая Родина в художественной литературе 325
Светлана Павлова. «Светлые воспоминания» 325
Наталья Леванина. «Уроки русского»: деревенские этюды 333
Светлана Павлова. «Родная земля» 430
Олег Шестинский. «Златая цепь на дубе том…»:
блокадные новеллы 432
Наталья Леванина. «Чудобище»: отрывок из повести 443
Наши авторы 456
Благодарность 456
От автора-составителя
Эта книга сложилась на удивление легко и быстро. Она будто с нетерпением ждала меня. Остальные авторы тоже были вполне готовы к работе. Один материал по инерции влёк за собой другой. Одни авторы рекомендовали других, и рекомендации принимались. Так было с неожиданно появившимися в книге «михайловскими» очерками петербурженки Марии Барыковой и москвича Олега Шестинского. С какой любовью и мастерством они написаны! Художественная часть их воспоминаний просто оживила дорогие страницы истории села. А тут ещё и старожилы Михайловского подоспели. Девяносто четыре года Любови Константиновне Котиковой (Шубиной). Возраст почтенный, но память не подводит. Её мемуары, несомненно, внесли в книгу свою незабываемую конкретику.
Мне, конечно, повезло с авторами. У Нины Аркадьевны Розановой к моменту создания этой книги уже был готов качественный, интересный историко-биографический очерк, скромно адресованный автором лишь своим детям и внукам. Уверена, что книга изменит масштаб написанного и выведет этот богатейший материал на общероссийский простор. Ведь, по сути, у Н.А. Розановой (Зубовой) в документальном повествовании отпечаталась не только история конкретной Михайловской семьи. Её очерк – это с любовью выполненный слепок всей крестьянской России прошлого века. И что самое ценное, Нина Аркадьевна обладает даром слова. А ещё она является коренной жительницей Михайловского в энном поколении. Причём, живёт в селе и сейчас.
Другой автор – Светлана Павловна Павлова – тоже извлекла из семейных закромов много разного ценного и щедро поделилась со мной. При этом как поэтично её перо! Определённо, мне было из чего выбирать.
Работящие, озорные, мои земляки за словом в карман не лезут. Они терпеливые, душевные, скромные и вроде бы простые, ан нет! Сам набор этих редких качеств вызывает сомнение в их простоте, если расценивать простоту как незамысловатость и примитивизм. И тут вся надежда на художественную литературу, которая поможет разобраться в сложном орнаменте местного национального характера, замешанного на регулярных исторических катаклизмах и лихолетьях. Вот почему в книгу были включены эссе, этюды и отрывки из повести. Все они принадлежат михайловским литераторам по крови и судьбе.
Стихотворная часть сборника была добыта из многочисленных литературных сборников, подаренных мне земляками в разные годы. Выбирала талантливых авторов, удачно совпавших с темой и интонацией книги.
Вообще любовью к родному Михайловскому, вечным труженицам-бабушкам и нашим отдавшим свою жизнь в Великую Отечественную войну героям-мужчинам – просто пропитаны страницы всех оказавшихся у меня рукописей. Благодарность предкам и восхищение ими определяют родственную тональность всего материала, который удалось соединить под одной обложкой.
Должна признаться: проблема была не собрать книжку, а сократить её! Накопленный мною материал в результате потянул на полноценный трёхтомник! Земляки были щедры ко мне. Как и всегда.
Надеюсь, книгу прочитают не только люди, имеющие отношение к Михайловскому, но и все, кто интересуется русской историей, региональным краеведением и русской художественной литературой. Да-да! Мои земляки – люди действительно талантливые, хорошо пишущие. Читать их очень интересно.
Создавая эту книгу, на небольшом географическом (одно село) и временном (один век) пространстве, при ближайшем рассмотрении я вновь обнаружила то, о чём и так давно догадывалась. Здесь только копни поглубже – и сразу же наткнёшься на уникальную россыпь человеческих характеров и судеб.
В прилетевших ко мне рукописях, кроме старых «крестьянских» историй, звучат голоса ведущих свою генеалогию из Михайловского военачальников и профессоров, журналистов и учителей, писателей, врачей, шахтёров, инженеров, агрономов, художников. Всех их родили, вырастили и воспитали в труднейшую военную и послевоенную пору наши не слишком грамотные бабушки. Михайловские бабушки. Сами-то они, помнится, говорили: «Спасибо Советской власти!»
Это да. Конечно. Но всё равно не ясно. И тут одно из двух: либо получившийся уникальный срез просто подтверждает общую картину, и так у нас обстоят дела «с кадрами» по всей России, и называется эта история «Только копни!» В этом случае страна наша предстаёт абсолютно сакральным местом, с невероятным прошлым и фантастическим потенциалом. С непобедимым народом, способным возрождаться и развиваться. Либо наше Михайловское – какая-то аномальная зона, рождающая уникальных, а порой и просто – великих людей чуть не в массовом количестве, и тогда секрет села надо разгадывать учёным-антропологам самых разных направлений – социальным, культурным, философским, педагогическим. Одновременно изучать, как сопутствующий вопрос, природу сильной душевной приязни, преданной любви к Михайловскому и его предкам, которые чем дальше – тем больше завораживают своей почти мистической силой даже давно разъехавшихся по разным городам и весям моих соотечественников.
В самом деле: как эти наши простые предки, эти скромные люди смогли вынести на своих плечах невыносимое и не сломаться? Как им удалось остаться для всех последующих поколений образцом воли, упорства и силы? Откуда черпали они энергию любви? Эти тайны лежат не на поверхности, они хранятся в семейных историях, в редких фронтовых письмах-треугольниках, в воспоминаниях старожилов.
Вот ещё почему так важно было собрать и написать эту книгу. Это означало оживить, озвучить важнейшие исторические факты из жизни родного села и всей страны. Ведь всем нам хорошо известно: настоящие герои этой книги о себе и своих делах распространяться не любили.
Это, кстати, и ещё одна причина, по которой в нашей книге так много поэзии. Ведь про многие страницы личной истории, подчас трагической и невыразимой, лучше всего говорят хорошие стихи.
Наталья Леванина
Неизмеримо глубока душа твоя, великий народ. Нет народа более скромного и более гордого, чем ты. И скромностью твоею, гордостью кичливо пользуются наглые люди: необъятно для них любвеобильное сердце твоё и недоступны твои высокие идеалы.
И терпит, всё терпит великий народ, всё ещё не исстрадалось сердце его, – и поёт он песню свою беспредельной глубокой тоски о чудесно прекрасной жизни…
Ефим Васильевич Честняков,
поэт, философ, сказочник. Наш земляк
Обыкновенное чудо –
Лес, река и дорога.
Обыкновенное чудо –
Травинки рукой потрогать.
Обыкновенное чудо –
Поле, луга, пшеница…
Обыкновенное чудо –
На этой земле родиться.
I. История села Михайловского
История села Михайловское уходит в древнерусские времена. Первое упоминание о нём относится к началу XVI века. Тогда, в 1533–1537 годах, Михайловское было центром поместья дворян Чередовых. Село соседствовало с горой Подшибель, на которую претендовали эти самые помещики; рядом была деревня Шокша и поместье некоего Василия Ивановича Кузьмина.
В XVIII веке владельцем села Михайловское был князь Фёдор Алексеевич Голицын, брат воспитателя Петра I Бориса Алексеевича Голицына. В Российском Государственном архиве древних актов (РГАРДА) сохранилась челобитная, датированная мартом 1716 года, которую князь Фёдор Голицын подал в Патриарший приказ: «В вотчине моей в селе Михайловском церковь Михаила обветшала и без указу разобрать и подрубить ветхие бревна и переменить не смею».
Вот так. Для ремонта и строительства новой церкви требовалось благословение Преосвященного Стефана, митрополита, без которого хозяин Михайловского не смел разобрать пришедшие в негодность ветхие церковные бревна. Их запрещено было использовать на какие-либо хозяйственные цели. Истлевшее дерево должны были вывезти в поле и там «благословить» и сжечь.
Построить на прежнем месте новый храм в своей вотчине взамен обветшавшего князь Голицын тоже не имел права без благословения Преосвященного Митрополита.
В своей челобитной Фёдор Алексеевич Голицын просил Преосвященного Стефана: «…построя и к освящению изготовить и сотворить той церкви освящение и о том дать указ».
На грамоте подписано «1716 г. в 11 день марта дать благословенная грамота». И здесь же отмечено: «Дано».
Ныне существующий каменный храм в селе Михайловском был возведён уже при потомках Ф.А. Голицына на средства прихожан. В 1789 году, на месте обветшавшей деревянной, и были возведены в центре села каменная Архангельская церковь и колокольня. Ограда каменная; кладбище, в 500 метрах от церкви, тоже обнесено оградой – частично каменной, частично деревянной. Престолов в церкви три – в честь Архистратига Михаила, святых апостолов Петра и Павла и Богоявления.
В 1863 году в приходе Михайловской церкви, в округе четырёх вёрст, тогда числилось 12 селений, в которых было 367 дворов. А жителей в них, то есть прихожан в церкви, было 1120 человек мужского пола и 1633 человека женского пола.
Известно, что у Ф.А. Голицына родились только дочери, Прасковья и Мария, которых он выдал замуж за князей П.Н. Щербатова и П.А. Толстого. Михайловское с деревнями, которые «к нему тягли», как приданое перешло именно к ним. В роду Щербатовых и Толстых Михайловское находилось до 1860 г. У Толстых к этому году было 244 крепостных душ и 1421 десятина земли.
Жизнь до революции текла своим чередом. С действующим храмом и по Божьим законам. Со своими праздниками и утратами.
Летними престольными праздниками церкви св. Архистратига Михаила были Никола Вешний (22 мая), Петров день (12 июля). Зимним праздником был Михайлов день (21 ноября).
В престольные праздники батюшка проводил крестный ход. Верующие заходили во все дома и читали молитвы. К праздничной службе в церкви прихожане одевались во всё самое лучшее. Детей приводили на церковную службу вымытыми, расчёсанными и нарядными. В престольные праздники умерших родственников не поминали и на кладбище не ходили. Это происходило в родительские субботы.
Итак, праздник. Уже с раннего утра в праздничный день под окнами сельчан ходили нищие. Им подавали милостыню, чтобы и они могли отметить праздник.
Перед каждым праздником хозяйки тщательно мыли и убирали свой дом, включая потолки и стены. Всё, что можно было, стирали. Чистили иконы. Если позолоченные или серебряные – начищали мелом, а деревянные просто мыли. Накануне праздника обязательно топили баню. Каждый старался справить обновку. Сшить или купить новый наряд.
Утром всем семейством шли в храм. После окончания службы за праздничным столом собирались гости, в первую очередь – близкие родственники. Во главе стола сидел хозяин, по правую руку – хозяйка. Дети сидели отдельно, никогда вместе со взрослыми не были. На столе обязательно присутствовали традиционные для этих мест блюда: пироги, студень, мясо с картошкой, копчёная рыба. Салаты никогда не делали. Всё готовилось из рыбы, мяса и муки. В соседней деревне Богчино была мельница, там и мололи зерно на муку и крупчатку. Горячительных напитков было мало. Рюмочки были небольшие. Пьяных не было. Село тогда было очень трезвое. К празднику варилось домашнее пиво из зерна. Как это делалось, рассказала старожил села Римма Константиновна Иванова (1928 года рождения).
«Расстилали холст, на него клали зерно 5-7 см, поливали водой и ждали, когда оно прорастет. Затем сушили в русской печи, получался солод, его мололи. Пиво варили в специальных корчагах, отдельно каждая семья».
Вечером праздник переносился на улицу. Собирались все в центре села. Танцевали, водили хороводы. С гармошкой и песнями ходили по улицам Михайловского. Здесь были все – и молодые, и старые. Приходили на гулянье и жители окрестных селений, особенно молодёжь. В свою очередь, михайловские ходили гулять в соседние деревни на их престольные праздники.
Вот эти праздники:
Лобачи, Табуново – Макарьев день (7 августа).
Выползово и Денисьево – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).
Лаптево, Якушкино, Лебзино, Павлуково – Михайлов день (21 ноября).
Лаптево – Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
Княгинино – Ильин день (2 августа).
Да, умели наши предки и работать, и веселиться. Всё шло своим чередом. После уборки урожая наступало время деревенских посиделок. У наших бабушек загорались глаза, когда вспоминали они свои сельские беседы. Именно так называли вечера, на которых молодые люди знакомились, разговаривали друг с другом, веселилась, пели, танцевали. Конечно, влюблялись и вскоре женились.
Организовывались беседы так: девушки делали между собой складчину деньгами и хлебом, закупали сласти, варили пиво и собирались в одной из просторных изб. Приносили с собой рукоделие: шили, вышивали, пели и поджидали в гости парней, которые являлись всегда шумно, весело, с гармонью и песнями. Кавалеры были разборчивы. Они переходили из одного селения в другое, и оставались дольше там, где девушек было больше и где были они приветливее и красивее. И тогда разгоралось веселье: песни сменялись танцами и играми. Танцевали кадриль, польку. А главное, во всей этой кутерьме молодые присматривали себе будущего спутника жизни.
Именно так в 1929 году познакомились, полюбили друг друга и вскоре поженились моя бабушка Леванина (тогда еще Канавина) Надежда Петровна (1912 г.р.) и мой дед – Леванин Павел Константинович (1913 г.р.). А было молодым по 16-17 лет.
Свадьба в селе начиналась с венчания в церкви и длилась обычно два дня. Моя мама, Леванина Римма Павловна, хорошо запомнила этот красивый ритуал:
«К церкви жених с невестой подъезжали в празднично убранной карете. Цветами были украшены и лошади, и дуги. Собиралось много гостей. Все были в своих лучших нарядах. Вслед за священником жених и невеста входили в церковь. За ними шли гости. Невеста была в белом платье и фате. Всё было скромно, красиво, празднично и именно по-церковному. Было много прихожан. Много цветов. После венчания звучали поздравления.
Потом священник брал молодых за руки и провожал их до кареты. Впереди несли икону, которой благословляли молодых на новую жизнь, и она потом хранилась в семье до самой смерти. Браки были прочные, без разводов».
Одним из любимых праздников жителей села было Рождество Христово. На Рождество в домах ставили ёлку, украшением которой занимались дети.
С Рождества (7 января) по Крещение (19 января) были Святки. В святки ходили ряжеными по домам колядовать. При входе в дом все дружно молились, потом пели частушки и плясали. Хозяин подносил парням чарку с водкой, а детям давали пирога или сладостей. Эта традиция колядовать сохранилась и по сей день.
На Крещение девушки гадали. Это точно описал В.А. Жуковский в своей поэме «Светлана». Так и было.
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
Красочным был праздник проводов зимы – Масленица. Всю масленичную неделю молодёжь собирала дрова на маслёнку – так называли костёр, который жгли в Прощёное воскресенье, в последний день Масленицы. Когда наступал вечер, к Масленице собирались все сельчане. Зажигался костёр, и начиналось веселье: пляска под гармошку, пение частушек.
За Масленицей наступал долгий Великий пост. Он строго соблюдался в селе. Соблюдают его многие и сейчас.
Пасха всегда была праздником из праздников. Готовились к ней тщательно. Праздник чувствовался во всём. Жители села надевали свои лучшие наряды, при встрече обменивались поцелуями – христосовались, менялись крашеными яйцами. На столах в этот день были пироги, рыба, молоко, творог. В специальных формах-пасочницах делали из творога сыр, пекли пышные куличи.
В Радожное воскресенье (так называли наши предки Радуницу) шли селяне окликать молодых. Под окнами дома, где жили молодожёны, громко пели:
Молодая молодица,
Подай наши яйца!
И молодая должна была вынести несколько крашеных яиц. И дети, и взрослые играли в игру «Катание яиц». Желающих собиралось всегда много. Смех, шутки, веселье. Праздник!
Так спокойно и размеренно, почти идиллически, текла жизнь в селе до начала XX века. Семьи были крепкие, люди порядочные. Хулиганов не было. Дома не запирались. Детей приучали со всеми здороваться. Им старались дать образование.
Вообще Михайловское было культурным селом. Вглядитесь в довоенные фотографии наших селян: люди на них аккуратно одеты, подстрижены, причёсаны. Мужчины при галстуках. А главное, какие лица! Лица скромных, но достойных людей. Нынче не каждый высокообразованный интеллигент так выглядит! Удивительно, что это полностью соответствовало содержанию их жизни: в клубе местная самодеятельная драматическая труппа ставила классику! В репертуаре были Чехов, Горький и пьесы собственного сочинения. Сами писали сценарии. Мой дедушка Павел Константинович Леванин там тоже был не на последних ролях. Об этом мне рассказала старожил села Надежда Александровна Тихомирова, которая и сама была настоящей артисткой с оперным голосом, и Павла запомнила на сцене декламирующим классические стихи и хорошо играющим на гитаре и балалайке.
Вот такая статистика…
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году село Михайловское относилось к 2 стану Галичского уезда Костромской губернии. В нём числилось 76 дворов, проживало 176 мужчин и 266 женщин. Согласно переписи населения 1897 года в селе проживало 333 человека (117 мужчин и 216 женщин).
Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году село относилось к Богчинской волости Галичского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в селе числился 81 крестьянский двор и 268 жителей. Основными занятиями жителей села были малярный промысел и сельскохозяйственные работы.
В 1930-40-е гг. наступили трудные времена: вначале рушили храмы, потом началась война, затем село с трудом принялось залечивать свои тяжёлые раны.
К 1950-80 годам стало всё налаживаться, но грянула перестройка. В результате в 2024 году статистика по селу – почти катастрофическая: численность населения села Михайловское составляет 64 человека, в том числе детей до 7 лет – 2 человека, подростков от 8 до 18 лет – 3 человека, молодежи от 19 до 30 лет – 8 человек, взрослых в возрасте от 31 до 60 лет – 29 человек, пожилых людей возрастом от 60 лет – 18 человек, а долгожителей села Михайловское возрастом старше 80 лет – 3 человека. И это не может не расстраивать.

Стоят слева направо: Бажёнкина Александра Борисовна, Головина Нина Михайловна, Цветкова Александра Александровна, Лебедева Валентина Дмитриевна, Бажёнкина Валентина Николаевна, Глушко Лидия Дмитриевна
Очистится душа от суеты.
Желанный миг милее дней лукавых.
Душа чиста и помыслы чисты,
И не томит тщеславия отрава.
И можно просто веровать и ждать
Стихов, любви, улыбок щедрых лета,
И на любовь любовью отвечать,
И на приветы отвечать приветом.
Как ясен мир в любви и доброте,
Когда душа прозрела и созрела.
Пусть даже так – распятой на кресте,
Но ввысь она летит голубкой белой.
Елена Балашова
II. История Михайловского храма
Нина Розанова (Зубова)
Здесь Родины моей начало:
отрывок из историко-биографического очерка
Главным украшением нашего села является церковь. Каждый раз, когда я её вижу, я радуюсь тому, что теперь она, после десятилетий разрухи, снова открыта для людей. (…)
Вот что говорится в «Статистическом описании соборов и церквей Костромской епархии, составленном на основании подлинных сведений, имеющихся по духовному ведомству, членом костромского губернского статистического комитета, кафедрального Успенского Собора протоиереем Иоанном Беляевым» в 1863 году:
«В Галичском уезде Церкви, причты коих получают вспомогательные из казны оклады, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному штатному положению, соответственно 7 классам.
А). Церкви, состоящие в 4 классе.
Св. Архистратига Михаила и бесплотных Сил села Михайловского.
Каменная, с каменною колокольнею и оградою, построена в 1789 году. Престолы: во славу Богоявления Господня, и в честь: святого Архистратига Михаила и бесплотных Сил, и святых апостолов Петра и Павла.
Причта по штату положено: священник, диакон, дьячок и пономарь; и сверх штата состоят в клире: священников два, дьякон, дьячок и пономарей два.
Жалованье штатному причту отпускается каждогодно из казны 258 рублей, процент с капитала 400 рублей поступает в пользу причта.
Из жалованья штатный священник получает 144 рубля, дьякон 54 рубля, дьячок 36 рублей, пономарь 24 рубля.
Земли 33 десятины. План на землю и межевая книга есть при церкви. Прихожан мужского пола 1120, женского 1633, в том числе раскольников 9 и раскольниц 48, поморской секты. Дворов 367. Приходские люди имеют жительство в 12 селениях, на пространстве 4 верст от церкви. Препятствий сообщению прихожан с церковью нет».

…Православная церковь была для верующего человека всем – в полном смысле этого слова. Церковь крестила его и отпевала, нарекала именем и благословляла на брак, в ней он исповедовался и причащался, каялся в грехах и возносил благодарение Богу за удачу, встречал праздники и горе, при ней он посещал свою первую в жизни школу и знакомился с десятью заповедями Христа.
Неразлучный с ней в жизни, он и после смерти находил упокоение за церковной оградой. Не случайно, связанные с церковью тесными узами, крестьяне жертвовали на неё подчас последние сбережения.
Вот что мы читаем «…в актовой книге Галичского нотариуса Ивана Аркадьевича Алякритского для актов, не относящихся до недвижимых имуществ за 1894/5 год.: … Тысяча восемьсот девяносто четвертого года, ноября двадцать третьего дня, явился ко мне, Ивану Аркадьевичу Алякритскому, галичскому Нотариусу, в контору мою, находящуюся в первой части по Костромской улице, в доме Алякритской, лично мне известный и имеющий законную правоспособность к совершению актов, крестьянин Галичского уезда Богчинской волости Шоковского сельского общества, д. Лобачей, Федор Михайлович Седов, живущий в означенной деревне Лобачах, в сопровождении лично мне известных свидетелей: обер-офицерского сына Александра Павловича Андроникова, Галичского мещанина Петра Ивановича Кострова и отставного каптенармуса Якова Афонасьевича Афонасьева, живущих в городе Галиче с объявлением, что он, Федор Седов, желает совершить нотариальным порядком духовное завещание…»
Далее в первой части завещания идет подробное перечисление всего недвижимого имущества крестьянина Федора Седова, которое он завещает своей жене от третьего брака Марии Александровне Седовой и приёмному сыну Павлу Александровичу Седову. Большую часть капитала он также завещает жене, приёмному сыну, падчерице, внуку. Не забыты крестники, крестница, пять бедных девиц-сирот.
Отдельно в завещании оговариваются условия передачи средств для церквей: «…две тысячи рублей положить в Государственный Банк на вечное хранение, из приращения процентов из которых платить за служение всенощных бдений накануне праздничных и воскресных дней в часовне в деревне Лобачах и творить в ней память о строителе ея и из тех же процентов отчислять на отопление и освещение часовни и на наем сторожа при ней…
е) положить пятьсот рублей в Государственный Банк на вечное хранение и на имя церкви и Причта села Михайловского с тем, чтобы по субботам совершались заупокойные литургии, чтобы совершалось по мне и моим родным поминовение. Проценты с этого капитала должны поступить: две трети их в пользу причта церкви, а одна треть в пользу самой церкви;
з) выдать в то же село Михайловское, мой приходский храм, на украшение храма пятьсот рублей;
и) раздать на украшение божьих храмов Галичских монастырей Преподобного Паисия и женский Николаевский Староторжский; в села: Богчино, Кокорюкино, Денисьево – по пятидесяти рублей в каждую и пятьдесят рублей в Галичский Тюремный замок на улучшение пищи заключенных;
к) выдать на учебные пособия в сельския школы: в деревне и селе Николаевской церкви, что на Мокром, по пятидесяти рублей в каждую».
Крестьянин Федор Седов скончался в 1901 году. Его душеприказчик Николай Алексеевич Каликин выполнил волю покойного. Вот, о чём читаем в архивных документах:
1). Прошение № 86 от 5 апреля 1901 г. от благочинного священника Павла Сперанского в Духовную Консисторию. Документы подписаны были и представлены его Преосвященству 11 мая 1901 года.
2). Прошение причта и церковного старосты.
1. 5 апреля 1901 года благочинный 3 округа Павел Сперанский обратился к его преосвященству Преосвященному Виссариону, епископу Костромскому и Галичскому с прошением о производстве работ по благоустройству Михайловской церкви. А именно: Зимний храм, состоящий их двух приделов – справа в честь св. Апостолов Петра и Павла, слева в память события Крещения Господня
– издавна был тесным, а в настоящее время еще более оказался тесным для молящихся особенно при большом стечении народа в праздничные и воскресные дни, так что некоторые прихожане вынуждены слушать церковное Богослужение в открытые двери, стоя в холодном притворе, что во всех отношениях неудобно и вредно. Для удобства были устроены в средней части храма у задней стены две печи и третья меньших размеров в алтаре и соединены оба храма.
18 апреля 1901 года по указу его императорского Величества Костромская Духовная Консистория слушали это дело.
Деньги были завещаны Седовым Ф.М. на украшение церкви, и душеприказчик его Николай Алексеевич Каликин внес их наличными в капитал церковный 16 ноября 1901 года.
2. При производстве работ по соединению летнего храма с зимним иконостас значительно запылился, а стенная живопись в зимнем храме от долгого времени местами закоптилась и облупилась. Для исправления того и другого потребуется капитал не менее 500 рублей. В виду его покорнейше просим Духовную Консисторию разрешить употребить на этот предмет 500 рублей, которые по завещанию крестьянина Седова назначены были им на украшение церкви села Михайловского и в настоящее время душеприказчиком крестьянином Н.А. Каликиным внесены наличными в капитал церковный и на приход записаны ноября 16 числа сего года под № 35. 26-го декабря 1901 года священник 3го округа Павел Сперанский послал рапорт в Костромскую Духовную
Консисторию.
С разрешения Духовной Консистории были произведены следующие работы:
1. Устроены три печи в холодном храме, одна в алтаре и две у западной стены храма.
2. В зимнем храме две печи переложены снова.
3. Проходная арка из зимнего храма в летний для равномерной температуры воздуха вверху и в поперечнике на два аршина расширена.
4. Опустившийся местами чугунный пол в зимнем храме снова перебран и уложен.
5. Железо, оказавшееся проржавленным на кровле храма, заменено новым.
6. Опрелый снаружи фундамент кругом всей церкви подновлен.
7. Боковые и входные двери паперти вместо ветхих заменены новыми.
8. Где следует, было отбелено и окрашено.
9. Вычищена позолота на иконостасах.
10. Исправлена живопись в холодной церкви.
11. С западной стороны холодного храма сделаны хоры, на которые ведет чугунная винтообразная хорошей работы лестница.
12. Во всем храме сделаны новые двойные рамы, в которые вставлены были стекла.
13. Все означенные работы произведены были под наблюдением опытного в строительном деле крестьянина Михаила Ивановича Балаева.
Благочинный Галичского 3 округа Павел Сперанский Священник Александр Аристов
Почётные представители, в том числе Алексей Ярилов и Николай Иванов Шубаев.
1902 года 2 декабря был составлен акт священником и почётными прихожанами. В нём говорится, что на работы были затрачены 500 рублей, завещанные покойным крестьянином деревни Лобачей Седовым Ф.М. и объясняется, на что именно потрачены эти деньги».
Совместными мирскими усилиями возводили на селе храмы краше прежних. Для этого приглашали лучших архитекторов, каменщиков, художников. Церковь ставили всегда на самом видном месте, как правило, в центре села или на возвышении, отчего её было видно издалека.

Церковь служила ориентиром для всех путников в ясные дни и спасением в непогоду. В метель или туман церковный колокол звонил непрерывно, набатом гремел он и в дни всенародных бедствий, призывая к стойкости и мужеству. Наконец, церковь всегда была украшением России. Невозможно было представить ни одного ландшафта на её огромных просторах без белоснежного силуэта или золотых маковок этих народных святилищ, без крепких защитных стен многочисленных монастырей, без крестов над вечным покоем наших предков. И нужно было обладать поистине сатанинским умом, чтобы попытаться разрушить эту тысячелетнюю красоту, Веру русского человека, а заодно его нравственные и моральные устои.
Церковь оказывала большое влияние на жизнь села. Без священника не начиналось и не заканчивалось строительство нового дома. Вся трудовая жизнь и все праздники были связаны с церковью, да и сама жизнь человека со дня его рождения и до самой смерти сопровождалась священником.
Безусловно, проводниками духовных начал, проводниками культуры были настоятели храма, которые служили здесь в разное время. Последним священником Михайловской церкви был батюшка Алексей (Тихомиров Алексей Иванович 17.01.1874 года рождения) и матушка Таисия Петровна. Их дом находился напротив церкви. Дом был старинный, с чуланками, кладовыми. В жаркое лето рассыхался и поскрипывал каждой дощечкой, а в осенние дожди чернел и облезал. Когда-то в нём было богато и шумно. Старожилы очень тепло отзывались о батюшке Алексее. Это был высококультурный человек, показывающий своим примером высокое служение не только Богу, но и местным жителям. У него была большая библиотека, в которой были собраны не только духовные книги, но также много было книг по истории, философии. Честный, умный, благородный – так о нем отзывались старожилы села.
У отца Алексея и матушки Таисии был один сын, который принял Октябрьскую революцию, стал красным комиссаром, участвовал в гражданской войне. Получил не малый пост в Костроме. Его жизнь оборвалась трагически. Сиротами остались малолетние внук и внучка отца Алексея и матушки Таисии. В доме дедушки и бабушки выросли Александр и Нина людьми высокой нравственности. Когда началась война, они были уже взрослыми. Вот что рассказывала уроженка села Леванина Римма Павловна: «Моего отца должны были забрать на фронт. Дома, на руках мамы, оставались мы, пятеро детей, старшему из которых исполнилось десять лет, а младшему десять месяцев. Саша пошёл в военкомат и попросил, чтобы его послали на войну вместо нашего отца. Этот его поступок мы помним всегда. На войну ушли оба. И оба сложили там головы…»
30-е годы были страшными. В стране начались политические репрессии. Одного за другим арестовывали священнослужителей. В 1937 году батюшку Алексея посадили ни за что, попал под общую волну. Увезли его на повозке вооруженные люди, заставив нести тяжёлый мешок конфискованных книг. Отсидел десять лет. Пришёл старый, больной, слепой и вскоре умер. Реабилитирован 19 мая 1989 года. Похоронены батюшка Алексей и матушка Таисия на Михайловском сельском кладбище.

С 1938 года началось разрушение церкви. Храм превратили в склад для хранения зерна, картофеля, потом в гараж для техники. Только поэтому церковь не разломали совсем, она осталась в таком виде до начала XXI века.
В сентябре 1999 года в газете «Галичские известия» был опубликован очерк советского поэта и публициста Олега Николаевича Шестинского «Помяни, Господи!» Я приведу отрывок этого очерка.
«…Однажды меня по дороге в Михайловское нагнал громыхающий, вздымающий клубы пыли трактор. Он резко затормозил, брякнула скрипучая железная дверца. Рыжий и приветливо курносый молодой мужик окатил баском:
«Саживай. Чай, к нам топчешь пыль?»
«А куда вы?»
«К Господу Богу! – хохотнул тракторист и протянул мне задубевшую ладонь: – Геннадий!»
Я забрался в кабину. Поинтересовался:
«Что значит к « Господу Богу»?
«Ах ты, – развеселился Геннадий, – щас тебе и покажу!»
Мы рванули в жёлто-песчаной мути, вскарабкались на взгорок, переполошили кур на деревенском лужку и, круто свернув, вломились в церковный двор. А там, не задерживаясь, сквозь снесенную стену – внутрь, под купол, лязгая по каменному, еще не раскрошенному полу.
«Вот мы и у Господа!» – белозубо объяснил Геннадий. Я надавил на дверцу, она щёлкнула запором, и я выбрался из кабины и наткнулся впрямую на настенный образ Николы-Чудотворца с замазанным белилами одним оком. Странный святой – словно раненый, с белою повязкой, перетянутой через голову. Я опешил, отступил назад и выбрался из церкви через пролом. Вечером поведал о том Таисии Петровне, и она заплакала с пришептыванием, – мол, за какие грехи сии напасти?»
Благочинный Галичского округа, протоиерей Александр (Шастин), общественность села много сделали для того, чтобы включить святыню в федеральную программу по восстановлению храмов. 21 ноября 2005 года в честь престольного праздника – Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных – в разрушенном храме отец Александр отслужил торжественный молебен. Впервые в этот день за много десятилетий стены храма согрелись теплом свечей и человеческих душ.
В 2007 году церковь Михаила Архангела включена в Федеральную программу по восстановлению храмов России. В 2008 году начались работы по восстановлению храма.



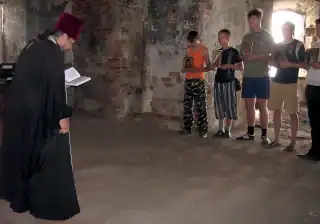
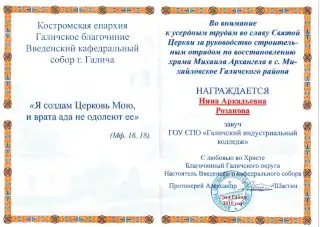
Сегодня в храме идет активная, полноценная жизнь. Я радуюсь, что чуть-чуть, совсем капельку, причастна к тому, что наша церковь открыла двери для людей. Мы с ребятами из Галичского индустриального колледжа проводили субботники, летом 2010 года работал строительный отряд из наших учащихся.
В годы моего детства и взросления я ни разу не переступила порог разрушенного храма. До сих пор помню, как замирало мое сердце, когда я, проходя мимо, видела заезжающий туда, гремящий гусеницами, дымящий трубой трактор. Там трактористы не только работали. Там пили водку, оставляли по углам пустые бутылки, матерились. Что чувствовали старики, которые помнили другой храм?! Святое место, где многие поколения крестились, венчались, откуда провожали в последний путь своих близких, смотрело на мир разбитыми грязными окнами, проделанными проемами в стенах, пустой колокольней, ободранной крышей! В памяти всплывают строки стихов (не помню автора):
Разрушенная церковь на холме
С затертыми на стенах образами.
Стоит от всех строений вдалеке
И смотрит опустевшими глазами…
Слава Богу, что теперь всё не так!
Это наш храм! Это мой храм!
У людей появилась надежда: жива церковь – будет жить и село!
Православная вера и русское слово –
Это наши сокровища, наша основа.
С ними нам не страшны никакие враги,
Пуще жизни своей ты их, брат, береги.
Если мы этот дар пронесём сквозь века, –
Будет Русь неделима, свободна, крепка,
И народы как дань старине золотой
Назовут нашу Родину Русью святой.
Алевтина Погодина (Лапшина)
III. Жизнь колхозная
В 1930 году 179 крестьянских хозяйств села Михайловское объединились в колхоз, дав ему оптимистичное название «Победа».
В довоенные годы артель получала урожай зерновых в среднем 14 центнеров с гектара, а на отдельных участках – до 35 центнеров. Колхоз был крепким, из передовых. Даже был в числе участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
За годы войны артель дала для нужд Советской Армии 24 тысячи пудов зерна, 1 тысячу пудов мяса, 1700 центнеров молока.
Уже за первые два послевоенных года в колхозе были восстановлены довоенные посевные площади. На полях были введены правильные севообороты с посевом многолетних трав.
Выросло поголовье общественного скота, были созданы свиноферма, овцеферма и птицеферма.
Руководила колхозом в эти трудные годы Полина Андриановна Волгина. Бывшая работница одного из ленинградских заводов, Полина Андриановна в годы коллективизации вернулась в родное село, стала работать рядовой колхозницей, а потом была выбрана председателем правления. В колхоз она перенесла со своего рабочего предприятия опыт и навыки дисциплинированности и требовательности.
С 1947 года колхоз «Победа» стал районным семеноводческим хозяйством по производству семян кормовых трав: клевера и тимофеевки.
В один из мартовских дней 1948 года радостная весть облетела Михайловское. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1948 года за получение высоких урожаев зерновых 16 передовиков колхоза были награждены правительственными наградами. Вот их имена. Медалью «За трудовую доблесть» награждены: Волгина Полина Андриановна – председатель колхоза; Груздев Сергей Александрович – агроном; Колесникова Таисия Павловна – звеньевая; Мирохина Мария Александровна – бригадир; Потёмкина Надежда Васильевна – звеньевая; Сионская Зинаида Ивановна – бригадир; Шабанова Анна Григорьевна – звеньевая; Шубина Екатерина Николаевна – звеньевая.
Медалью «За трудовое отличие» награждены колхозники Баранова Татьяна Михайловна, Груздев Николай Александрович, Карманов Виктор Константинович, Маврина Александра Геннадьевна, Малофеева Мария Васильевна, Соколова Прасковья Александровна, Табачникова Любовь Васильевна, Яновский Иван Карлович.
В 1953 году все деревни Богчинского сельского Совета слились в колхоз, который был назван именем В.И Ленина.
В 1964 году колхоз был преобразован в совхоз-техникум. Село Михайловское стало его производственным участком. Руководство менялось часто: Яков Иванович Долинин, Виктор Васильевич Набатов, Юрий Леонидович Лебедев, Александр Яковлевич Стахин, Нина Степановна Смирнова. Все они были разные по характеру, по подходу к делу, но не было среди них ни одного равнодушного, все силы они отдавали на развитие совхоза-техникума.
Основатель и первый руководитель Я.И. Долинин принял хозяйство, которое имело убытков свыше двух тысяч рублей, и за один только 1965 год хозяйство стало рентабельным, повысилась урожайность посевов и продуктивность скота. Вот она, роль личности в истории!
В 1970-1980 гг. в хозяйстве велось большое строительство. В селе были построены новые производственные помещения, постоянно возводилось жилье. Активизировалась социальная работа. Но грянула перестройка. Даже вспоминать не хочется, во что тогда превратилось это некогда передовое хозяйство и любимое наше село.
Вот и всё, что осталось…
Вот и всё, что осталось…
Скудных красок ноябрьских
усталая малость.
Жухлых трав обреченных
безрадостный шёпот,
Старичков позабытых
неуслышанный ропот…
Да скелеты домов,
в коих радость звенела,
Да земли недоласканной
ещё крепкое тело…
Колоколенки плач,
уловимый лишь сердцем…
…Не могу наглядеться…
Не могу нареветься…
Вера Клевич
IV. Село в годы Великой Отечественной войны.
Наши герои
За ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны двадцать жителей села были награждены боевыми орденами и медалями.
А в центре Михайловского земляки установили памятник павшим сельчанам, на котором высечены фамилии всех защитников Отечества, ушедших из Михайловского и окрестных деревень на фронт и сложивших свои головы на поле брани.
Сорок девять фамилий наших сельчан в этом скорбном списке не вернувшихся с войны.
Обелиск павшим был возведён на средства совхоза-техникума в 1990 году, к 45-летию Великой Победы, по инициативе Алевтины Ивановны Кузнецовой, уроженки села Михайловское.
Обелиск расположен в самом центре села, в живописном месте. Рядом находится пруд, шумят вековые ивы и виднеются обновленные купола отреставрированной церкви.
9 Мая всё местное население, от мала до велика, собирается на торжественный митинг, чтобы почтить память защитников родной земли.
У каждой семьи своя история и свои герои. Расскажу о своих, о Леваниных. Но вначале небольшая справка: в Михайловском по крайней мере три семьи носили эту фамилию. Скорее всего, были дальними родственниками. Одна семья: Леванины – Канавины, вторая: Леванины – Назаровы. Мои родители, поженившись, объединили первые две фамилии в одну. Ещё про одну семью под фамилией Леванины рассказывала мне мама, Леванина Римма Павловна. В той семье жила Тоня Леванина, девушка, которой мама моя искренне восхищалась и которой всю войну писала письма. Тоня прошла войну санитаркой. Больше про неё мне, к сожалению, ничего не известно.
Как бы то ни было, но Леванины – была коренная Михайловская фамилия, чьи семьи разделили со своей страной все трудности и горести, и принесли войне самую дорогую жертву.

«Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой!» Поколение родившихся после войны не знало своих дедушек. Да и дедушками наши воины стать не успели – погибали, приняв на себя невероятные страдания и раннюю смерть, кто в первые же дни войны, как мой дед Павел Константинович Леванин, а кто – в последние ее месяцы, как мой дядя Владимир Павлович Леванин. Но в обоих случаях погибали они совсем молодыми. Бабушки наши всю жизнь оплакивали своих мужей и сыновей. Пропавших без вести – не уставали ждать. Поднимали осиротевших детей и разрушенную страну. Рвали жилы на мужицкой работе. Без слёз и жалоб. Как дорогая моя баба Надя, Надежда Петровна Леванина.
Иностранцы порой умничают: мол, для русских военная тема превратилась в новую религию. Но тут они неожиданно попали в точку. Да, всё, что связано с войной, её чудовищными страданиями и жертвами, для нас, действительно, свято. Мы всегда будем помнить и оплакивать своих героев. Даже если не успели они дождаться заслуженных орденов и медалей, для нас они все – герои.
Пережитое нашим народом потрясение было такой силы, что навечно отпечаталось в народной памяти, вошло в состав нашей души. Стало нашей родовой и генетической памятью. Да разве ж можно это забыть, как моя бабушка по отцу, Клавдия Павловна Леванина, всю жизнь горько оплакивала погибшего на войне сыночка, ненаглядного своего Володеньку! Как была она до последнего своего часа безутешна в этой утрате! И у меня, не знавшей Володеньки, щемит сердце, когда читаю сухие строки военной летописи о короткой, но такой славной, по-настоящему героической жизни моего дяди, Леванина Владимира Павловича, ушедшего на фронт семнадцатилетним мальчишкой, воевавшего в самых жарких военных точках, раненного и контуженного в этих боях, получившего на фронте звание гвардии лейтенанта и орден Великой отечественной войны и погибшего в бою, совсем немного не дожив до Победы. А было ему всего-то 20 лет! Вечная тебе память, милый наш мальчик, наш герой! Наш Володенька.
Леванин Владимир Павлович. Родился в 1924 году в селе Михайловское. На начало войны ему было 17 лет, даже жениться не успел. Дома оставались мать Клавдия Павловна, отец Павел Арсентьевич, которого призвали на фронт позже, сестра Галина 18 лет, брат Юра 14 лет.
По данным из книги памяти Костромской области, Леванин Владимир Павлович был призван на фронт Костромским РВК в 1942 году. Владимир Павлович служил в 158 гвардейском Полоцком Краснознамённом полку 51 гвардейской стрелковой Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии. Дивизия участвовала в прорыве оборонительных рубежей немецких войск северо-западнее Сталинграда, первой из частей 21-й армии ворвалась в город и 26 января 1943 года соединилась с частями 13-й дивизии М. А. Родимцева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за успешные действия при разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом дивизия была награждена орденом Ленина.
После Сталинграда дивизия в составе 6-й гвардейской армии с 5 июля по 23 августа 1943 года принимала участие в Курской битве, в освобождении городов Курск, Белгород, Харьков.
В сентябре 1943 года дивизия была переброшена под Ленинград и в составе 2-го Прибалтийского фронта прорвала оборону немцев северо-восточнее Невеля. С октября 1943 до начала января 1944 года дивизия в составе 2-го Прибалтийского фронта занимала оборону северо-западнее г. Невель, а затем принимала участие в разгроме Невельской группировки противника. В феврале 1944 года дивизия в составе армии передана 1-му Прибалтийскому фронту. Весь этот путь прошёл и наш Владимир. 23.07.1943 года он был легко ранен, а 30.07.1944 контужен. К августу 1944 года Владимир Леванин был членом ВКП(б) и имел звание лейтенанта, занимал должность командира взвода противотанкового ружья. 30.06.1944 в районе д. Белое, Полоцкого района Витебской области, он, действуя умело огнём своего взвода при отражении контратак противника, уничтожил 4 огневые вражеские пулемётные точки и до взвода пехоты удерживал достигнутый рубеж и перерезал дорогу, ведущую на г. Полоцк. Здесь он был контужен, но продолжал выполнять боевую задачу. Приказом 78/н 23 по гвардейскому стрелковому корпусу 1 Прибалтийского фронта от 09.09.1944 года гвардии лейтенант Леванин В.П. был награждён «Орденом Великой Отечественной войны 2 степени».
В сентябре 1944 года дивизия, северо-западнее г. Шауляй, прорвала сильно укреплённую оборону противника и за 5 дней продвинулась более чем на 90 км, нанося большой урон противнику. За успешные осенние бои 1944 года 156-й и 158-й стрелковые полки были награждены орденами Кутузова 3-й степени и Красного Знамени. В одном из этих боёв 14.09.1944 и погиб гвардии лейтенант Леванин Владимир Павлович.
Похоронили бойца в 1 километре севернее ж/д станции Элкуземе, в 2 километрах юго-восточнее Элкуземе, Смайжевского р-на Любавской области Латвийской СССР. После войны были проведены перезахоронения воинов в братские могилы, и теперь могила Владимира Павловича Леванина на Вайнёдском братском кладбище в Лиепайском районе Литвы, где захоронено более 6 тысяч русских воинов. 6 мая 2010 года прошло торжественное открытие мемориала после ремонта, проведённого на средства Российской Федерации.
А теперь самые лаконичные сведения о нашем дедушке Павле. Не успел он ни пожить, ни повоевать. В 29 лет пропал без вести в первые недели войны, оставив безутешной жену и пятерых своих детей. Только память и осталась, как свет далёкой звезды. И ещё – вот эти казённые сведения о недолгой его военной жизни.
Красноармеец Леванин Павел Константинович
Дата рождения (1912 г.р.).
Место рождения: Костромская обл., Галичский р-н, Богчинский с/с, с. Михайловское.
Дата и место призыва: 24.06.1941 Галичский РВК, Костромская обл., Галичский р-н.
Последнее место службы: п/п 695.
Дата выбытия: 10.1941
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Вечная память!
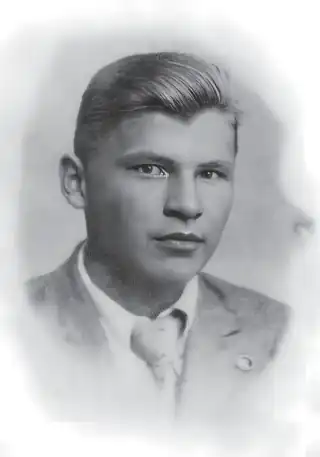

Молодой офицер
Леванин Юрий Павлович. Ещё один наш герой. Родился он тоже в селе Михайловском, Галичского района, 30 сентября 1926 года. Мать – Клавдия Павловна Леванина (Назарова), отец – Павел Арсентьевич Леванин. Юрий Павлович был призван на фронт в начале 1944 года. А было ему 18 лет. Война заканчивалась, и вскоре парнишку направили на учебу в Ярославское пехотное училище – на фронте нужны были младшие командиры. По окончании училища Юрий был направлен на службу в Германию. В 1950 году для дальнейшего несения службы получил направление в Туркестанский военный округ, где прошел путь от лейтенанта до подполковника. Дважды (19641965; 1968-1970) был командирован в Объединенную Арабскую республику (ОАР), где, по приглашению руководства страны, служил в качестве военного советника. Во вторую свою командировку, 1968-1970 гг., подполковник Ю.П. Леванин принимал участие в военных действиях в качестве военного советника.
За безупречную службу на одном из самых сложных участков военной службы, в Туркестанском военном округе, Юрий Павлович Леванин был награжден многочисленными грамотами и медалями, в том числе – медалями «За боевые заслуги» и «Георгий Жуков». А за участие в военных действиях в составе ограниченного советского военного контингента в Объединённой Арабской Республике (ОАР), в 1968-1970 гг., за проявленные мужество и героизм, Ю.П. Леванин был удостоен боевого ордена Красной Звезды.
Ушёл из жизни Ю.П. Леванин 27 февраля 2007 года. Похоронен в Саратове, на Увекском кладбище.

Р.П. Леванина с внучкой Полиной
В память о погибших и пропавших на фронте без вести дорогих земляках
Баллада о погибшем
Он упал, как подкошенный, возле осинки,
Пулемёт прошил на груди три строчки.
И кровинок бусинки, словно слезинки,
Повисли клюквой на болотной кочке.
Он пронзал невидящим взглядом запад,
Он набрал две горсти родной землицы.
И последнее, что помнит, это запах,
Запах дыма последней его границы.
Он не видел уже, как в ночь совиную
Шли ребята, куда глядел его взор.
Он не слышал, как брали окопов линии,
Как зарыли его в пожелтевший осенний бугор.
Не поставили крест у его изголовья
И всего по патрону истратили на салют.
Но звенела всю ночь запоздалая песнь соловья,
Соловья, не желавшего эвакуироваться на юг.
Не пришло похоронки ни маме, ни сыну, ни милой,
Лишь написано было: «Пропал, неизвестно куда».
Вместо памятника выросла ель над могилой,
На вершине ее в ночь горит золотая звезда.
Олег Зайцев
V. Михайловский тыл.
Всё для фронта, всё для победы!
Большой вклад в общее дело победы над врагом внесли наши земляки. Главным образом, женщины. Наши отважные героини. Они трудились не только за себя, но и за тех, кто ушёл на фронт. В 1941 году в ряды Советской армии был мобилизован бригадир одной из колхозных бригад. На его место встала Мария Александровна Мирохина. В 1942 году на фронте смертью храбрых пал её муж. Но это не сломило волю женщины – она с ещё большей энергией руководила своей бригадой, добиваясь больших успехов. В одном из своих выступлений она говорила: «Тяжёлое было время, приходилось работать с раннего утра до самой ночи, а иногда и ночью… Но мы не падали духом, знали, что нашим мужчинам на фронте приходилось в несколько раз тяжелее».
Вспоминает старожил Михайловского Любовь Константиновна Шубина (Котикова): «Я родилась в селе Михайловском в 1930 году. Сейчас живу в Сергиево-Посадском районе, но детские годы, которые пришлись на страшное военное время, нет-нет да и всплывают в моей памяти. Все мужчины нашего села были призваны на фронт. Остались одни женщины да мы, дети. Мы работали наравне со взрослыми: помогали матерям доить коров на фермах, косили траву, теребили лён, собирали на полях колоски. К первому сентября каждый из нас обязан был представить в школу справку о выработанных трудоднях.
Постоянно хорошо работали мои ровесницы-подростки: Нина Малофеева, Зоя и Настя Шубины, Римма Леванина, Валя Потёмкина, Гутя Новинская.
Не зная отдыха, трудились и наши мамы. Во главе всего женского коллектива стояла всеобщая любимица, уже немолодая женщина, председатель колхоза «Победа» Полина Андриановна Волгина. Она обладала твёрдым и решительным характером, умела найти подход к каждому колхознику, бралась за любое дело и доводила его до конца.
Помогая председателю, самоотверженно трудились женщины-бригадиры – Мария Александровна Мирохина и Зинаида Ивановна Сионская. Эти женщины работали и в снег, и в зной, знали, какую работу поручить каждому колхознику. И никто с ними не спорил. Нельзя было услышать в то время «не буду», «не могу», «не хочу». Осенью после уборки урожая все колхозники собирались на праздник. Женщины шили к этому дню простые, конечно, но новые платья; доставали из сундуков туфли своей молодости и танцевали друг с другом, пели песни,
вспоминая своих мужей, которые ушли на фронт».
(Материал взят из реферата «У родных истоков», выполненного библиотекарем Михайловской сельской библиотеки Е.В. Малофеевой. 2007 год)
За трудовые подвиги пятьдесят наших колхозников были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
В газете «Галичские известия» от 4 февраля 2023 года была опубликована статья о Надежде Петровне Леваниной. Статью прислала Светлана Павловна Павлова и написала, что в Галиче в настоящее время собирается материал для создания Книги трудовой славы Костромской области, и эта статья войдет в эту Книгу. Она также сообщала, что её мама, Галина Константиновна Скворцова, уроженка села Михайловского, хорошо помнит бабу Надю и часто её вспоминает. Все, кто знал нашу бабушку, бесконечно её любят и уважают. Я поблагодарила галичан, Светлану Павловну и ее маму Галину Константиновну, за добрую память. Вот эта газетная статья.
Надежда Петровна Леванина (в девичестве Канавина) родилась 29 сентября 1912 года в деревне Лаптево Галичского района, в многодетной семье. В школу довелось ходить всего четыре года, поэтому получила только начальное образование. В возрасте семнадцати лет была выдана замуж за жителя соседнего села Михайловского Леванина Павла Константиновича. Работала в местном колхозе.
В те годы трудиться приходилось много на различных работах, совмещая тяжёлый физический труд в сельском хозяйстве с заботами о большой семье.
У молодых супругов один за другим родилось пятеро детей – два сына и три дочери (Римма, Константин, Владимир, Лилия, Людмила).
Когда началась Великая Отечественная война, уже 24 июня 1941 года Павел Константинович ушёл на фронт. Вся ответственность за семью легла на плечи молодой женщины.
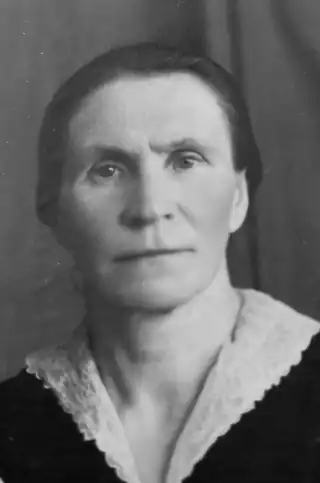
Ещё до войны руководство колхоза доверило Надежде Петровне один из самых сложных участков – заведование животноводческой фермой колхоза «Победа». Катастрофически не хватало грамотности. На помощь маме пришли старшие дети, которые помогали ей вести отчётную документацию.
На ферме Надежда Петровна отвечала за всю работу коллектива доярок, сохранность поголовья, обеспечение животных кормами, выполнение государственного плана. Бывали минуты слабости, отчаяния. Но долго горевать и жалеть себя было некогда.
Под началом Надежды Петровны работали женщины, которые также проводили на войну своих мужей, сыновей, братьев. Нужно было кормить солдат на фронте, жителей городов, беспрекословно выполнять государственные задания. И люди работали, забывая об усталости и отдыхе.
А когда в дом пришла беда – в октябре 1941 года пропал без вести любимый муж, глава большой и дружной семьи – нужно было пережить утрату, стать ещё сильнее, ведь дома на маму надеялись и смотрели пять пар детских глаз. Всех детей подняла Надежда Петровна. Все пятеро получили достойное образование. Звание «Мать-героиня» и Медаль материнства стали наградой за её беззаветный материнский труд.
В мирное советское время Надежда Петровна вступила в партию, её выбирали депутатом районного Совета. Вот какие михайловские женщины ковали в тылу Победу, и победили. Поклон вам до земли!
Горит в веках твоя звезда!
Тебя Батыева орда
Четвертовала на заставах,
За вольный нрав поляки жгли,
В твои пределы смерть несли
Казанцы на мечах кровавых.
Исчезли все твои враги!
Свою свободу береги,
Храни в душе былую славу!
Тебе подвластна даль дорог;
За нас Россия, с нами Бог,
И мы в ответе за державу.
Грядущим днём озарена
Поёт озёрная волна,
И рощи осеняют нивы,
В лазурь холмы вознесены.
Тобою, Галич, мы славны,
Тобою, Родина, мы живы!
VI. Наши славные земляки
Скажу честно: для меня мои земляки – не просто замечательные, родные! Михайловские крестьянки и их дети – рабочие, учителя, инженеры, шахтеры, военные. Честные труженики. Все они были выращены нашими бабушками-вдовами в трудные военные и послевоенные годы. Благодаря Советской власти дети не просто выжили, но получили образование, состоялись и в профессии, и в жизни. Есть, конечно, и особо отличившиеся: ученые, писатели, художники, настоящие полководцы. Они предмет особой гордости моих земляков.
Шабанов Виталий Михайлович
(1923–1995)
С именем генерала армии Виталия Михайловича Шабанова, видного конструктора и военачальника, занимавшего с 1978 по 1990 год должность заместителя министра обороны СССР по вооружению, в летописи наших Вооруженных Сил связана особая страница. Во многом благодаря его таланту военного инженера, крупного организатора исследований и разработок в области создания новейших образцов вооружения и военной техники, арсенал армии и флота пополнился первоклассными ракетными комплексами стратегического назначения, боевыми самолетами и машинами, многие из которых и по сей день составляют основу боевой мощи России. Весом был его вклад в разработку и реализацию основополагающих государственных программ и планов развития вооружения и военной техники в 80-е и 90-е годы XX столетия. В 2023 году отметили двойной юбилей В. М. Шабанова – 80-летие со дня его рождения и четверть века назначения на должность, ставшую своеобразным Олимпом в его жизни, отданной беззаветному служению Родине.
Виталий Михайлович Шабанов родился 1 января 1923 года в деревне Лобачи, Галичского района, Костромской области. Это в полукилометре от Михайловского. В 19401945 годах, после окончания средней школы, учился в Ленинградской военно-воздушной инженерной академии имени А.Ф. Можайского. Войсковую стажировку в 1943-1944 годах проходил в истребительном авиационном полку в составе 1-го Украинского фронта.
В 1945-1949 годах работал инженером-испытателем и помощником ведущего инженера по испытаниям авиационной техники в НИИ ВВС, после чего был переведен в Специальное бюро № 1 (СБ-1) Наркомата вооружения (в последующем ЦКБ «Стрела», а ныне ОАО «Научно-производственное предприятие «Алмаз»). Обусловлено это было тем, что период конца 40-х – начала 50-х годов ознаменовался в нашей стране переходом к разработке качественно новых видов вооружения и военной техники. Для обеспечения их создания в оборонные КБ и на предприятия промышленности Министерство обороны откомандировало свои лучшие инженерные кадры, в числе которых был и Виталий Михайлович Шабанов. Ему довелось принять самое непосредственное участие в разработке и испытаниях первой в нашей стране авиационной радиоуправляемой системы «Комета», создание которой было поручено СБ-1 в 1947 году. В состав системы «Комета» входили самолёт-носитель Ту-4 с бортовым радиолокатором и станцией наведения снаряда и сам крылатый самолет-снаряд с автопилотом и станцией (головкой) самонаведения.

Обладая высокой профессиональной подготовкой и технической эрудицией, Виталий Михайлович принимал активное творческое участие в отработке и испытаниях всех основных блоков аппаратуры наведения и головки самонаведения снаряда. Во всех отношениях это была сложнейшая работа, т.к. до этого в нашей стране не было не только опыта разработки таких систем, но и теоретической базы разработки контура управления «радиолокатор – снаряд — цель».
Можно без преувеличения сказать, что создание СБ-1 первой системы такого рода явилось по существу основной базой для разработки всех последующих радиоуправляемых систем вооружения, включая самые современные.
Несмотря на все теоретические, организационные и технические трудности, работы по созданию системы «Комета» быстро продвигались, и в 1952 году она была представлена на госиспытания. После нескольких успешных телеметрических пусков группа испытателей, в состав которой входил и заместитель начальника отдела СКБ № 1 Виталий Михайлович Шабанов, 21 ноября 1952 г. осуществила боевой пуск самолета-снаряда по реальной мишени – крейсеру. Через 3 минуты после прямого попадания снаряда крейсер затонул.
За активное и плодотворное участие в создании и испытаниях системы «Комета» В.М. Шабанов был отмечен Государственной премией и награждён орденом Ленина.
С середины 50-х годов Виталий Михайлович, уже будучи на посту главного конструктора СКБ № 1, руководил разработкой систем типа К-20 и К-22, предназначавшихся для поражения наземных целей и по принципам своего функционирования аналогичных системе «Комета». Обе системы успешно прошли испытания, были приняты на вооружение и длительное время эксплуатировались. Они ещё раз показали техническую зрелость их разработчиков.
За создание системы К-22 для самолетов Ту-95 и Ту-22М В.М. Шабанов был второй раз удостоен Государственной премии.
В конце 60-х годов СКБ № 1 получило задание на разработку широко известной в настоящее время зенитной ракетной системы С-300П. Виталий Михайлович принимал активное участие в работах по её эскизному проектированию. В 1972 году он был назначен генеральным директором ЦКБ «Алмаз».
В 1974 году В.М. Шабанов назначается заместителем министра радиопромышленности СССР. К тому времени он был уже генерал-майором, кандидатом технических наук, лауреатом Ленинской премии и дважды лауреатом Государственной премии.
С 1978 года Виталий Михайлович Шабанов — заместитель министра обороны СССР по вооружению. С тех пор вся его жизнь стала принадлежать армии и флоту, решению сложнейших задач по организации сводного планирования развития, заказов и оснащения Вооруженных Сил высокоэффективными образцами вооружения и военной техники.
Возглавляемый Виталием Михайловичем аппарат заместителя министра обороны СССР по вооружению обеспечил разработку и принятие на вооружение в 80-х годах прошлого столетия ряда самых современных для того времени образцов вооружения и военной техники (ракетные комплексы стратегического назначения наземного и морского базирования, комплексы космической разведки и др.). Многие из этих образцов и в настоящее время обеспечивают безопасность нашей Родины.
В новой должности Виталию Михайловичу пришлось, используя огромный опыт, накопленный на руководящих постах в оборонно-промышленном комплексе страны, много сделать и для того, чтобы обеспечить Ограниченный контингент войск в Афганистане теми образцами и системами вооружения и военной техники, которые отвечали специфике боевых действий и сложным физико-географическим и климатическим условиям. При этом огромное внимание уделялось работам, направленным на повышение боевой живучести разрабатываемых и модернизируемых образцов.
Показательными в этом отношении являются штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24. Созданные, испытанные и принятые на вооружение в те годы, они нашли широкое применение в жарком небе Афганистана для уничтожения наземных целей и живой силы противника. Кабина летчика и наиболее жизненно важные системы и агрегаты Су-25 были защищены бронеплитами, для защиты головы летчика от опасного в ущельях огня с боков и сверху на фонаре самолета были установлены бронешторки, сам самолет оснащён двухдвигательной силовой установкой, которая является более предпочтительной с точки зрения живучести в условиях огневого противодействия противника.
Вертолеты Ми-24 также постоянно подвергались доработкам с целью улучшения их защищенности от огневого воздействия противника и повышения эффективности применения. Так, баки, на которые приходилось 90 процентов повреждений топливной системы, стали заполнять пенополиуретановой губкой. На борту вертолета была установлена станция активных помех, а для защиты от ПЗРК использовались кассеты инфракрасных ловушек.
В те годы также получили «путевку» в жизнь известные всему миру самолеты Ту-160, Су-27, МиГ-29 и другие летательные аппараты.
Большое внимание Виталий Михайлович уделял развитию и совершенствованию техники и вооружения Сухопутных войск. В период нахождения его на должности заместителя министра обороны СССР по вооружению было создано третье послевоенное поколение танков. Так, например, танк Т-80БВ имеет низкий силуэт, что повышает его боевую живучесть на поле боя. Для постановки дымовых завес на нем установлены дымовая аппаратура и дымовые гранатометы.
Танк Т-80У имеет улучшенные возможности ведения огневого боя вследствие установки на нем комплекса управляемого вооружения, а также повышенные показатели подвижности благодаря применению на нем более мощного двигателя. В этом танке реализованы лучшие решения отечественного танкостроения, обеспечены оптимальные габаритные и весовые характеристики.
В этот же период были созданы боевая машина десанта (БМД-2), решающая задачи парашютного десантирования, и новый колесный бронетранспортер БТР80 с дизельным двигателем и усиленной бронезащитой. Ракетно-артиллерийское вооружение того периода было пополнено такими системами, как ракетный комплекс «Точка», зенитный ракетный комплекс «Куб», самоходное орудие «Нона-С», гаубица «Мста» и другими, обладающими большой огневой мощью, образцами.
80-е годы характеризовались также и крупномасштабными изменениями и достижениями в области автомобилестроения для нужд Вооруженных Сил. В этот период наибольшее развитие получили специальные колесные шасси и тягачи для монтажа вооружения и военной техники. Возросла их грузоподъемность, увеличилась подвижность. Оригинальной разработкой того периода явилось создание специального колесного шасси особо большой грузоподъемности МАЗ-7917 с колесной формулой 14x12.
Обладая системным мышлением и научным предвидением, генерал армии Шабанов В.М. много сделал для совершенствования и внедрения современных методов программно-целевого обоснования перспектив развития вооружения и военной техники для наших Вооруженных Сил. Под его непосредственным руководством были разработаны и обоснованы три долгосрочные программы вооружения (ПВ-85, ПВ-90, ПВ-95). Созданные в процессе реализации этих программ образцы и системы вооружения и военной техники до сих пор составляют основу боевой мощи не только Вооруженных Сил России, но и многих других государств мира.
Большая и плодотворная деятельность В.М. Шабанова была отмечена званием Героя Социалистического Труда и многими орденами. Он избирался депутатом Верховного Совета Союза ССР и Съезда народов СССР.

Большие организаторские способности Шабанова Виталия Михайловича, его высочайшая техническая эрудиция, требовательность и умение работать с людьми снискали ему авторитет и уважение всех, с кем он служил и работал.
В памяти товарищей генерал армии Шабанов Виталий Михайлович навсегда останется одним из выдающихся деятелей, внесших весомый вклад в создание оборонного потенциала нашей Родины.
Виталию Михайловичу Шабанову поставлен единственный памятник – на его могиле, на Кунцевском кладбище. И это неправильно, это мало! Потомки должны знать своих героев! Ведь Виталий Михайлович Шабанов – один из выдающихся советских конструкторов и военачальников, внесших существенный вклад в создание оборонного потенциала нашей Родины. Он достояние не просто Лобачей, Галича – всей России!
Как всем миром восстанавливали храмы и веру, так всем миром надо восстановить и историческую память! Давайте поставим в Галиче настоящий народный памятник нашему великому земляку.
Макунин Анатолий Иванович
Есть у нас и ещё один свой славный генерал. Тоже из числа настоящей элиты вооруженных сил нашей страны.
Макунин Анатолий Иванович (1931, г. Галич Ивановской промышленной (ныне Костромской) обл. — 1995, г. Москва) — военачальник. Из рабочей семьи. Выпускник Галичской средней школы (1948), Ленинградского Краснознаменного военно-инженерного училища имени А.А. Жданова (1954) и Военно-политической академии имени В.И. Ленина (1974). Военнослужащий срочной службы Советской Армии (1949-1991). Член (1954) и делегат XXVIII съезда (1990) Коммунистической партии Советского Союза. Заместитель по политической части командиров роты, полка и дивизии (1960-1970-е). Начальник политических управлений Южной группы войск (1984-1987) и Краснознаменного Московского военного округа (19871991). Член Военного совета Министерства обороны СССР (1984). Депутат Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва (1985-1990). Генерал-лейтенант (1985) в отставке (1991). Кавалер орденов, медалей, нагрудных знаков и др. Славную жизнь прожил наш земляк. Достойную.
Книга Почёта Костромской области, т. 2 https://proza.ru/2022/03/05/1283
Скворцов Валентин Константинович
учитель и художник

Родился Валентин Константинович 3 июня 1929 года в селе Леонтьево Судиславского района Костромской области. Вале было всего пять лет, когда умер отец, Константин Фёдорович Скворцов, священник Троицкой церкви села Леонтьево. Валентин начал учиться в Богчинской школе Галичского района, закончил обучение в школе села Мостище. Годы его учёбы в Мостищенской школе совпали с трудным, голодным военным временем.
Он с детства любил рисовать. Окончив школу, в 1946 году поступил в Галичское педучилище, а затем учился в Костромском художественном училище. В 1955 году он окончил Галичский учительский институт, а в 1961 году – Ярославский государственный педагогический институт имени К.Д. Ушинского по специальности «География». В 1960 году он перешел на работу в Галичское педагогическое училище в качестве преподавателя ИЗО. Валентин Константинович также много лет проработал заместителем директора педучилища по учебно-воспитательной работе. В Галичском педагогическом училище он проработал всю свою жизнь.

В свободное от работы время Валентин Константинович Скворцов постоянно был занят художественным творчеством. Его картины, выполненные в различной технике и посвящённые родному краю, природе и людям, поражают точностью изображения, сочными красками… На его полотнах то, что всегда было близко автору: родные просторы, буйство весенней природы, спокойная тишь зимы, ежедневная жизнь горожан, не изменившаяся за века, и в то же время постоянные изменения, видимые лишь тому, кто умеет наблюдать. На портретах Валентина Скворцова – близкие и простые лица. Его работы становились украшением музейных экспозиций, раздаривались друзьям и знакомым… Много работ посвящено его любимым местам. Смотришь на его картины – так и слышишь плеск волн на озере, шум весеннего ручейка, вдыхаешь аромат свежего сена, любуешься красотой леса и сельских храмов.
По просьбе Благочинного Галичского округа отца Александра (Шастина) для городского музея Православного Духовно-культурного центра Валентин Константинович Скворцов написал два исторических полотна: авторское – «Приезд в Галич Московского митрополита Фотия летом 1425 года» и копию с картины П.П. Чистякова, изображающую исторический сюжет, непосредственно касающийся истории Галича – «Софья Витовтовна срывает драгоценный пояс с князя Василия Косого на свадьбе Василия II Васильевича».
Валентин Константинович не раз получал от администрации города и области благодарности и награды.

Он был награждён медалью «За заслуги перед городом Галичем» и многочисленными грамотами за успехи в педагогической деятельности. Его кандидатура была выдвинута земляками на аллею трудовой Славы. Но главным своим успехом Мастер всегда считал не награды, а многочисленных учеников, всех тех, кто не просто смог стать учителем, а научился видеть окружающий его мир в настоящих красках.
Умер Валентин Константинович Скворцов 17 июня 2019 года. Всю свою жизнь до последних дней он был очень добрым, чутким, скромным человеком. У его родных, коллег и учеников остались о нём только светлые, тёплые воспоминания.
Где-то в дебрях глухих
Берегут чистоту родники;
Над лесными селеньями
Ярче далёкие звёзды…
Где ещё чудаки
Кормят птиц с огрубевшей руки,
Не зоря понапрасну
Свои и звериные гнёзда.
Где бинтуют берёзы
Извечные раны Руси,
И всегда в утешенье
Печаль твою выплачут ивы;
Где в предутренний час
Мир, – как в день сотворенья красив, –
Полнясь светом Творца,
Замирает на миг молчаливо…
Здесь ютится Россия,
В глухих потаённых местах,
В чистоте сберегая
Святую, великую душу
От разврата и срама,
Во имя Творца и Креста,
Греясь верой в Него
В мировой свирепеющей стуже.
VII. Михайловское в судьбах человеческих
Светлана Павлова
Петров день
биографический очерк
С детства помню картину, что и сейчас висит над столом у нас дома – «Грачи прилетели» Саврасова. Такая известная, знакомая, родная, она и сейчас живо напоминает мне о моей родине. А тогда, в детстве, я просто была уверена, что на картине именно моё родное Михайловское, где я появилась на свет, и мой дом у церкви, в которой когда-то служил мой прадед отец Алексей.
Когда мне исполнилось четыре года, наша семья переехала в Галич. Смутно помнятся события раннего детства, однако тянет в родные места, хочется бывать там хоть изредка.
И вот в ясный теплый день 12 июля иду знакомой тропочкой в своё село. Кругом разноцветье. Белой стайкой смотрятся в зелёной траве кустики ромашек, кое-где синеет мышиный горошек, пижма уже выпустила пока еще крохотные желтоватые пуговки. Попадаются возле тропки бледно-розовые колокольчики вьюнка, а чуть подальше, на пригорках, робко раскрывает свои первые лиловые цветочки кипрей.
Вспоминаю, как когда-то этой же дорогой ходила на работу в город, в Пятую школу, моя мама – Галина Константиновна Павлова. Спешила рано утром на уроки, домой в Михайловское возвращалась чаще всего затемно. Та же дорога, да не та. Столько изменилось за прошедшие годы! Город заметно вырос, целая улица новых домов выстроилась вдоль дороги, а раньше здесь были поля, поля до самого Михайловского. Как рассказывала мама, стояли возле дороги три большие берёзы, у которых часто останавливались люди, чтобы передохнуть и двинуться дальше. Раньше, в основном, ходили по этой дороге пешком. Теперь здесь асфальт, и с большой скоростью мчатся мимо машины.
Вот и на центральной улице Михайловского теперь асфальт. Лишь полчаса потребовалось мне, чтобы дойти до храма от автобусной остановки у школы.
Сегодня в Михайловском престольный праздник – Петров день. Тянется народ к церкви на молебен. У самого входа в храм встретилась мне молодая женщина с маленьким мальчиком. Мальчуган уставился на меня любопытными глазёнками и радостно сказал: «Здравствуйте!» Я, ответив, улыбнулась ему, прошла вслед за ними в храм и была поражена тем, что увидела. Вспомнила, как год назад, в холодный ветреный день отец Андрей служил здесь молебен. Не было тут ни пола, ни дверей, ветер гулял по храму, влетая в оконные проёмы. Кругом было ощущение запустения и заброшенности. Теперь же совсем другая картина. Пол выложен белой плиткой, потолок побелен. Чисто, светло, торжественно.
В передней части храма стоят леса, там еще идут реставрационные работы. В открытые окна влетают ласточки, снуют туда-сюда, кружатся под куполом.
Народу в церкви немного, в основном местные женщины, многие с детьми. Вслушиваясь в слова молитвы, я невольно подумала о символичном совпадении: последним священником, перед закрытием церкви в 1937 году, был отец Алексей Тихомиров, и теперь возрождать храм тоже доверено отцу Алексею.
Своего прадеда отца Алексея Тихомирова знаю я только по рассказам мамы и бабушки. Моя бабушка Мария Васильевна Скворцова (Попова) рано осталась без матери. С двух лет её воспитывала тетя, сестра матери, Таисья Петровна.
Таисья Петровна с родителями жила в селе Исупове. У них был свой дом, большое хозяйство. Отец, Виноградов Петр Алексеевич, служил диаконом в Троицкой церкви.
Таисья Петровна вышла замуж за Алексея Ивановича Тихомирова. Я знаю, что Алексей Иванович родился 17 января 1874 года в селе Рожново. Его отец Иван Дмитриевич Тихомиров был пономарем Рождество-Богородицкой церкви в Рожнове. Учился мой прадед в Костромской Духовной семинарии. С 1895 по 1899 год был учителем церковно-приходской Спасо-Верховской школы. С марта 1899 года он был назначен диаконом в Исупово. В клировой ведомости Троицкой церкви села Исупово есть запись про моего прапрадеда, отца Таисьи Петровны Петра Алексеевича Виноградова: «Вышел за штат 8 февраля 1899 года по причине сдачи своего места зятю».
Бабушка рассказывала мне, что в Исупове был сильный пожар, полсела сгорело, в том числе и дом Тихомировых. В 1906 году Алексея Ивановича перевели в Николаевскую церковь города Костромы, где он служил псаломщиком. В 1908 году он был рукоположен во священника Афанасие – Кирилловской церкви погоста Замошье. Состоял законоучителем Завражьинской земской школы. В клировой ведомости Афанасие – Кирилловской церкви погоста Замошье Костромского уезда за 1914 год записано, что Алексей Иванович Тихомиров «имеет темно-бронзовую медаль и свидетельство за труды по переписи населения 1896 года. Имеет крест и медаль в память 300-летия Дома Романовых. В 1914 году награжден набедренником». В Замошье тоже случился пожар, и дом Тихомировых снова сгорел. С сентября 1917 года отец Алексей переведен в село Рожново. Когда семья переехала в Михайловское, мне точно неизвестно, но я знаю, что Алексей Иванович был настоятелем храма Михаила Архангела до 1937 года.
Как священник, он пользовался большим авторитетом в селе. Был очень умный, образованный. Часто к нему приходили больные, он помогал им, давал советы.
Был он строгий, требовательный к себе и к людям.
Мама как-то вспоминала, что Таисья Петровна хорошо знала молитвы, постоянно читала их дома, а в церкви любила петь на клиросе, но слух у неё был неважный. Зато у Алексея Ивановича слух был отличный. Однажды отец Алексей в церкви подошёл к ней и сказал: «Матушка, вот тебе просфора, только уйди с клироса». Таисья Петровна, конечно, обиделась. Но что поделаешь? – Пришлось уйти. Понимала, что Алексей Иванович прав.
Моя бабушка Мария Васильевна вышла замуж не по любви. Она в 1913 году окончила Костромское епархиальное училище и была направлена в деревню Осиновик учительницей. Отработала там два года с большим желанием. Ей нравилось заниматься с деревенскими ребятишками, её уважали и любили родители учеников. Стала бы и дальше трудиться в школе, но Алексей Иванович решил по-другому. Привёл к ней молодого священника и сказал: «Мария, пора выходить замуж. Вот тебе жених». Что тут делать? Конечно, можно было отвергнуть такое предложение, поспорить, но не так была воспитана Мария, не посмела пойти против воли своего дяди, который во многом заменял ей отца. И в 1915 году Мария стала женой Константина Скворцова, только что окончившего Костромскую духовную семинарию. И хоть вышла за него не по любви, но потом, как она сама рассказывала, всей душой полюбила своего Костю.
Алексей Иванович никогда не курил и не употреблял спиртного, но всегда у него в запасе было хорошее вино, чтобы при случае угостить друзей и знакомых. К нему приходили многие жители Михайловского и окрестных деревень. Был он благочинным, поэтому нередко у него дома по разным делам собирались священнослужители.
Мама помнит, что к Алексею Ивановичу часто приходила одна женщина – Ольга Ивановна Барыкова, барыня из Готовцева. Бабушка Таисья говорила, что она не православной веры. Они подолгу беседовали, спорили, доказывали что-то друг другу. После этих бесед Алексей Иванович сидел подолгу в кресле и о чём-то сосредоточенно думал.
…Неожиданно прихожане, стоявшие впереди меня, расступились, пропуская к выходу из храма молодую маму с ребенком. Мальчишка крепко спал на руках у матери.
«Ишь, как заснул Мишка», – улыбаясь, тихо перешёптывались женщины.
Молебен подходил к концу. Отец Алексей читал записки о здравии, и я старалась уловить в его словах имена своих родных.
Под куполом храма по-прежнему кружилась ласточка.
«Какой же сегодня славный денек!» – подумала я, выходя из храма, и зажмурилась от яркого солнца. Настоящий Петров день, разгар лета! Слабый ветерок наносил запах клевера, душистой травы. Теперь мой путь лежал на сельское кладбище. Справа от шоссе – травянистая дорожка, уводящая вдаль, к лесу. Когда-то в далеком детстве ходила я туда с родителями за ягодами, за грибами. Самым интересным для нас, детей, был переход по туннелю под железной дорогой. Подземный ход, таинственный, страшный, темный, где, того гляди, встретится Баба Яга или злой колдун – таким представлялся нам этот переход. И вот, героически преодолев все страхи, выходим на другой стороне железной дороги и сразу попадаем в лес, такой светлый, зеленый и приветливый. Я очень любила эти походы. Как-то, помню, дядя Валя, брат моей матери, сказал за завтраком: «Кто плохо есть будет, в лес не пойдёт». Что делать? Хоть и не хочется, берёшься за ложку. Ведь если не возьмут в лес, это для меня настоящая трагедия.
Кстати, дяде Вале, Валентину Константиновичу Скворцову, сегодня, наверное, вспоминается другой, далёкий Петров день, который запомнил он на всю жизнь. Было это во время войны. Лето стояло жаркое, так что к середине июля уже поспели первые ягоды лесной малины. Отнести из Мостища в Михайловское бабушке Таисье Петровне в подарок корзиночку свежих ягод и вызвался Валя. Дорога неблизкая, километров десять, но для двенадцатилетнего деревенского мальчишки привычная.
Всё бы хорошо, но когда Валя приближался к Богчину, от которого до Михайловского рукой подать, неожиданно быстро полнеба закрыла зловещая чёрная туча с беловатым отливом, и загромыхал гром. Мальчик ускорил шаг, надеясь до начала дождя добраться до бабушкиного дома. Но туча стремительно надвигалась. Зашумел ветер по деревьям, упали на землю первые капли дождя. Валя уже миновал Богчинский детский дом, когда сильный порыв ветра чуть не сшиб его с ног, совсем близко засверкали молнии. Испуганный мальчуган успел добежать до ближайшей рощи, чтобы укрыться там от непогоды. Но что это? Деревья вокруг него начали падать, а с неба посыпался град, больно ударяя по голове и по всему телу. Валя в ужасе заметался, не зная, куда деваться. С невероятной силой его подбросило в воздух и швырнуло в яму прямо под упавшее дерево. Мальчик плакал, кричал от ужаса, трясущимися ручонками крепко сжимая корзиночку с малиной.
Когда ураган закончился, лежавшего на земле Валю, едва живого, до ниточки промокшего, избитого градом, нашли и привели в детский дом воспитатели. Ребенка успокоили, напоили горячим чаем, переодели во все сухое и только тогда отпустили в Михайловское к бабушке. Таисья Петровна встретила его со слезами. Она была потрясена случившимся и одновременно радовалась, что внук остался жив. На дне корзиночки лежали размокшие жалкие остатки мятой малины…
Смерч, который пронесся в тот день над Михайловским, доставил много неприятностей сельским жителям. Все посевы на полях были побиты градом, со скотного двора ветром сорвало и унесло крышу, в окнах домов выбило стекла. А так как произошло все это не когда-нибудь, а именно в Петров день, колхозники, ежедневно работавшие в поле, не признавая ни выходных, ни праздников, восприняли стихию природы как Божье наказание. С тех пор всеми стало неукоснительно соблюдаться правило – не работать в выходные и праздники.
Слева от дороги – Михайловское кладбище. Вот здесь, под высокими березами, похоронены мой прадед, отец Алексей, и прабабушка Таисья Петровна. Тут всегда прохладно, тенисто. Могилы в порядке. Спасибо, следят за ними жители села.
Прошлым летом ограда была уже ржавая. Собралась её покрасить, попросила помочь знакомого паренька. Пришла сюда первой. Издали посмотрела на ограду. Вроде ещё и красить-то её рано, вполне хорошо смотрится. А когда оказалась совсем рядом, так и ахнула – да ведь всё уже покрашено! Ярко-синяя ограда блестит, как новенькая! Тут с банкой краски подъехал на мотоцикле Андрей. Посмеялись мы с ним, подновили кресты на могилах у бабушки с дедушкой. Андрей уехал в Галич, а я пошла в село узнать, кто же так нежданно-негаданно нас опередил. Оказалось, это постаралась Римма Павловна Леванина. Перед своим отъездом в Саратов наняла человека, который привел ограду в порядок. Вот такие неравнодушные жители в Михайловском.
Присев на березовый пенек, я задумалась. Бабушка с дедушкой лежат здесь, в Михайловском, а где-то в Костроме похоронен их сын Леня…
Вдруг всплыл в памяти такой же, как сегодня, яркий, солнечный день. Мне двадцать пять лет. Позади трудный и одновременно счастливый мой самый первый учебный год в качестве учителя начальных классов в седьмой школе. Столько всего пережито! Были и неприятности, и ошибки, и успехи, и радости. И вот все мои ребятишки благополучно справились с годовыми контрольными и перешли во второй класс. А теперь – отпуск, море солнца и чистого воздуха, двадцать чудесных незабываемых дней путешествия по Волге, Ладожскому и Онежскому озерам на теплоходе «Дмитрий Пожарский». Но какой же отдых без книги? Вот тогда-то, выбирая книгу в библиотеке теплохода, я и наткнулась на этот сборник под названием
«Блокадные новеллы». Не могла сразу сообразить, чем же привлекла меня фамилия автора, почему она показалась мне знакомой? А потом вспомнила: да, я же знала из рассказов мамы и бабушки, что он, ленинградский писатель Олег Шестинский, жил во время войны в Михайловском, в доме Таисьи Петровны. На этом мои открытия не закончились. Читаю книгу и нахожу новеллу, начинающуюся с таких строк:
«Дом был поповский, старинный, с чуланчиками, кладовыми. В жаркое лето рассыхался и поскрипывал каждой дощечкой, а в осенние дни чернел и облезал.
Когда-то в нём было богато и шумно. Сына поп послал в Кострому, в семинарию. Да так и ахнул, когда весной восемнадцатого года вернулся сын не благолепным молоденьким священником, а красным комиссаром со звёздами на рукавах и на потрёпанной буденовке…»
Да это же про наш дом, где жили мои прадед и прабабушка, где родилась и я! Это же про них, Алексея Ивановича, Таисью Петровну и их сына Леню! Читаю дальше, встречаю знакомые и вымышленные имена. Многое в жизни было совсем не так, как описывает автор, но одно несомненно: сын Алексея Ивановича выбрал в жизни путь революционной деятельности. Очевидно, что отец Алексей с пониманием воспринял такой выбор сына, потому что отношения между ними, по рассказам родных, всегда были прекрасными.
Жизнь Леонида Тихомирова была трудной и короткой. Помню, вспоминала бабушка о том, как во время ночного пожара Леня, будучи ещё подростком, быстро, не поддаваясь панике, оделся, ловко выбрался через окно из горящего дома и помог выбраться сестре. До революции нередко ему приходилось скрываться от полиции. Как он сам писал в своем дневнике, прятался у сестры Марии, то есть моей бабушки, видимо, когда она работала учительницей в Осиновике. После 1917 года был он военным комиссаром в Солигаличе, потом работал в Костроме в отделе народного образования. Женился Леонид на девушке из богатой семьи из поселка Красное-на-Волге под Костромой. Варвара Кондырева была очень красива, но плохо приспособлена к жизни.
Вскоре после женитьбы сына Таисья Петровна встретилась у колодца с соседкой. Разговорились о том, о сём.
– Матушка, как же вам тяжело, наверное, неприятно. Ведь Лёня-то с Варей не венчаны, – посочувствовала та.
– Венчаны, венчаны, – шепотом поспешила поделиться своей радостью Таисья Петровна. – Отец Алексей вечером водил их в храм, там и обвенчал.
– Ну, и хорошо, ну, и слава Богу!
Прошло время, этот разговор забылся. Но пришло в родной дом письмо от сына.
«Мамочка, что же Вы наделали?! – пишет Леня. – Кому рассказали про наше с Варей венчание? Сколько неприятностей мне пришлось из-за этого пережить!»
Заохала, заахала Таисья Петровна. Жалко Лёнечку! Господи, и зачем только сказала соседке про венчание! Да теперь уже поздно, ничего не изменишь.
Наладилась у Лени семейная жизнь, родились дети, а тут новая страшная беда обрушилась на родителей. В 1924 году пришла из Костромы горестная весть о том, что Тихомиров Леонид Алексеевич утонул в Волге.
Как пережить такую беду матери? Что может быть страшнее, чем потеря единственного сына? Таисья Петровна так разболелась, что не смогла поехать на похороны. Отправился в Кострому только Алексей Иванович. Вернулся в Михайловское он не один. Привез с собой мальчика, Лениного сынишку. Варвара, неожиданно оставшись без мужа, лишившись его поддержки и опоры, просто не знала, как теперь дальше жить, как вырастить и воспитать двоих детей. Видя её полную растерянность, отец Алексей сказал: «Мальчика мы возьмем, а девочку уж сама воспитывай. Всё полегче тебе будет».
Прошел месяц, другой. Субботним вечером, когда отец Алексей собирался на службу, а Таисья Петровна хлопотала по хозяйству, кто-то постучал в дверь.
– Эй, хозяева, принимайте внучку! – раздался хриплый мужской голос. Таисья Петровна выглянула в окошко, ахнула и, накинув платок, выбежала на крыльцо. Следом за ней вышел Алексей Иванович. Возле дома стояла запряжённая лошадь, около которой нетерпеливо переминался с ноги на ногу бородатый мужичок низенького роста в потёртых штанах и расстегнутой на груди рубахе. Увидев хозяев, он слегка поклонился.
– Из Костромы еду. Варвара Ивановна послала вам девочку, внучку.
На телеге, в сене, покрытый одеялом спал ребенок. Алексей Иванович взглянул на девочку, сразу всё понял, покачал головой.
– Варвара Ивановна прислала, – повторил мужичок.
– А ты кто же ей будешь? – неодобрительно взглянув на приезжего, спросил отец Алексей.
– Да никто, батюшка. Проезжал мимо её дома, попросил воды попить. Сказал, что еду в Галич, вот она и упросила взять девчонку. Возьми, говорит, отвези её старикам в Михайловское, не знаю, что с ней делать. Ну, я и взял… Он смущённо замолчал, заметив, чтохозяин сердится.
Алексей Иванович, нахмурившись, осторожно взял ребенка на руки. Девочка была худенькая и лёгонькая. Проснувшись, она заплакала, размазывая кулачками текущие по щекам слезы. Одновременно зарыдала и Таисья Петровна.
– Бедняжка, да как же тебя мамка одну отправила, такую-то малышку! – хотела погладить девчушку по головке – и невольно опустила руку. – Смотри-ка, отец, да у неё вся голова в коростах, а глазки-то красные, воспалённые!
– Ладно, матушка, – строго оборвал её Алексей Иванович. – Давай-ка кашки свари да воды погрей. Накормить её надо и вымыть, а мне на службу пора.
Вот так и появились в семье Тихомировых дети. Ким и Майя – такие имена дала им мать Варвара. Отец Алексей окрестил внучат в храме, назвав их при крещении простыми православными именами – Александр и Нина. Шло время. Дети росли, про маму и не вспоминали.
А Варвара, видимо, соскучившись по ребятишкам, приезжала как-то летом в Михайловское погостить. Но недолго пожила она в доме у Алексея Ивановича. Шурик и Нина привыкли к своей новой семье и восприняли появление матери совершенно равнодушно, не обращали на неё внимания. Отец Алексей держался с ней подчеркнуто вежливо и холодно, называя не иначе, как только по имени-отчеству – Варвара Ивановна. Лишь только Таисья Петровна старалась как-то сгладить отношения, была добра и приветлива, жалела Варю и обращалась с ней, как с дочерью.
Во внуках бабушка Таисья души не чаяла. А дедушка воспитывал их в строгости, приучал к порядку.
Бывало, в жаркий летний день набегаются ребята, наиграются. Придут домой обедать, разгорячённые, потные, пить хочется. Только дедушка за столом больше одной чашки сам не пил и детям не давал: считал за распущенность, когда много пьют. Выпил чашку – всё, вылезай из-за стола. Выручала бабушка: уйдёт дед в храм на службу или в баню мыться, сейчас же тихонько звала ребят и давала им напиться вволю.
Шурик рос весёлым, шаловливым и очень подвижным мальчишкой. Когда дедушки нет дома, пойдёт бабушка Таисья проверять, чем занимаются ребята, учат ли уроки. Нины и не слыхать, а звонкий голос Шурика и его смех раздаются издалека. Значит, снова не делом занимается, дурака валяет.
– Шурка, ты опять уроки не учишь, балуешься?! А внук в ответ:
– Учу, учу, бабусенька. Я немецкий учу. Вот послушай, – и давай бормотать: тыр-пыр, тыр-пыр. Бабушка по-немецки не понимает, но чувствует, что смеется Шурка над ней, обманывает. Махнёт рукой:
– Вот погоди, проказник. Придёт дед, доберётся до тебя!
Дедушки Шурик побаивался. Однажды в школе он в чём-то провинился. Что именно натворил, бабушка Таисья не знала, но только вызвали в школу отца Алексея и пожаловались ему на плохое поведение внука. Алексей Иванович пришел из школы очень сердитый. Взял ремень и хотел отхлестать Шурика. Бабушка кинулась защищать его, загородила собой. Но это не остановило, а ещё больше рассердило Алексея Ивановича. Начал он хлестать ремнём: раз – по Шурику, два – по Таисье Петровне, чтоб не лезла не в своё дело, не заступалась. Так и досталось от него обоим.
Повзрослел Шурик, стал серьёзно заниматься спортом. Каждый день после школьных занятий подолгу пропадал на другом конце села, за прудом, на футбольном поле. Среди михайловских мальчишек считался он одним из лучших футболистов.
С Ниной, пока она была маленькой, проблем было меньше. Девочка, она и поспокойней, и по хозяйству для бабушки – первая помощница. И картошки почистит, и ягоды соберёт, и с козочкой погулять сходит.
Однажды брат Варвары Ивановны, который жил с женой в Москве, пригласил племянницу в гости.
– Пусть Нина поживёт у нас. Покажем ей Москву, сводим в зоопарк, в цирк, в музеи, – предложил он.
Нина с радостью согласилась. Побыла у родных в Москве, через неделю вернулась обратно.
– Ну как, Ниночка, понравилась тебе Москва? – спрашивает бабушка.
– Ой, бабусенька, да я больше никогда туда не поеду, – отвечает внучка.
– Да что же так?
– Бабусенька, там у них так плохо. Я утром просыпаюсь, встаю, а они все ещё спят. Я есть хочу, а они не встают, всё спят и спят. Время к обеду, а они ещё только просыпаются! – возмущенно жаловалась Нина. – Я елееле дождалась, чтобы домой вернуться.
Алексей Иванович и Таисья Петровна, как и все деревенские жители, вставали очень рано, рано завтракали, принимались за дела. Дети тоже привыкли к такому укладу жизни и не представляли, как можно почти до обеда валяться в постели и ничего не делать. Поэтому так и не понравилось Нине у родных в Москве.
В 1935 году семья у Тихомировых увеличилась. Совсем ещё молодой овдовела моя бабушка Мария Васильевна, племянница Таисьи Петровны. Осталась одна с четырьмя детьми, самому старшему из которых было всего тринадцать лет. Мой дедушка Константин Федорович Скворцов, священник Троицкой церкви села Леонтьево Судиславского района, умер в 1934 году в возрасте сорока лет. Он не считался репрессированным. Но в те годы тяжким бременем для священнослужителей были огромные налоги. Константину Федоровичу платить было нечем, поэтому власти отобрали лошадь, корову, мебель, посуду и другое имущество и назначили принудработы. Дедушка отбывал их на лесосплаве в Буйском районе. Работал, стоя по пояс в ледяной воде, таскал тяжёлые бревна. В результате здоровье его было серьёзно подорвано. Долгое время он лежал в больнице, перенёс не одну операцию, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Семья осталась без средств к существованию. В течение года бабушка как-то перебивалась случайными заработками, шила платья на заказ. Чем могли, помогали ей односельчане.
Понимала бабушка, что в доме у дяди и тети будут она и её дети лишней обузой, но другого выхода не было, пришлось переехать в Михайловское. Алексей Иванович и Таисья Петровна встретили её по-родственному приветливо, и ребятишки тоже были рады. Мария Васильевна устроилась на работу на кожзавод в Шокше, но по состоянию здоровья не могла там долго трудиться и пошла на курсы в педучилище, чтобы потом работать по своей специальности – учительницей начальных классов. Дети учились. Старшие ребята, Владимир и Борис – в педучилище, дочь Галя, моя мама, в Богчинской школе. Мария Васильевна была очень рада и очень благодарна Алексею Ивановичу за то, что тот, отлично понимая её состояние, присмотрел и купил для неё отдельный маленький домик в Михайловском. Теперь у Марии и её детей было хоть и небольшое, но своё жильё. Жизнь на новом месте начала налаживаться.
…Внезапно паровозный гудок отвлёк меня от воспоминаний о моих предках и живо напомнил собственное детство. Любили мы ходить сюда, за село, к кладбищу, и смотреть на проходящие мимо поезда. Тогда их было хорошо видно, а теперь лишь кое-где промелькнут вагоны в просвете между деревьями. Так все заросло около линии.
Я осторожно сняла с руки божью коровку. Поправила веночек на кресте бабушкиной могилы. Какая же тяжелая была у неё жизнь, сколько горя перенести пришлось!
…Наступивший 1937 год принес большие неприятности. Арестовали отца Алексея, приговорили к десяти годам исправительно-трудового лагеря. Отправили Алексея Ивановича в лагерь на Урал. Помнит моя мама, как шёл дедушка по селу в сопровождении двух милиционеров, как всегда, спокойный и выдержанный. Помнит, как потом помогала она бабушке Таисье отправлять посылки для деда, крупными аккуратными буквами выводила на крышке ящика слова: Верхний Уфалей.
Вскоре после ареста дедушки Мария Васильевна окончила курсы при педучилище и была направлена на работу сначала в Чухломский район, потом в Кабаново и, наконец, в Мостищенскую школу Галичского района. Осталась Таисья Петровна в Михайловском одна с внуками.
А потом началась война и принесла новые несчастья. В это время тяжело заболела Нина. Варвара Ивановна, узнав о болезни дочери, приехала и забрала ее в Кострому. Девушку положили в больницу, но ей с каждым днем становилось все хуже. Врачи были бессильны. Нина умерла.
Шурик после окончания школы успел поработать секретарем в Галичском суде, затем был призван в армию, а вскоре Таисье Петровне пришло извещение о том, что её внук погиб смертью храбрых под Сталинградом.
Единственной поддержкой для Таисьи Петровны осталась её племянница Мария, моя бабушка, а её дети заменили ей своих родных внуков. Ближе всех из детей Марии для бабушки Таисьи была девочка Галя, моя мама. Как раз с военными годами совпало время её учебы в педучилище. Сначала Галина жила в Галиче, в общежитии, а потом бабушка Таисья взяла её к себе в Михайловское. Так и жили вдвоем до конца войны. Галя помогала бабушке по хозяйству, а Таисья Петровна старалась накормить внучку получше, знала, что и дома, в Мостище, и на учебе в Галиче не приходится ей поесть досыта.
Жили дружно. Помнит моя мама, как однажды пришла она после занятий из Галича, а бабушка говорит:
– Галюшка, иди-ка, посмотри, что у нас в зале делается.
Галя пошла – и охнула от удивления: посреди зала, прямо на полу на матрасах, лежало очень много людей.
«Раненые», – догадалась Галя. Некоторые из них были перевязаны бинтами, кто-то спал, а кто-то тихонько стонал.
– Бабушка, откуда это? – шёпотом спросила Галя.
– Из Галича привезли, там уж госпиталь переполнен,
так же шёпотом ответила Таисья Петровна. – Ладно, пойдём. Долго-то тебе тут не надо быть.
Галина ничего не сказала, но поняла, что бабушка боится за неё: среди раненых могут быть и больные тифом, от которых можно было заразиться.
Раненые пролежали в доме у Таисьи Петровны ещё несколько дней, потом их увезли в госпиталь.
А ещё помнится Галине Константиновне, как они с бабушкой чуть было не поссорились. Таисья Петровна хорошо шила. Галя заметила, что она начала шить себе новое платье, из простого ситца, лиловое в полосочку.
«Странно, – подумала она. – Куда же бабушка Таисья пойдет в таком платье? В церковь сходить – у нее есть хорошие платья, шерстяные и даже одно бархатное. Дома тоже в таком ходить не будет».
Всё выяснилось, когда работа была закончена. Пока Галя ходила на колодец за водой, бабушка надела новое платье.
– Галюшка, хорошо я сшила платье?
– Хорошо, бабушка.
– А знаешь, зачем я его сшила-то?
–Нет.
– Это я на смерть себе. Вот я сейчас лягу, а ты посмотри, ладно ли будет.
– Да ты что, бабушка! Умирать, что ли, собралась?! Не ложись! И смотреть не буду! – возмутилась Галя и выбежала из комнаты.
Прошло несколько дней, и видит Галина, что Таисья Петровна куда-то собирается.
– Бабушка, ты куда?
– Пойду к Бакулину. Попрошу, чтобы гроб мне сделал.
– Бабушка, не ходи! Что ещё выдумала?! Это у нас в доме будет гроб стоять? Я тогда от тебя уйду в общежитие.
– Да что, дурочка, боишься-то? Я его в амбарушку поставлю. Ты и не увидишь!
– Нет, бабушка, и в амбарушку не надо! Не ходи!
Но Таисья Петровна не послушала внучку и ушла к Бакулину. Галина, расстроенная, села за уроки. Но никакая учёба теперь и в голову ей не шла.
Через полчасабабушка Таисьявернулась недовольная.
– Ну, что, бабушка, заказала гроб?
– Отказал Бакулин. «Матушка, – говорит, – как умрёшь, в тот же день сделаю, а живой, не обижайся, делать не буду».
Галя облегченно вздохнула и успокоилась.
…Хорошо, удобно сидеть в тени под березами и размышлять о прошлом. Однако мне пора возвращаться. Взглянула последний раз на могилки прадеда и прабабушки и пошла дорогой мимо поля обратно в село. Когда-то во время моего раннего детства здесь приземлился самолет и стоял несколько дней. Почему так было, я не знаю, может быть, требовался какой-то ремонт, но очень смутно помню, как мы с бабушкой ходили смотреть на него. Было мне года три, а может, и меньше, поэтому, когда подросла, даже не понимала: то ли на самом деле это было, то ли это какой-то детский сон, то ли сказка. Как-то, уже в подростковом возрасте, я рассказала бабушке о том, что в воспоминаниях о детстве в Михайловском мне представляется синий самолет в поле. И бабушка, к моему удивлению, ответила, что это не сон и не сказка, а было на самом деле.
Почему-то образ этого самолета, стоящего здесь, за селом – одно из первых, ещё не очень осознанных впечатлений раннего детства – крепко отложился у меня в памяти.
И вот опять стою я возле храма, а через дорогу – наш дом. Был он когда-то церковным, но потом отец Алексей выкупил его. Дом деревянный, двухэтажный. Именно сюда в 1947 году вернулся после ссылки мой прадед. Вернулся больным, постаревшим, с плохим зрением, но сумел всё же один, без провожатых добраться от станции в Галиче до родного дома.
Дома, конечно, и стены лечат. Но, к сожалению, здоровье прадеда в ссылке было потеряно, зрение продолжало ухудшаться с каждым днем. Ездил он в больницу в Кострому, где ему предложили сделать операцию по удалению катаракты. Появилась надежда на восстановление зрения. После операции отец Алексей обрадовался, что стал видеть, но радость оказалась преждевременной: вскоре свет померк в его глазах навсегда. Что было тому виной, то ли ошибка доктора, то ли несовершенное в те годы оборудование, трудно сказать.
Умер Алексей Иванович 8 апреля 1952 года. Отпевал его друг моего дедушки Константина Федоровича Скворцова отец Иоанн Ильинский, который в это время служил в Галиче, а раньше – в Исупове.
После смерти Алексея Ивановича Таисья Петровна жила сначала одна, а в начале шестидесятых годов переехали к ней из Мостища вместе с бабушкой Марией Васильевной мои родители, которых перевели из Мостищенской школы в Галич. Отец стал работать преподавателем в Галичском педучилище, мама – в Пятой начальной школе.
Вскоре после их переезда произошло событие, которое очень растревожило и надолго выбило из колеи мою прабабушку Таисью Петровну. Однажды ранним вечером, когда Галина Константиновна готовилась к урокам, а Мария Васильевна вышивала коврик для внучки, маленькой Анечки, в комнату вошла чем-то очень взволнованная Таисья Петровна. Трясущимися руками она подала Галине распечатанный конверт:
– Прочитай-ка, Галя. Я что-то разнервничалась, ничего не вижу, всё в глазах сливается.
– Не волнуйся, бабушка. Сядь, успокойся! Сейчас прочитаю.
Письмо было из Ангарска от михайловской жительницы Горевой, которая там гостила у дочери. Ее сын Николай Иванович Горев, учитель Шокшанской школы, жил в Михайловском с женой Терезой Адамовной, медсестрой. Сестра Николая Ивановича каким-то образом попала в Ангарск. Вот к ней-то и поехала из Михайловского погостить мать. Рассказывала она в письме, как познакомилась с одной семьей, живущей рядом, по соседству. Хорошие люди, муж с женой и уже взрослая замужняя дочка. Как-то в разговоре соседка и разоткровенничалась: сказала, что дочь у них неродная. Взяли они её много лет назад ребенком в Доме малютки в Костроме. Вырастили девочку. Звали её Инесса Тихомирова, но приёмные родители дали девочке другое имя
– Калерия. Из документов детского дома соседка знала, что мать девочки – Варвара Ивановна, а отец – Леонид Алексеевич. Отец рано погиб, утонул. «Вот тут-то я и поняла, – пишет Горева, – что Калерия – это Ваша, Таисья Петровна, внучка. Ведь всё совпадает: и фамилия, и место рождения, и что отец погиб».
Таисья Петровна от такой неожиданной новости просто не находила себе места:
– Да что же это, Господи? Да откуда ещё внучка? Да не было ли у отца Алексея ещё жены?
–Да что ты, бабушка! Какая другая жена! Такого не может быть! Эта девочка – она же Лёнина дочка.
Действительно, последний ребенок родился у Варвары Ивановны уже после смерти Леонида. Варвара, отправив двоих старших детей, Шурика и Нину, к бабушке с дедушкой, побоялась сообщить им про третьего ребенка. Понимая, что не сможет воспитать девочку, сдала её в Дом малютки. В Михайловском об этом ничего не знали. Всё выяснилось лишь сейчас.
А ещё через несколько дней Таисья Петровна получила новое письмо из Ангарска – от Калерии. Она писала, что очень хотела бы встретиться с бабушкой и просила разрешения приехать в Михайловское.
Моя мать Галина Константиновна помнит, как Калерия приехала в Михайловское вместе с мужем. Пробыли они в доме у матушки Таисьи с неделю. Бабушка много рассказывала неожиданно объявившейся внучке о себе, о своей семье, о Лёне и Варваре, о Нине и Шурике, дарила фотографии её родителей. Калерия всё время плакала, не было дня, чтобы она не заливалась слезами. После отъезда в Ангарск она прислала Таисье Петровне два письма. Бабушка Таисья в то время уже плохо видела, поэтому на письма отвечала Мария Васильевна. А после смерти Таисьи Петровны связь с Калерией прервалась…
…Вот и дом, где я родилась. Кто же в нём живёт сейчас? Подошла поближе к калитке. Во дворе играют в мяч ребятишки: два мальчика лет по семь-восемь, а третий совсем еще маленький. Весело переговариваясь, двое старших ребят распахнули калитку и побежали по тропке друг за другом. У дома остался только малыш. С крыльца сошла женщина, наверное, его мать.
– Может, подойти, поговорить с ней? Нет, как-то неудобно, – подумала я.
Но всё же какая-то неудержимая сила потянула меня к калитке. Тогда я решительно раскрыла дверцу.
Вот он, двор, в котором прошло мое раннее детство. Вот здесь, у сарайки, были наши качели, а слева – прекрасный цветник. Каких только ни было в нём цветов! Мама любила их выращивать. А вдали, у забора, росли кусты сирени.
Молодая женщина, та самая, на руках которой уснул в храме маленький Мишка, приветливо смотрела на меня, нисколько, кажется, не удивившись моему появлению.
– Вы в этом доме живёте? – спросила я, чтобы как-то начать разговор.
– Вверху никто не живёт, а мы внизу.
– А я родилась в этом доме.
– Да? – удивилась молодая хозяйка. – Так Вы проходите в дом. Вам, наверное, интересно посмотреть, вспомнить всё.
Конечно, мне интересно. Завязался разговор, из которого я узнала, что молодую маму зовут Надей, что живет она здесь с мужем и двумя сыновьями, что верх дома уже давно пустует. Старики-хозяева умерли, сын их уехал в Питер, и ему это жилье не нужно, но и продавать что-то не торопится. А дом портится, клонится набок, гниют рамы в окнах. Низ дома выглядит по-другому: крепкие бревна, новенькие рамы. Чувствуется, что хозяин следит за жильем.
Мы разговаривали, стоя на крыльце, а Мишутка, воспользовавшись моментом, пока мама отвлеклась, со всех ног устремился к калитке.
– Миша, куда? Стой! – Надя побежала его догонять.
Взяла ребенка за руку и вернулась ко мне.
– Пойдёмте, я Вам сад покажу. И в дом тоже зайдите.
У меня есть ключ от верхнего этажа.
За домом был большой участок, где росли кусты смородины, молодые вишенки. Тут же были грядки с овощами, большая теплица. Все было по-другому. Ничто здесь не напомнило мне того огорода из моего раннего детства, в котором посередине был густой, как лес, малинник, а у самой стены дома и напротив, у забора, – высокие черёмухи.
А вот когда мы вошли на лестницу, ведущую на второй этаж, то я почувствовала, что ничего тут не изменилось с той самой поры, когда я была здесь последний раз. Разве что еще более скрипучей стала старая лестница, ещё сильнее покосилась набок. Да, безусловно, дому очень нужен ремонт, иначе долго он не продержится.
Мои детские воспоминания совсем не совпадали с нынешним состоянием дома. Тогда, в детстве, всё здесь было по-другому: и лестница была не эта, а другая, внутренняя. Она вела прямо из кухни, которая у нас была внизу, наверх, в комнаты. Это по той лестнице я, маленькая, пробиралась, затаив дыхание, к старинному шкафу-горке, в которой, я знала, лежал очень вкусный бабушкин пирог с моей любимой малиновой начинкой. Почему «затаив дыхание»? Всё очень просто. Ведь как только кончались самые верхние ступеньки, справа с детского коврика у кровати прямо на меня грозно смотрела… вроде бы ёлка, а если вглядеться, то и не ёлка вовсе, а какая-то страшная рожица. Надо прошмыгнуть незаметно мимо нее, взять кусок пирога, а затем скорей убежать от этого страшилища вниз по лестнице.
Где теперь та лестница? Очевидно, где-то внутри, зашитая досками, ведь теперь нижним жителям не надо подниматься на второй этаж. А может, её и вовсе разобрали за ненадобностью. Смутно она мне помнится, а вот эту, покосившуюся, по которой идём мы с Надей, я отлично помню. Сколько раз после нашего переезда в Галич мы с мамой навещали Катю, поднимались и спускались по этим скрипучим ступенькам, держась за перила. Входим из коридора в жилое помещение. Не покидает ощущение беспорядка и заброшенности. В комнатах старая мебель, которая теперь никому не нужна, на полу раскиданы книги. Подняла одну – это старый учебник по физике. А на шкафу лежит гармошка, как и тридцать лет назад, когда мы с мамой сюда приходили. Грустная картина. Нет, в детстве всё здесь было не так, и дом казался намного больше, и расположение комнат было другим.
Я погружена в свои мысли, и до моего сознания не сразу доходят слова Нади:
– А здесь, в этой комнатке, бабушка жила. Дробецкая ей фамилия. Вы её помните?
Дробецкая Екатерина Васильевна – наша Катя. Да как же мне её не помнить, если всю свою жизнь она была рядом с нашей семьей?! Родом из деревни Стояново Судиславского района, она ещё в детстве была знакома с моей бабушкой. «Как не знать Марию Васильевну! – говорила она сама. – Мы с ней ещё маленькие в Исупове вместе на саночках катались». Отец Екатерины жил в Питере, там же жила и старшая сестра Ольга. Мать рано умерла. Катю воспитывала бабушка. Она научила её читать, выполнять любую работу по хозяйству. Катя отлично умела шить, готовить, ухаживала за домашними животными, работала в огороде и в поле, водилась с маленькими детьми. В селе Леонтьево Судиславского района она была сторожем в церкви и няней моей мамы Галины и её троих братьев. Родители Мария Васильевна и Константин Федорович могли спокойно оставить с ней ребятишек даже на несколько дней, зная, что всё будет в порядке и ничего плохого в их отсутствие не произойдет. После смерти отца Константина, когда бабушка вместе с детьми навсегда покидала свой родной дом в Леонтьеве, Катя со слезами на глазах провожала семью и несколько километров несла на руках самого младшего, пятилетнего Валю.
А позже, когда началась война, Кате, не имеющей никого из близких в Судиславском краю, приходилось очень тяжело. Она жила в церковной сторожке, по-настоящему голодала и была вынуждена ходить с сумой по ближним деревням, прося подаяния. Но помочь ей было некому: другие жители тоже едва сводили концы с концами.
Жизнь в Михайловском во время войны была более стабильной и благополучной. Хотя тоже нелегко приходилось, но всё же люди не так голодали. В Михайловском был очень богатый колхоз, возглавляла который Полина Андрияновна Волгина, талантливый и очень ответственный руководитель. Полина Андрияновна жила одна. Муж у неё умер, детей не было. Однажды она разговорилась с Таисьей Петровной о том, что ей очень трудно управляться одной и с колхозом, и с домашним хозяйством.
– Мне бы, матушка, найти такую женщину, чтобы занималась домашним хозяйством, лишь была бы честным человеком, – поделилась председатель своими мыслями с бабушкой Таисьей.
Таисья Петровна от своей племянницы Марии знала о бедственном положении Кати и сразу же предложила:
– У нас есть такая женщина. Одинокая, скромная, работящая. Любую работу по дому сделает, а честней её и не бывает.
– Да ну? – обрадовалась Полина Андрияновна. – Напишите ей. Пусть она приезжает, живёт у меня, ведёт хозяйство. И сыта будет, и одета.
Вот так в военные годы и появилась в Михайловском ещё одна жительница – Екатерина Васильевна Дробецкая. Жила она в доме у Полины Андрияновны, работала с утра до вечера. Хозяйка была очень довольна: дома полный порядок, можно теперь спокойно сосредоточиться на колхозных делах. И она не осталась в долгу: после окончания войны выхлопотала Кате за её труд пенсию
– тридцать рублей. По тем временам это были хорошие деньги.
После смерти Полины Андрияновны Катя перешла в дом Алексея Ивановича и Таисьи Петровны. Идти ей больше было некуда: никого из родных она не имела. Катя помогала Таисье Петровне и Марии Васильевне по хозяйству, а когда в доме появились дети, мы с сестрой, полностью взяла на себя обязанности няни.
Помню я её, нашу Катю, с самого раннего детства, так же, как мать, отца и бабушку. Это был добрейшей души человек. Любила она нас с сестрой, как своих родных детей. В молодости стройная и красивая, с возрастом от тяжелой работы сгорбилась, согнулась, но всегда оставалась для нас милой, доброй и родной. Может быть, поэтому в семье никто и никогда не называл ее ни по имени-отчеству, ни бабушкой, ни тетей. И хотя по возрасту она была ровесницей бабушки, все от мала до велика звали её просто Катей, что для посторонних людей казалось несколько странным.
Когда моя мама вышла замуж, отец, интеллигентный, культурный человек, историк по образованию, был просто поражен, услышав первый раз от Галины такое обращение к женщине, которая по возрасту ей в матери годится. «Почему так непочтительно?» – с изумлением спросил он жену. Мама в ответ расхохоталась. А через некоторое время отец, как и все в семье, тоже стал называть Екатерину Васильевну просто Катей.
В конце лета 1966 года наша семья вместе с бабушкой Марией Васильевной переехала в Галич. Катя осталась в Михайловском ухаживать за Таисьей Петровной, которая к тому времени сильно состарилась, ослабла и потеряла зрение. Долго ухаживать за ней не пришлось. В феврале 1967 года Таисья Петровна скончалась. Провожали её в последний путь племянница Мария Васильевна и все её дети, Катя и многие михайловские жители. Похоронили матушку Таисью рядом с мужем – отцом Алексеем.
Перед смертью Таисья Петровна оставила завещание, в котором говорилось, что дом передается по наследству её внучке Галине, моей матери. Дом пришлось продать, но с условием, что Кате в этом доме будет принадлежать маленькая комнатка – та самая, около которой мы, задумавшись, стоим с Надей. Комната пустая, рамы в окне старые и гнилые, ткни пальцем – и развалятся. Зимой здесь, наверное, очень холодно.
Много лет, пока Катя жила в этой комнатке, приходили мы сюда из Галича навестить её, чем-то помочь. Приносили продукты, пилили дрова во дворе, оклеивали обоями стены комнатки и конопатили рамы. Когда здоровье у Кати стало сдавать и она не могла себя обслуживать, в сельсовете похлопотали об устройстве её в дом инвалидов. Вопрос был уже почти решён, но мама, узнав об этом, категорически отказалась отправлять её туда. Вся наша семья поддержала такое решение. Но так как в нашей небольшой квартире без удобств невозможно было поселить ещё одного человека, пришлось найти для Кати квартиру в Галиче. Мама, закончив работать в школе и оформившись на пенсию, ежедневно, как на работу, только без выходных и праздников, ходила к Кате на квартиру, носила еду, топила печку, стирала, мыла, кормила, одним словом, полностью ухаживала за ней в течение двух лет. Похоронена наша Катя в Галиче. Я, навещая на городском кладбище своих родных, обязательно захожу к ней и привожу в порядок её могилу.
– Конечно, я хорошо помню Катю, – отвечаю я на Надин вопрос после затянувшейся паузы. – Как не помнить! Она же моя няня, и я её никогда не забуду.
– Да баба Катя и с моим Лешей водилась, когда он был маленьким.
Поблагодарив Надю за тёплый прием, я стала прощаться.
– Может, к нам зайдёте, чаю попьем? – предложила она.
– Нет, спасибо. Мне пора домой. До свидания!
Я вышла за калитку, оглянулась ещё раз на дом. Маленький Мишутка помахал мне вслед рукой.
Иду не спеша по селу, вспоминая детство. Вот по этой улице мы с мамой когда-то давно ходили за водой на колодец. Помню, было в Михайловском два колодца. Один недалеко от дома Леваниных, а другой за нашим домом около пруда. На пруд мы тоже ходили. Мама с папой брали там воду для поливки огорода, а мы с сестрой Аней играли, бегали по мосточкам, пытались забраться на раскидистые ивы. Давно я там не была. Хочется пройти посмотреть на это место.
Решив сменить маршрут, резко сворачиваю вправо с основной дороги и через узкий проход между домами выхожу на луг. Под ногами мягкая травянистая тропочка, идти по которой после асфальта – одно удовольствие. Зелено, привольно. И вот он, пруд, во всей своей красе. Ивы склоняются к самой воде. По краям пруда виднеются коричневые «колбаски» рогоза. Летают крупные стрекозы с прозрачными слюдяными крылышками. А какой чудесный вид отсюда на храм и на наш дом рядом с ним! Так и просится на картину! Необычно красиво смотрятся зеленые купола и зелёный верх колокольни в сочетании с зеленью деревьев. В серебристой воде отражаются голубое небо, барашки облаков и белые стены храма.
Обхожу пруд кругом, любуясь открывшимся передо мной пейзажем. На противоположном берегу большое футбольное поле, заросшее по краям зелёными одуванчиками. По бокам стоят скамеечки. Наверное, сюда собираются все жители села на праздники, а по вечерам бегают за мячом мальчишки. Когда-то и наш Шурик целые дни пропадал именно на этом футбольном поле, приходил домой с разбитыми коленками, с многочисленными синяками и царапинами, уставший, но довольный и счастливый.
А вот этого я ещё не видела! На краю поля за воротами сооружение из серо-голубого камня со звездочкой наверху. Ну, конечно же, обелиск! Подхожу ближе. Посередине надпись: 1941-1945, пониже – орден Отечественной войны. По бокам справа и слева на серых плитах голубыми буквами напечатаны столбики фамилий михайловских жителей, которые не вернулись с войны. Сколько же их много на такое сравнительно небольшое село! Наверное, почти в каждый дом приходила в годы войны горестная весть. Считаю. Сорок девять фамилий на памятнике. Внизу на постаменте под списками фамилий вазы с букетами цветов. Ещё ниже, у основания памятника – венки. Жаль, я никого не знаю из этого списка. Хотя… вот промелькнула знакомая мне фамилия. Помню, мама рассказывала, как молодая михайловская девушка Зина Божёнкина погибла во время обстрела на Ладожском озере, когда их вывозили по Дороге жизни из блокадного Ленинграда.
А вот в правом столбике… Я пробегаю глазами список и останавливаюсь на фамилии: Тихомиров А. Л… А. Л. – значит, Александр Леонидович. Наш Шурик, внук отца Алексея! Шурик погиб 31 августа 1942 года под Сталинградом. Я вспомнила, как нашла в интернете сведения о нём. Узнала, что он служил в 39 гвардейской стрелковой дивизии, был заряжающим миномет, убит в бою и похоронен в районе деревни Кузьмичи Городищенского района Сталинградской области. Бабушка Таисья говорила, что Шурик был парашютистом, но по данным интернета эти сведения не подтвердились.
Если бы он был жив, то по возрасту был бы ровесником моего отца, но для нас он всё равно – Шурик, потому что погиб он в двадцать лет. Отдал свою жизнь за Родину, за то, чтобы другие мальчишки могли сейчас спокойно гонять мяч на этом вот футбольном поле.
Кем бы он стал, наш Шурик? Может быть, знаменитым футболистом, может, священнослужителем, как дед, а может, коммунистом, как отец. Знаю только твёрдо, что в любом случае он был бы порядочным человеком, патриотом своей Родины.
На обратном пути из Михайловского в Галич задумалась я о том, что, может быть, все наши родные по линии матери своими жизнями обязаны именно отцу Алексею Тихомирову. Ведь бабушка, которой очень по душе была своя профессия, скорей всего, как и многие учительницы в те годы, никогда бы не вышла замуж, посвятив свою жизнь любимому делу, если бы не отец Алексей. А тогда не было бы на свете ни мамы, ни меня, ни моих двоюродных сестер и братьев, ни их детей.
А ещё вспомнились мне слова из стихотворения нашего земляка, маминого ученика в Мостищенской школе, а позже учителя, друга нашей семьи и просто хорошего человека Бориса Дмитриевича Есипова из Красильникова: «Малая родина – словно магнит, и нет притяженья сильнее…»
Да, все правильно. Дома, в Галиче, ждёт меня множество дел. Ежедневная работа по кухне, покупка продуктов, уборка квартиры. Надо собрать ягоды в саду и обработать их, прополоть грядки, пообщаться с друзьями в интернете, что-то почитать, пошить. Но знаю, что пройдёт некоторое время и меня снова неудержимо потянет в Михайловское, на свою малую родину: и в храм, и на кладбище, и к дому, где я родилась, и к обелиску. Здесь мои корни, мое Отечество, без которого я не мыслю своего существования.
Лишь смутно помню дом у храма,
Чуть приглушенный скрип калитки,
Сирень в цветенье, папу с мамой
И их счастливые улыбки.
Начало жизненной дороги,
Прекрасный мир, к себе манящий.
Малинник в старом огороде
Мне представлялся темной чащей.
На Зеленик был путь так долог!
Мы с мамой шли тропинкой ровной.
Чуть видный у пруда пригорок
Был для меня горой огромной.
Соседский гусь гулял на воле,
Его шипенья я пугалась.
А самолет, что сел на поле,
Из сказки прилетел, казалось.
Скрипели весело качели,
И мы, с сестрёнкою играя,
В страну волшебную летели,
От наслажденья замирая.
А за железною дорогой
Лес настоящий начинался.
Таинственным подземным ходом
Туннель под рельсами считался.
Я помню бабушкины плюшки,
Пирог с малиновой начинкой,
Свою любимую игрушку –
Собачку плюшевую Бимку.
А наша няня – Катя просто
Тепло душевное дарила.
Горбата, низенького роста,
Нас, как родных, она любила.
Чуть подросла – с семьею вместе
С родным селом я распрощалась.
Но светлая картина детства
Навечно в памяти осталась.
Послесловие
В 1989 году в местной газете под заголовком «Разделяя людскую боль» был напечатан список реабилитированных лиц из числа жителей Галичского района. В начале списка пояснение:
«В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30-40-х и начале 50-х годов» Управление КГБ СССР по Костромской области совместно с областной прокуратурой завершили работу по реабилитации граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по решениям внесудебных органов…»
Ниже, среди множества фамилий мы нашли такую запись:
«Тихомиров Алексей Иванович, 17.01.1874 года рождения, уроженец с.Рожново Судиславского района Костромской области, б/п, до ареста являлся служителем религиозного культа в сане священника и проживал в с. Михайловское Галичского района. Реабилитирован 19 мая 1989 г.»
России
В день черемухового цветения
На сиренях лопались почки.
Ты позволила мне рождение –
Назвала меня сразу дочкой…
Обогрела меня майским лучиком,
Принесла аромат медовый,
Отдавала мне самое лучшее,
Чтобы духом была здорова…
Пеленала меня туманами,
Пела иволгой колыбельную,
Приносила звезды карманами
Ночкой темною коростельною…
Умывала росой серебряной
Белобрысую да курносую,
А когда шли дожди целебные,
По траве отпускала босую…
Закаляла меня морозами,
Из колодца водой студеною.
И учила быть смелой – грозами
Очень строгими – несмышленую…
И хлестала меня метелями,
Да не жгучими, просто снежными,
Край мой красила акварелями,
Всякий раз только очень нежными…
Не была тобой избалована,
Но живу я, тобой хранимая…
Мы одной судьбой окольцованы,
Мать – Россия моя любимая!
Вера Клевич
Валентин Скворцов
Село Михайловское: мои воспоминания
В 1934 году 31 июля умер мой отец, священник Леонтьевской церкви Скворцов Константин Фёдорович (был ему всего 41 год).
Осталась семья без какого-либо содержания. Ни от церкви, ни от государства никакой помощи мы не получили. На руках матери остались четверо детей. Старшему Владимиру было 13 лет, Борису – 11 лет, сестре Галине – 8 лет, младшему Валентину – 5 лет. Ещё год мы прожили в селе Леонтьеве. Спасало то, что моя мама хорошо шила, поэтому выполняла кое-какие заказы по шитью. На следующий год заперли дом и с узлами самого необходимого отправились в пеший переход (50 км) в Галичский район в село Михайловское, где жили мамины тётя и дядя. Дядя был настоятелем храма в селе Михайловском, протоиерей Тихомиров Алексей Иванович, тётя её – Таисия Петровна (матушка). Шли мы два дня с ночлегом в попутной деревне (названия не помню).
Вот таким образом я познакомился с Михайловским.
Помню первые впечатления. Взору предстала величественная церковь с высокой колокольней. Позднее я узнал, что такие колокольни называются шатровыми. У нас в Леонтьеве колокольня была значительно ниже. Вначале всё радовало, новые впечатления были интересны. Внутри церкви было очень красиво и богато. Винтовая лестница вела на хоры. Всё было необычно.
Тоска по брошенной родине пришла позднее.
Поселились мы в доме дедушки, так мы звали отца Алексея.
Мама моей матери умерла рано, и она осталась сиротой полуторагодовалым ребёнком. Таисия Петровна и Алексей Иванович взяли мою маму на воспитание. Поэтому для моей матери они сыграли большую роль в жизни. Не случайно мама в трудную годину обратилась к ним вновь. Однако жить всем вместе в Михайловском было неудобно. У отца Алексея и матушки Таисии были ещё на воспитании внуки, дети их сына, рано погибшего (утонул в Волге в Костроме), поэтому отец Алексей стал подыскивать для нас отдельное жильё. Нашёл. Приобрёл маленький домик в Михайловском, в два окошечка по фасаду. И мы переселились туда, где проживали до 1938 года.
Жили трудно. Старшие братья учились в школе, надо было их одевать, обувать. Мама (Мария Васильевна) перепробовала много работ. Все они были тяжёлыми для женского труда (кожзавод в Шокше, пекарня там же). Вдобавок 1936 год был тяжёлым, голодным. За продовольствием были очереди. Жили очень бедно. Здоровье у мамы в результате недоедания оказалось слишком слабым для такой работы. Старший брат Владимир поступил в педучилище. Через некоторое время туда же поступил учиться и Боря. (Забегая вперёд, скажу, что все мы прошли школу педучилища.) У матери был документ, выданный ей по окончании епархиального училища в Костроме, дающий ей право на учительскую работу. Но это было ещё в царское время. Естественно, советская власть такой документ не признавала, а учительские кадры были нужны. Вот, чтобы закрыть дефицит учительских кадров, при педучилище были открыты шестимесячные курсы переподготовки бывших учительских кадров. Пришлось и моей маме поступить на такие курсы, по окончанию которых она получила аттестат уже советского образца, дающий ей право учительствовать. Мама получила направление на работу в Лукинскую начальную школу, учителем с окладом в 240 рублей, в Чухломский район. Это было в 1938 году. Жить стало чуточку полегче. Сестра Галя пошла в школу ещё в Леонтьеве. В 1937 году пошёл в школу и я, младший, в Богчинскую начальную школу. В тот год, помню, разрушали церковь в Богчине, и мы, школьники, во время перемен катались по желобам, по которым спускали с разбираемой колокольни кирпич. За это нам попадало и от учителей, и от родителей. Мало, что продирали штаны, так это было ещё и очень опасно, вполне можно было вылететь из жёлоба.
Помню, что с 1936 года разрешили проводить новогодние ёлки, а то ранее они были запрещены властью.
Михайловский приход был довольно богатым. Михайловский храм был центром благочиния. Благочинным был протоиерей Алексей Иванович Тихомиров. В храме кроме отца Алексея служили в разное время и другие священники. Не помню, как звали, но был священник по фамилии Русин. Кстати, он и был похоронен в церковной ограде Михайловской церкви. Ещё был священник – отец Павел Белоруссов. Однако к нашему переезду в Михайловское церковные службы отправлял лишь один отец Алексей Тихомиров, мамин дядя.
При церкви был великолепный хор. Регентом хора был Налимов Николай Александрович (кстати, его внучка работает при Введенском храме города Галича и до сего времени). В Михайловском храме, помню, тогда было три престола: Богоявления Господня (Крещения), в честь св. Архистратига Михаила и в честь святых Петра и Павла.
В День преподобного Паисия Галичского из Михайловского храма совершался крестный ход к Паисию монастырю. Совершался он даже тогда, когда сам монастырь был уже разрушен. Но подошёл скорбный для храма 1937 год. Зимой 1937 года был арестован отец Алексей. Храм был закрыт и постепенно разрушен. Отец Алексей отсидел в тюрьме 10 лет, вернулся домой полуслепым больным человеком. Похоронен отец Алексей на общем Михайловском кладбище, там же похоронена и матушка Таисия Петровна.

Любовь Котикова (Шубина)
Мои воспоминания
o родном селе и дорогих людях
Я, Котикова Любовь Константиновна, родилась в селе Михайловское в 1930 году. Крестили меня в нашей сельской церкви.
Окончила в 1952 году учительский институт, факультет русского языка и литературы. Нас, преподавателей, готовили стать учителями семилетних школ, т.к. много учеников было рождено в 1937 – 1941г г. Институт проработал несколько лет (не более 5-7). Потом из нас стали готовить воспитателей дошкольных учреждений. По окончании института четыре года я проработала в Шарьинском районе Костромской области. Потом мы с мужем уехали в Московскую область, Загорский район, ныне – СергиевоПосадский район Московской области. Я всё время работала воспитателем, педагогом, заведующей детским садом.
Сейчас на пенсии. Помогаю, как могу, своим правнукам.
А до 22 лет я жила в селе Михайловское. Что я запомнила, видела – об этом и пишу.

Храм в селе Михайловское стоит на красивом месте. Солнце освещает его со всех сторон. Старожилы рассказывают, что на этом месте раньше стоял деревянный храм. Он сгорел.
Храм наш виден издалека. Для многих он служит ориентиром. Храм наш очень красивый. Поблизости нет ему равных.
Помню, что раньше вокруг храма стояла кирпичная ограда. С трёх сторон ограды были арочные ворота. Центральный вход был с западной стороны.

Слева, при входе в храм, было помещение. Там во время похорон стояли крышки от гробов. Помню, что раньше гроб с телом умершего несли на кладбище на руках до самой могилы.
В праздник Троицы передняя часть храма была усыпана цветами и травой – зеленью с наших лугов. Троицу всегда празднуют в Шокше. Ходили друг к другу в гости, звучали гармони, люди пели песни, а те, что помоложе, ещё и танцевали.
Храм Михаила Архангела на Троицу всегда был украшен. Буквально сиял и блестел. Всё сверкало!
Перед каждым праздником группа женщин в храме всё мыла, чистила, вытирала. Много помогали храму и прихожане. А ещё больше – жители Михайловского. Был слышен звон колокола на всю округу.
Лет до 6-7 моя бабушка – Потёмкина Анастасия Павловна (1865 – 1951) – брала меня с собой в церковь на службу. Батюшка причащал кагором. О здравии и упоминании были не листочки, а поминальники. Бархатная книжечка 10 на 15 см. В неё были вписаны заранее, а потом вписывались и другие имена, здравствующих и умерших. Часто мне приходилось под бабушкину диктовку вписывать эти имена.
Были немалые пожертвования и от прихожан, особенно от заводчиков кожевенного завода.
Наши сельские жители тоже охотно жертвовали. Помню, что моя бабушка копила какие-то сбережения, а потом отдавала их в храм.
К слову сказать, моя бабушка Настя по тому времени считалась грамотной. Она читала и церковные, и художественные книги, и даже газету «Северный колхозник». У бабушки дома было много разных книг. Помню, была большая такая книга в кожаном переплёте. Она застёгивалась сбоку на защёлку. Листочки были жёлтые от времени, ломались при перелистывании.
Что интересно, до конца своих дней (а умерла бабушка на 87 году жизни) моя бабушка читала без очков.
… А когда в 1937 году уничтожали храм и сбрасывали колокол, рядом стоял охранник и никого близко не подпускал к храму. Женщины с плачем просили не делать этого. «Это великий грех», – говорили они. Стоящие у храма представители власти им отвечали: «Это не мы решили так поступать. Это приказ сверху, из Москвы. Не выполним – нам не поздоровится. Нас могут осудить, посадить».
Представители из области разрешили местным женщинам взять несколько икон с целью возврата. Но иконы исчезли бесследно.
Отмывали позолоту со стен, с икон, внутри церкви установили леса. Они были сделаны из новых брёвен, жердей, досок. Или укрепили недостаточно крепко, или работник оступился, но он упал с высоты прямо на железный пол и сломал позвоночник. Его сразу отвезли в больницу Галича или в Кострому. Его дальнейшая судьба мне не известна.
Тогда топили печь в церкви дровами, день и ночь. Нужна была постоянно горячая вода. На полу стояла большая бочка – чан. Она была сделана из железа и дерева. Постоянно меняли воду. Долго работали. Иконы и позолоту отправили в Кострому или в Москву. Работали только мужчины. Женщин не было.
Батюшку Алексея Тихомирова тогда отвезли в неизвестном направлении. Без права переписки. Вернулся через много лет. Его жена, матушка Таисья, всё это время жила в Михайловском тихо, мирно. Занималась пчёлами. Их дом был построен задолго до революции 1917 года. Дом двухэтажный, удобный, с интересной конструкцией, с длинной лестницей на второй этаж.
Моя вторая бабушка, по материнской линии, дружила с матушкой Таисьей (бабушка была совершенно неграмотная), но они всё равно находили общий язык.
Рядом с домом священника Алексея стоял ещё один красивый двухэтажный дом. Нам, детям, казалось, что этот дом служит памятником древнерусской культуры. Кто в нём жил из священников, я не знаю. Запомнился мне этот дом балконом (самостоятельно приделанным), и распевали на нём Александра Павловна с дочерью Розой. Пели на два голоса арии из опер. Красиво. Музыкально. Мелодично. Многие останавливались и слушали. Балкон был с южной стороны. На северной стороне этого дома была застеклённая веранда во всю стену дома.
Они выращивали каждый год много зелёного лука. Сестра Вера Павловна (одинокая) ухаживала за садом, в котором росли яблони, вишни и много по забору сада было посажено кустов крыжовника. У Веры Павловны была собака – красивая, умная. На двери была дощечка со словами: «Кто по делу – постучите. В доме злая собака». Она охраняла оба дома. Моя мама приносила Вере Павловне каждый день по литровой банке свежего коровьего молока. Та в ответ давала нам мёд!
У Веры Павловны был племянник (брат Розы). Звали его Юрий. В школе он с нами не учился. Он красиво насвистывал песни. Мы издалека по свисту узнавали знакомую нам мелодию. Потом они уехали. В их доме стали жить другие семьи. Потом его сломали. Дом был очень старый.
Уже в советское время, году в 1949 – 1953, с южной стороны храма, в стене сделали большую дверь. Туда свозили в мешках зерно и ссыпали на пол для просыхания. Более или менее высушенное зерно отправляли в деревянное здание, которое специально было построено для зерна (на берегу Зеленика).
В храме, где сушилось зерно, на окнах долго сохранялось изображение святых Бориса и Глеба. Обо всём, что я видела в храме и вокруг него, мне много раз рассказывала моя бабушка Анастасия Павловна (Царствие ей небесное).
…Рядом с храмом, с северной стороны, хоронили зажиточных заводчиков посёлка Шокша. В Шокше кожевенный завод начал работать ещё до революции 1917 года. Он выдавал свою продукцию по всей России и далеко за её пределы. А во времена Советского Союза заключать разные договора на завод приезжали представители из многих союзных республик. На заводе работали люди со всей округи. Из нашего Михайловского, конечно, тоже: Сионский Михаил Николаевич служил начальником отдела кадров; бухгалтером работал Маврин Василий Иванович. Помню двух женщин из нашего села, тоже позднее работавших на кожзаводе, – Виноградову Т.К. и Галину Волгину.
В 1941 – 1945гг. завод работал на полную мощность. На всю округу были слышны заводские гудки. Даже до Михайловского они доносились. Мы, ребятня, шли в школу к 8 часам утра и слышали их.
При заводе была заводская столовая. Её аппетитный запах распространялся на всю округу. Мы, голодные, возвращались из школы и жадно вдыхали этот запах. Как же нам хотелось попробовать хоть тарелочку заводского супчика! Или щей! Но! Увы и ах!
Администрация тогда заботилась о женщинах, особенно о молодых мамах. Завод два раза в неделю в определённые часы выпускал по трубам горячую воду прямо в реку. Женщины вставали на мостике на колени, подстелив под себя что-нибудь мягкое, и полоскали бельё в тёпленькой воде.
В те трудные времена строили двухэтажные дома для рабочих завода. У каждой семьи около дома был участок земли для овощей.
…Прошло много лет. Я снова со своими родственниками побывала в нашем Михайловском храме. В тот день, 4 августа 2023года, в церкви было венчание. К сожалению, мы видели лишь часть этого таинства.
Понравились цветы, которые теперь растут при входе в храм и радуют людей. Земляки, продолжайте это дело! В моё время такого не было. Моя бабушка не раз и не два говорила: «Не может быть такого, чтоб наш храм не возродился снова! Обязательно придут умные люди и сделают не хуже, чем было!»
Так и случилось. И слава Богу!
Михайловское в годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Германия без объявления войны вторглась в просторы нашей Родины. Об этом говорили все радиоприёмники нашей страны. Громко!
В наше Михайловское мужчинам стали приходить повестки: явиться в районный центр в райвоенкомат. Женщины пекли пироги, собирая мужчин на войну. Все думали, как жить дальше, как растить своих детей. Отцы давали наказ своим детям-сыновьям, чтоб хорошо учились в школе, помогали мамам. Детей в каждой семье было по четыре-пять человек.
Провожали новобранцев всем селом. Плакали все: и жёны, и дети, и родители. Провожали с песней, с гармошкой. Потом стали ждать писем. Они приходили редко, за всё время одно-два, не более. Вот и мой отец Шубин Константин Иванович написал лишь одно письмо с дороги: везут на фронт, а куда – неизвестно. И больше писем не было. О местонахождении отца Москва лишь отвечала: в живых и мертвых не числится. Мы писали несколько раз. В разное время. Ответ был один и тот же.
…В 1942 году в нашу Богчинскую начальную школу привезли детей из блокадного Ленинграда. Местные ребятишки стали учиться в соседней семилетней школе в посёлке Шокша. Детей-блокадников было много. Они были разного возраста, разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, евреи.
Детей поселили в Богчинском детском доме. Заведовать детским домом стали супруги из Ленинграда (фамилию не помню). Детей хорошо одевали (посезонно). Было отличное питание. У населения покупали мясо, птицу, ягоды, фрукты, яблоки. Колхоз помог детдому обустроить земельный участок, на котором выращивали картофель, свёклу, лук, морковь и др. Посадили кусты смородины, крыжовника.
Там работала агроном из нашего села – Августа Александровна Новинская. Дети тоже старательно трудились на своем участке. Собирали неплохой урожай. На пищевые отходы выращивали свиней, кур; держали одну-две коровы. Несколько женщин из села Богчино работали в детском доме уборщицами, а также ухаживали за животными. Возили воду из реки в бочках на лошади.
А мы, юные жители Михайловского, работали на колхозных полях. Собирали колоски, разбивали глыбы земли после работы трактора. Теребили лён, убирали горох на поле. Сажали и поливали капусту, осенью её убирали. Пропалывали морковь, свёклу, лук. На каждого из нас заводили колхозные книжки. И каждый день записывали нашу работу. Эту работу выполняла молодая девушка Нина Лобина. В школе нас предупредили, что мы должны к 1 сентября принести в школу эти книжки. Такое указание было из РОНО (районный отдел народного образования). Так было несколько лет.
Шла война, но в стране был всеобуч, а потому все дети всё равно учились в школе, в селе не было ни одного неграмотного ребёнка. Среди моих сверстников потом двое стали инженерами; много было офицеров, двое-трое стали полковниками. Многие стали учителями.
Нам нравилось работать на заготовке силоса. Силосом кормили коров, чтобы повысить их удой. Коров в селе было много. Заранее была выкопана яма – глубиной 22,5 метра и в объёме 3-4 метра. За селом, на лугах, молодой парень работал на косилке, косил траву. Двое-трое парней на лошадях, на тарантасах, привозили эту траву и сбрасывали её в яму. А мы, подростки, разбрасывали траву равномерно и уплотняли её.
С нами вместе, за старшую, работала опытная женщина Таисия Васильевна Колесникова. Мы её звали тетя Тася. У неё было пятеро детей: двое дочерей и три сына. Муж, отец – на фронте. Это была весёлая, общительная женщина, шутница, затейница. Из неё, как из рога изобилия, сыпались шутки, прибаутки, пословицы, поговорки. Мы слушали её и смеялись. Некоторые её словечки запомнили на всю жизнь:
- У тебя мамаша злая, как крапива жгучая.
- С тобой водиться, что в крапиву садиться.
- Сытое брюхо к учебе глухо.
- Ну и нос, что через Волгу мост!
А когда парни привозили траву – она брала горсть травы и говорила: «Давайте рассмотрим, какую траву будут есть наши коровушки?» Мы называли вслух: это клевер, лопух, мать-и-мачеха. А когда мы обнаруживали одуванчик, тётя Тася так о нём приговаривала:
Одуванчик всех полезней,
Лечит разные болезни.
Он нам бодрости прибавит,
От болезни нас избавит.
Вылечит суставы, кости,
Чтоб быстрее бегать в гости.
У красивенькой подружки
С носика сведёт веснушки.
Он повысит аппетит,
Рацион обогатит.
Её загадку про одуванчик с детства запомнила:
Носит одуванчик
Жёлтый сарафанчик.
Подрастёт — нарядится
В беленькое платьице:
Лёгкое, воздушное,
Ветерку послушное.
Однажды одна из девочек уединилась, трёт глаз и плачет. Попала соринка. Подружка успокоила: со слезой выйдет! Всё равно девочка плачет. Тётя Тася позвала её к себе. И говорит: «Не бойся, больно не будет. Я тебе кончиком моего языка удалю соринку из глаза». Уверенно, широко растопырив пальцы, берёт девочку за голову и приближает к себе. Начинает что-то делать. Мы все затихли. Наблюдаем. Не прошло и минуты как «хирург» удалил соринку. Девочка улыбается. Благодарит свою спасительницу. Подходит к ней. Обнимает и нежно целует в обе щёки.
Ещё случай
Среди мальчишек, которые привозили траву для силоса, был Серёжка – хорошенький такой, а волосы у него были ярко-рыжего цвета. Девочки, которые помладше, дразнили его: рыжий, рыжий, конопатый. Тетя Вера, проходя мимо, услышала и сказала:
Так нельзя! Беленькие, черненькие есть, а рыженькие – в честь!
О нашей работе, о нашей помощи колхозу писали в местной районной газете «Северный колхозник». Называли наши фамилии и имена: Малофеева Нина, Потемкина Валя, Леванина Римма, Новинская Августа, Зоя, Настя и Люба Шубины и другие.
Работали все, приближая Победу!
А как трудились наши матери-женщины! Каждая была героем своего времени! Они даже и не думали про выходные и праздничные дни. Знали одно: коровы хотят есть и пить каждый день! Каждая вставала рано, в четыре утра. Надо было приготовить еду для своей семьи, чтобы отправить детей в школу. И идти без опоздания на утреннюю дойку. Потом вторая, третья! И так каждый день, каждый год. Об отпуске даже и не мечтали. Молоко возили каждый день в Галич на молокозавод. У каждой доярки было по десять, а то и более коров. Чтобы коровы давали больше молока, доярки добавляли в кормушку каждого стойла порцию свежескошенной травы.
На молочной ферме работал мужчина-фронтовик – Арсений Павлович Потёмкин. Он следил за состоянием здоровья коров, за их надоями. У него была постоянная формула: «У коровы молоко на языке». Он заранее обходил просторные луга и определял, где можно подкашивать траву для вечернего ужина коровам. А привозил эту траву на лошади эвакуированный во время войны из Белоруссии Иван Федорович Былинович.
Женщин-доярок было много. Они были разного возраста: от 35 лет и старше. У всех дети школьного возраста.
Постоянные доярки
1. Малофеева Вера Александровна
2. Колесникова Таисия Васильевна
3. Шубина Прасковья Михайловна
4. Новинская Александра Филаретовна
5. Малофеева Анастасия Ивановна и др.
А какой красивый, добротный был построен погреб-ледник для хранения молока! Ежегодно наполнялся он снегом и льдом. Там хранились бидоны с молоком. Молоко ежедневно отвозили в Галич на молокозавод. Эту работу выполняла Анна Николаевна Тёмнова. Колхоз «Победа» по надою и сдаче молока всегда был впереди.
Рядом с коровником стоял телятник, где подрастали только что родившиеся телята. За этим молодняком ухаживала Татьяна Ивановна Лобина.
Для работы на ферме нужна была вода, много воды. Вот и решили однажды на собрании женщины выкопать пруд, большой и глубокий. Неподалеку поставили водонапорную башню. Воду подогревали.
За всем этим хозяйством стояла молодая, старательная, ответственная, умная, смелая (взять на себя такое дело!) мать пятерых детей Надежда Петровна Леванина. Честь ей и хвала!
В центре села стояли две вместительные конюшни. Лошадей было много. В хозяйстве они всегда нужны. За лошадьми в селе ухаживали Анна Николаевна Леванина и Николай Павлович Баранов.
В колхозе во время собраний партийной организации решались важные, по сути – государственные вопросы. Секретарём партийной организации был Иван Карлович Яновский. Проживал он со своей семьёй в Богчино.
А Софья Михайловна Сурыгина-Сваина была секретарём комсомольской организации. Она жила в деревне Княгинино. На комсомольских собраниях решались разные вопросы: как своими силами организовать концерт песни и пляски для колхозников; где построить спортивную площадку для игры в волейбол; как и где организовать танцевальную площадку для молодежи?
Часто созывалось правление колхоза. В состав правления входили активные, ответственные люди: Шубина Екатерина Николаевна, Потёмкина Надежда Васильевна, Баранова Капитолина Александровна. Они решали, когда начинать сенокос, посевную, уборочную и другие важные вопросы.
Бригадиры – Сионская Зинаида Ивановна и Мирохина Мария Александровна – обе активные, знающие свою работу, ответственные женщины, пользовались среди селян заслуженным авторитетом.
За состояние зерна и его количество отвечал Буров Николай Михайлович. За колхозную технику, её содержание, ремонт и пополнение отвечал Груздев Николай Александрович. Оба Николая, оба соседа прекрасно справлялись со своими обязанностями. А принимал зерно после веялки (после привоза с риги) на хранение на склад Маврин Иван Васильевич (дед уже в преклонном возрасте).
Во время созревания зерновых агроном-женщина по фамилии Шабанова (имя, отчество не помню), из деревни Лобачи, сооружала в вазе (её заменяло ведро!) своеобразные букеты: она обёртывала ведро бумагой, посередине завязывала красивый красный бант и ставила «вазу» на видное место с «букетом» из колосков ржи, пшеницы, ячменя и овса. А как был красив «букет» из гороха! Как стебельки со стручками (полными горошинок или ещё плоские, зелёные, яркие) ниспадали до поверхности тумбочки в уголке конторы! Приходили колхозники и любовались такой красотой.
Когда барометр в конторе показывал хорошую погоду – готовились к покосу травы. Не рядом, а на расстоянии. Это было целое событие и немалая подготовка.
Поездка «в реки»
Слово «реки» – это только нам (там жившим) понятно. Это слово вмещает многое: ожидание, сборы, планы! Надо было взять с собой посуду, питание, инвентарь (вилы, лопаты, грабли, носилки); подготовить транспорт (лошадей, тарантасы); организовать людей – и тогда уже отправляться «в реки»! Это делалось много лет ежегодно! Мы, молодые девушки, учащиеся педучилища, после сдачи экзаменов работали в колхозе до 30 августа. Нас ждали. Сначала группа женщин на неделю выезжала косить высокую траву. А потом уже мы ехали собирать скошенную траву в кучи, на носилках вдвоем подносить её к стогам. Молодой парень подавал вилами траву женщине, которая делала стог. Но сначала знающий мужичок вставлял в землю жердь, укреплял её, под неё выкладывал из срубленного ивняка дренаж, а уж затем начинали метать очередной стожок.
Пока мы работали, убирая сено на стога, Анна Ивановна Иванова готовила в большом бачке на костре бараний суп с картофелем, луком, морковью. Аромат был неописуемый. Вкус супа был очень хорош. Такую вкуснятину мы ели на воздухе 10-12 дней (каждое лето). А после супа пили чай с листочками смородины. Она росла рядом. А когда собирались домой после работы, пили с булочкой кипячёное с пенкой молоко, которое мы утром по приезде ставили в кустики в холодную воду.
Моя мама, Прасковья Михайловна, тоже косила в реках. А я в иные годы в это время доила у мамы двенадцать коров в дневную и вечернюю дойку (в лесу, на отдыхе коров). Утреннюю дойку мама делала сама (жалела меня будить так рано).
В колхозе мы работали каждый день с 22 июня по 30 августа. 30 августа узнавали расписание уроков в школе. И мылись в бане.
1 сентября начинался учебный год. Нас много училось в педучилище и две девочки – в сельхозтехникуме. Вместе с директором Шоковской семилетней школы Анной Ивановной Василисиной уже в сентябре, в холодную погоду, мы все вместе убирали морковь, позже – капусту, картофель.
После войны
Вся страна ждала окончания войны, ждала победы. И вот этот день настал – 9 мая 1945 года. Ликовала вся страна! Поздравляли друг друга! Целовались, смеялись и плакали! Громко играла музыка. Мир! Уже через несколько лет после Победы в магазинах стали появляться разные ткани: простые, шёлковые, шерстяные. На полках лежали стопками разного размера махровые полотенца. А какого цвета продавалась «шотландка»! Просто глаз не отвести! Впервые познакомились с новым словом «штапель».
Каждый год в апреле снижались цены на продукты и промтовары. Были снижены цены на соль и на спички. Об этих новостях громко говорили по радио. У нас в селе, в клубе был установлен громкоговоритель. С молодёжью даже разучивали песни по радио. Помню песню «То берёзка, то рябина…»
В 1948 году тов. Сталиным был брошен клич: «Украсим Родину садами». В наш колхоз «Победа» из Костромы привезли саженцы лип, берёз, тополей и др. Посадили саженцы у пруда Зеленика. Они принялись. Иногда там без присмотра гуляли коровы, овцы, козы. Топтали, конечно.
О товарище Сталине много писали в газетах, говорили о его роли во время войны и после, о его заслугах:
Сталин – это дружба!
Сталин – это мир!
И Великих строек
Первый командир!
И еще:
Мы крепки, как скалы!
Нас нельзя сломить!
Потому, что Сталин
Научил нас жить!
Во время войны и после в нашем Галиче работали педучилище, медучилище, сельхозтехникум, культпросветучилище. Потому и в Михайловском было много учащихся, студентов. Молодость брала своё, было весело. Тем более, когда в колхозе почти вся работа выполнена, урожай убран, можно и погулять, и отдохнуть. Помню, как проводился в селе «Праздник урожая». Он проходил в клубе, в большом помещении, в зале, перед сценой.
У стены расставлены столы. С обеих сторон сидят колхозники разного возраста. Все весёлые, нарядные. Мы, девушки, в нарядных платьях, в туфельках. Наши мамы смотрят на нас и любуются. А мы – на них. Мужчин мало. Стали танцевать мама с дочкой, сын с мамой. Баянистом был мужчина из Шокши по фамилии Бобыльков (имя не помню). Танцами руководил Борис Тихомиров – молодой паренёк, отслуживший в армии. Очень приятно было смотреть, как женщины танцевали «Кадриль». Было несколько разных фигур, и под каждую фигуру своя музыка. Очень интересно и красиво.
Танцевали долго. Бабушки смотрели, как молодёжь танцует вальсы, фокстроты, кадриль, цыганочку, яблочко.
Когда все уселись на свои места – открывался занавес сцены. Он состоял из двух половинок, на которых было изображено начало новой жизни. На заднем плане видны новые дома, впереди фигуры молодых ребят и девушек. Юноша в белой футболке с длинными рукавами, застёжка – шнуровка. Девушка в красном платочке, в яркой футболке. Их взгляд устремлён в будущее.
Эту картину нарисовал масляными красками на полотне художниксамоучка Налимов Николай Михайлович. По-моему, выполнено было прекрасно. Этот занавес долгое время украшал сцену.
Была настоящая суфлёрская будка, а за сценой две комнаты, мужская и женская, для переодевания.
Все сидят. Тишина! Ведущий даёт слово председателю колхоза «Победа» Волгиной Полине Андриановне. Зал её появление встречает бурными аплодисментами. На сцене стол. И рядом стул. На столе тетрадь с записями. Полина Андриановна благодарит всех собравшихся за отличную и хорошую работу и поздравляет с началом
«Праздника урожая». Объявляет Полина Андриановна о том, что наш колхоз «Победа» по всем показателям опять впереди, о награждении нашего колхоза «Победа» переходящим Красным знаменем. Опять аплодисменты. Благодарит трактористов: Котикова Николая Дмитриевича, он бессменный тракторист, обрабатывает землю во многих сельских советах Галичского района; Сваина Геннадия и др.
Благодарит и называет всех по имени и отчеству. Благодарит доярок, женщин за высокий урожай зерновых, за высокие надои молока, за воспитание молодняка – телят. Не забыла и о старшем поколении женщин, тоже помогающих колхозу, и о школьниках, всё лето работавших на разных работах, о женщинахкурятницах, собирающих много яиц. Обо всех сказала, никого не забыла. Окончила своё выступление словами: «Всем спасибо за работу! Будем так же работать и в следующем году! Все будем здоровы!» Кулинары – женщины приготовили к празднику пироги с капустой, сладкие, картофель с мясом, капусту с мясом, чай с разными конфетами.
Угощение и пироги выпекали Надежда Васильевна Потёмкина и Рая Баранова в соседнем доме, рядом с клубом. Помогала им во всём хозяйка этого дома Мария Северьяновна Хапкова. Спасибо им за это!

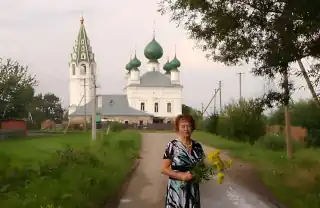
О тех, кого я знала и всегда помню.
Римма.
Римму Леванину я знала со школьных лет. Учились вместе в Богчинской начальной школе. Она росла здоровой, рослой, серьёзной девочкой. Была старшая в семье. Обо всех всегда заботилась. Помню, лет в семь-восемь Римма ездила с родителями на октябрьские праздники в Ленинград. Потом пришла в кино в новом, красивом, синего цвета, зимнем пальто (чуть ниже колен). На плечах красивый бархатный воротник такого же цвета. Один конец воротника аккуратно входил во второй конец. Смотрелось очень красиво. И шапочка на ней была с длинными ушками. На ногах – резиновые ботинки с бархатными отворотами, застегивались на пряжку. В резиновые ботинки можно было вставить ботиночки или туфельки. Если нужно – ботинки можно было снять. Настоящая городская модница. Такой и была всю жизнь! Костю я знала хорошо. Они гуляли с моим братом Станиславом. Вместе играли на лугу вечерами. Иногда и в войну. Среди них был мальчик Анатолий Макунин (будущий генерал). Сразу были видны замашки военного. Он их выстраивал по одному, командовал, подавал команды. Они слушали и не возражали. Он Костин ровесник. Отец Анатолия – юрист. Потом они переехали в другой город, ближе к морю. Больше я его не видела.
Перед окнами Леванина дома, за забором, росли две большие берёзы. Между берёзами положили толстую перекладину из ели. На ней долго висела верёвка и доска. На ней все качались. Однажды верёвка оборвалась. И Костя упал на землю, на многолетние корни. Мама Надя ездила с ним в Галич в больницу. Костя долго болел. Переживали. Думали, что его по болезни не примут в военное училище. Но всё обошлось. Он сам передумал. И поступил учиться в горный техникум в Тульской области. Там потом долгое время жила и работала вся его семья. Володю, третьего, я знала очень мало. Он в нашу компанию не входил. У них была другая возрастная группа. Лилю тоже знала мало. Запомнила, как она училась в пятом-шестом классе. На ней было красивое платье в клеточку. Шила его тётя Надя Бочёнкова. У нас в селе она была хорошая портниха. Нам с Риммой она тоже шила крепдешиновые платья с красивой розочкой на левой груди (ею же сделанной). Лиля с Генриеттой Бочёнковой были подружками. Младшую Людмилу я тоже мало помню. Знала, что она училась в педагогическом институте в Вологде.
Римма! Она из нас самая первая вышла замуж. Что она встречается с Юрием – мы даже и не знали. Всё узнали на свадьбе. Обе матери хорошо подготовились к свадьбе. Свадьба была зимой. Было холодно! Поздравляли молодых на втором этаже дома у Юрия Павловича. Поднимались по лестнице на второй этаж. Нас, девочек, было много. И родных было много. Обмена кольцами не помню. Мне кажется, что это тогда было не в моде. Всем это казалось мещанством. «Горько!» кричали! Помню! Это происходило в каникулы. Римма тогда работала учителем в селе Красное-на – Волге в Костромской области. Она доработала учебный год и уехала оттуда вслед за мужем в далёкий Самарканд.
Хоть Римма потом жила и за границей, и в других разных городах – она всегда приезжала в отпуск в своё любимое Михайловское. Всегда рвалась сюда! Я всегда её буду помнить и поминать. Она это заслужила! Старалась прибыть в село к 9 мая. И очевидцы рассказывают: Римма нарядная, с медалями на груди шла ровным шагом, уверенной походкой на луг к монументу Славы, к памятнику односельчанам, участникам боёв 1941-1945 гг.
А сколько Римма облагородила старых, заброшенных могил! С помощью родных нашла места захоронения, сделала кресты, портреты, таблички, уточнив даты рождения и смерти. Ходила в Галич, хлопотала и всё делала за свой счёт.
Добрая ей слава и вечная память!!! Я никогда не думала, что Римма покинет эту землю раньше меня, с её твёрдой походкой и с голосом, как звенящая струна.
5 августа 2021 г. у нас в Михайловском доме в 17.00 должны были собраться знакомые – Римма, Августа (Зои Павловны Гарбуз) – сестра, Аля Тихомирова-Кузнецова с сыном, мои племянницы – Оля и Людмила, я с сыном и невесткой. Приближалось время. Римма пришла без опоздания. Лёгкой походкой, в красном легком пальто, в шляпке, в туфельках на низком каблучке явилась она в хорошем настроении. Поговорили, посмеялись и нас пригласили к столу. Племянницы всего наготовили, разных салатиков (некоторые я впервые пробовала). Было и шампанское (Риммино любимое). Мы также привезли московского вина, а сок был с нашего огорода. Заметила, что Римма мало ела. Тая предлагала разного кушанья, а Римма лишь говорила: «Я сыта. Спасибо. Попробую».
Уходя сказала: «У вас мало места. Давайте опять будем собираться у меня». Люся хотела её проводить, но Римма уже ушла. Людмила догнала её почти у Потёмкина дома. Как жаль, что больше никогда не встретимся, не увидимся, не поговорим. А у нас всегда для этого было время. Римма мне позвонила, когда приехала из Галича.
Сказала, что ей в дороге стало плохо. Какой-то мужчина помог ей.
Я изо всех подруг с ней была больше всего знакома – мы ровесницы, одноклассницы. Я ей за всё очень благодарна, буду всегда её помнить! Поминаю её каждый день. Очень жаль, очень грустно, что нет её на свете.
…У меня в памяти сохранилась бабушка Риммы, мать Надежды Петровны – Ольга Васильевна. Мы звали её просто – баба Оля. Она была всегда рада нам, подругам Риммы. Была всегда в работе. На голове платок простой, белый, завязан на узелок. Ситцевая кофточка с пуговками спереди, рукав чуть ниже локтя, юбка чёрного цвета на резиночке. И всегда летом на босу ногу (видимо, не было времени даже переобуться, да и не во что!), всё время занята с детьми и по хозяйству.
Помню случай. Тётя Надя делает тесто перед отправкой мужа (по повестке) в райвоенкомат. А бабушка Оля помахала мне рукой, чтоб я пришла к ней на кухню Она там держала на столе маленькую, но вёрткую Людмилу. И говорит мне: «Посмотри за Люськой, на руки её не бери, она тяжёлая, пусть на столе полежит. А я пока соберу кур на насест и приду». Ходила долго. Малышка Люся рвётся со стола, ей хочется двигаться, удерживать её всё труднее.
А Надежда Петровна в это время месит тесто так старательно, так усердно! Перед ней стоит прямо на полу эмалированное ведро с тестом. Она то одной, то другой рукой месит его и месит. И удивительно – на меня ноль внимания! Ей некогда! Не до меня! Она вся в своих делах и думах.
Еле я тогда удержала Люсю!
…Вообще мы часто собирались у Леванина дома. Лакомились «боярышником». Созревший, он был очень вкусный. Других лакомств не было. А у нашего дома рос куст рябины лесной (с ягодами оранжевого цвета). Ели и их. А осенью наши бабушки угощали нас пареной репой. Тоже вкусно. Морковь мы ели прямо с грядки, огурцы тоже хрумкали свежие. Мамы сажали много тыкв. О кабачках тогда даже не слышали. А тыквы готовили так: заливали в миску молоко, разбивали туда несколько яиц и нарезали туда же кубиками тыкву. Миску эту ставили в протопленную печь. Получалось вкусное угощение, с красивой, жёлтого цвета пенкой.
На трудодни колхозникам тогда давали немного масла льняного. Поэтому изредка наши мамы пекли в русской печке толстые блины и мазали их этим маслом.
Осенью солили много капусты. Хранили её в бочках, на морозе. Хватало на всю зиму. Покупали в Рыбной слободе в Галиче сушёную мелкую рыбу – вандыш. В одном килограмме её было так много! Она такая лёгкая! А какая вкусная! Покупали у рыбачих. Вандыша хватало на супы на всю зиму.
Почти все в селе держали корову, поросёнка, овец, кур.
А сколько выращивали картофеля! Очень много. Излишки продавали. Ведь денег на трудодни колхозникам тогда не давали. Правда, выписывали некоторые продукты: зерно, масло, муку (редко). Иногда помогали с сеном. Но деньги всё равно были нужны. И где их взять? Вот и держали в Михайловском поросят – одного для семьи, другого для продажи. Продавали также молоко, яйца. Так и жили. Трудно, конечно, но дружно, весело и интересно, несмотря ни на что!
Помню, что иногда к бабушке Оле приезжал её сын - дядя Саша (все его звали Сана) из соседнего Лаптева. Здоровый такой, высокий, с румянцем на щеках. Он в колхозе работал на лошади. Нас, ребятню, часто звал прокатиться до риги. А потом предлагал пробежаться обратно, для здоровья!
1952 год
Запомнился мне такой эпизод. У нас в Галичском учительском институте в феврале 52-го года наступили зимние каникулы. Мама отправила меня, после стирки и кипячения белья, прополоскать его в Шокше на реке. Там два раза в неделю на несколько часов пускали по трубам с кожевенного завода горячую воду прямо в реку, чтобы женщины могли прополоскать бельё не холодной водой, а тёпленькой. И нам, не шоковским жителям, тоже разрешено было там полоскать своё бельё.
Помню, иду я туда, а Надежда Петровна Леванина, уже прополоскав, идёт обратно. Повстречались мы у перекрёстка двух дорог на Лобачи и Михайловское. Друг друга узнали. Обе улыбаемся. Она мне сообщает, что Римма 7 февраля родила дочку. Я её поздравила с рождением внучки и со званием бабушки. Она, такая довольная, что щёки от мороза стали ещё румянее. Улыбается во весь рот: «Дочку назвали Наташкой».
«Это я! Та самая Наташка!»

Н.А. Розанова (Зубова)
Здесь Родины моей начало

Мой очерк – это рассказ о моем детстве, это те впечатления, которые я пронесла через всю свою жизнь. Если кто-то, прочитав, заметит какие-то неточности, я спорить не буду. Я ни на что не претендую. Но передо мной стоит одна задача: передать моим детям и внукам то, что помню о своем детстве, о близких мне людях, о времени, когда я была абсолютно счастливой. Это время – мое детство, мои школьные годы.
Михайловское
Я родилась и выросла в Михайловском – селе в трех километрах от районного центра. Мое детство пришлось на конец 50-хначало 70-х годов. Тринадцать лет как закончилась Великая Отечественная война. Страна подзалечила раны, но люди жили все еще довольно тяжело. Взрослые рассказывали, что даже элементарные продукты достать было проблематично. Ребенком я была крепким, громким криком заявляла свои претензии на дополнительное питание. Чтобы обеспечить меня манной кашей, приходилось просить живущих по городам род-
ственников, чтобы те присылали посылки с крупой. Это сейчас коровье молоко и манная каша считаются практически отравой для младенца. А мое поколение, и мои детки ели ее и прекрасно при этом себя чувствовали.


Одежду я донашивала после своей старшей сестры Али и двоюродной сестры Гели. Никаких комплексов по этому поводу у меня не было. Я с удовольствием одевала все, что мне доставалось: вигоневые кофточки, шаровары с начесом, плюшевое зимнее пальто с капюшоном, шерстяной матросский костюмчик, ботинки…
Помню, Аля взяла меня с собой в Богчинскую начальную школу на новогодний праздник. Я была вне себя от радости, что пойду на елку, что надену красное Алино шерстяное платьице, которое ей обмалело. Я до сих пор помню белые пуговки на рукавах и поясе этого платья и его запах – нежно-сладковатый. Кстати, на этом утреннике я исполнила первую в своей жизни роль. Почему – то меня, еще не учившуюся в этой школе, назначили быть Новым Годом. Прикрепили табличку «1965», на голову надели шапочку красного цвета. В нужный момент я выбежала к зрителям со словами: «А вот и я! Здравствуйте, ребята и зверята!».
Я знала свое село вдоль и поперек, потому что в детский сад не ходила, была предоставлена самой себе и целые дни проводила на улице. Умели же наши предки выбирать себе место для жительства! Наше село стоит на холме. Откуда ни иди – со стороны Галича, Шокши, Богчина – нужно подняться в гору. А церковь, построенная в конце 18-го века, видна издалека.

Росла я в своей деревне и не очень задумывалась о ее истории. Не расспросила подробно, не записала. И только будучи очень взрослой, поняла, как много я упустила. И сейчас я чувствую свою вину.
Немного я знаю об истории своей малой родины. Михайловское – одно из старинных сел района. Первое найденное упоминание о нем относится к 1533 году . В то время оно принадлежало боярам Чередовым.
В 18-м веке владельцем села стал князь Федор Алексеевич Голицын, который приходился братом воспитателя Петра I Бориса Алексеевича Голицына. Позже Михайловское вместе с близлежащими деревнями перешло в качестве приданого дочерям Федора Алексеевича Прасковьи и Марии и их мужьям князьям П.Н.Щербатову и П.А.Толстому. Князья владели селом до 1860 г.
Официальных названий улиц во времена моего детства не было. Одну из улиц называли Леванинской, другую Барановской по фамилиям живущих на них семей. Барановскую еще называли Могильником. Зимой мы катались на лыжах с горы «Барыня» (или «Барынька»). Это склон к Травяному зеленику. Помню, при въезде в село со стороны Галича стояли деревянные ворота (мы их называли «воротечки»). Большим шиком было доехать на санках с магазинной горы до воротечек. От центра Галича до Михайловского ведет прямая дорога, которая в далекую старину шла на Архангельск (эта улица в Галиче называлась Архангелогородской).
Село начиналось с кузницы. Она стояла на берегу пруда при въезде в село из города. Правда, я не помню, чтобы эта кузница работала. Старое прокопченное строение, видимо, уже не соответствовало требованиям и его забросили. На другом берегу пруда было несколько бань и склад.
Чётная сторона улицы, на которой стоит наш дом, и сейчас осталась без изменений: дом Цветковых, Колесниковых, тети Нюры Тёмновой, дом Хахановых с магазином, наш дом, Шубиных, два двухэтажных четырехквартирных дома, контора, дом Малофеевых.

Нечётная сторона поменялась. Там, где сейчас живут Смирновы, стоял дом тети Шуры Новинской. На месте двухквартиного дома Малофеевых была луговина, на которой наша семья заготавливала сено. Дальше стоял дом Солиных.

В следующем доме жили Океановы и их бабушка Шура Тихомирова. Дальше библиотека с клубом. Клуба больше нет, здание сильно обветшало, несколько лет назад провалилась крыша, клуб разобрали. В доме зажиточных Басовых проживала сестра моей бабушки баба Маня Хапкова. В следующем доме жила семья Серовых, а рядом стояла маленькая избушка тети Нади Нелеповой. На их месте выстроен особняк. На месте домов Ивановых и бабы Нюры Бахмуровой построили новые дома. Завершает порядок дом Потемкиных.

Колхоз в Михайловском был создан в 1930 году. Единоличные крестьянские хозяйства объединились в артель «Победа». Долгое время колхозом руководила Полина Андриановна Волгина (ей принадлежал дом, в котором сейчас находится детский сад). Полина Андриановна приехала из Ленинграда, где работала на заводе. Первоначально она была рядовой колхозницей, а затем ее избрали председателем.
Средняя урожайность зерновых составляла 14 ц с гектара, а на отдельных участках она доходила до 35ц. На полях вводились севообороты с посевом многолетних трав. Росло поголовье общественного стада, были созданы свиноферма, овцеферма, птицеферма. С 1947 года колхоз «Победа» стал районным семеноводческим хозяйством по производству семян трав: клевера, тимофеевки. В колхозе выращивали овощи. На маслобойке перерабатывали молоко: делали творог, сметану, масло. Некоторое время там работала наша бабушка Паня. В 1953 году все деревни Богчинского сельского совета слились в один колхоз, который получил название «Имени В.И.Ленина». Я помню только птицеферму (мы называли её курятником), где работала мама. Петухи там были очень агрессивные, клевачие. Помню я конюшню, которая стояла в центре села, на берегу пруда. Потом её разобрали. За двухэтажными домами на нашей улице была столовая.
В 1964 году был образован Галичский совхоз-техникум. Наше село стало одним из производственных участков (а всего их было пять – Михайловский, Шокшанский, Дмитриевский, Центральный, Малышевский).
Жизнь кипела. Практически в каждом доме – многодетная семья. Семьи были многопоколенные. Почти все взрослое население работало в совхозе.
На центральной улице – контора участка. Там находились начальник участка, бухгалтер, механик, учетчик, зоотехник, агроном, ветеринар и единственный в селе телефон с номером 6-82. Но кроме бухгалтера в конторе целыми днями никто не просиживал, потому что их ждали гараж, ферма, телятник, зерноток, поля.
Долгие годы бессменным бухгалтером работала Римма Константиновна Иванова. Особо заметной ее должность была два раза в месяц – в дни аванса и получки. За деньгами она уезжала в город на машине. Узнав об этом, народ к концу рабочего дня начинал подтягиваться к конторе, а потом к магазину.
С получки нам, детям, покупали гостинцы: конфеты, печенье, компот «Ассорти», лимонад. Папе перепадала «маленькая» (четвертинка водки) или «красненькая» (бутылка недорогого красного вина).
На Михайловском участке было много техники. Вся она располагалась в церкви и на ее территории. Церковь закрыли в конце 30-х годов прошлого века. Священник Алексей (Тихомиров) был арестован в 1937 году, в 1938 году с колокольни сняты колокола, иконы и церковная утварь были увезены. Председатель колхоза Полина Андриановна выкупила здание церкви под склад. Возможно, это и спасло церковь от окончательного разрушения. Позже там был оборудован гараж.

Гараж Михайловского производственного участка
Наш совхоз был хозяйством сильным и высокопродуктивным. Он специализировался на молочном животноводстве, выращивании картофеля. Все поля вокруг были обработаны. Во время страды механизаторы не считались со временем, работали с утра до позднего вечера. Помню, я выходила к воротам дома посмотреть, как возвращаются с жатвы комбайны. Зрелище было захватывающим. На улице уже темно. И вот они, несколько огромных машин, с включенными фарами, друг за другом проезжают по нашей улице. А комбайнеры кажутся сказочными богатырями. В душе поднимается радость и гордость! Дух захватывает! Сельские подростки работали на зерноуборочных комбайнах помощниками, зарабатывали приличные деньги, покупали мотоциклы.
В Михайловском была полеводческая бригада, в которой работали женщины. Они занимались подготовкой к севу семян, переборкой картошки, подвозом кормов к ферме на лошадях, заготовкой сена на зиму.
Когда начиналась сенокосная пора, бригада женщин ежедневно уезжала на грузовой машине в «реки». По берегам рек Средней и Едомше находились покосы. Женщины уезжали утром и возвращались часам к восьми вечером. Косили вручную. Сушили сено, метали стога. Это была очень тяжелая работа. Жара, комары, слепни, усталость. Дома у каждой семья и дети. Не у всех были бабушки. На остаток вечера ждут нелегкие хлопоты по хозяйству. Нужно и постирать, и еду приготовить на следующий день, и скотину управить. А еще огород да и свой сенокос. Но ехали с работы с песнями! Около церкви повыпрыгивают из машины и заторопятся по своим заулкам, чтобы завтра утром начать все сначала.
Корова
Я – маленькая. Тёплый летний день. На мне надет клетчатый сарафанчик с проймами на пуговицах. Гуляю во дворе своего дома (у нас говорили «в заулке»). Мама и папа пилят дрова двуручной пилой. Бревно кладут на
«козлы» (ударение на первом слоге). Такое устройство для пилки дров было в каждом хозяйстве. С двух сторон крест накрест перекладины, образующие устойчивые ноги-опоры. Крестовины надежно крепятся поперечными перекладинами. Вот и всё. Клади бревно, бери пилу – и Бог вам в помощь!
Память сохранила, что на папе была надета толстовка с вельветовыми вставками. Я выхожу за ограду своего заулка и направляюсь к соседнему дому. Он двухэтажный, из красного кирпича. На первом этаже живет тетя Оля Хаханова (раньше Хахановым принадлежал весь дом). На втором этаже магазин. На лето к тете Оле приезжала внучка, моя ровесница. Её звали Верой. Это была симпатичная темноволосая девочка. Мы с ней иногда играли. Приезжала Вера со своими родителями. Её мама была учительницей, папа инженером. В какой-то момент я увидела, что Вера стоит у окна. Сейчас я уже не помню, была ли там рядом корова или она потом прибежала. Эта злополучное рыжее животное принадлежало Серовым с нашей улицы. Рога у этой коровы были очень острые, загнутые вверх.
Я подошла к подружке, и мы начали беседовать. Родители или не обратили внимания на опасное соседство меня и коровы, или просто не успели среагировать. В одно мгновение корова зацепила рогом пройму моего сарафана и подняла меня в воздух. Она стала беспорядочно передвигаться со своей ношей. Пуговица оборвалась, я оказалась на земле под ногами животного. Я этого момента не помню, знаю по рассказу взрослых. Когда родители увидели, какая беда произошла со мной, папа с палкой бросился на корову, не дал ей бодать ребенка на земле. Вызвали фельдшера Терезу Адамовну, никаких опасных повреждений у меня не было обнаружено.
Через некоторое время корова исчезла. Наверно, хозяева её продали. Она действительно бодалась.
Зима
Ещё вчера вечером была осень. Подморозило. Грязь на дороге превратилась в мерзлые кочки. Холодно и неуютно.
Утром все преобразилось. Выпал снег. Он лежал белый и чистый. На улице стало светло и празднично.
Я еду на санках. Меня везет мама. Санки не простые. Плетёные. Их у нас называли корзиной. На деревянных полозьях искусно сплетенный кузов с высокой спинкой. Бортики тоже достаточно высокие, постепенно понижаются к переду санок. В таких санках возили маленьких детей, постелив теплое одеяло и укутав малыша. Очень удобно для ребнка. Но я уже большая, мне три-четыре года. Встаю на коленки, поворачиваюсь спиной к маме. Внимательно разглядываю след, который тянется за моими санками. От деревянных полозьев он ровный и чистый.
Подарок
Папа работал в городе в строительной организации. Когда он получал зарплату (говорили «получку»), приносил нам, детям, какие-нибудь гостинцы. Помню маленькие шоколадки «Белочка» в красивых ярких обертках, а еще разноцветную пастилу.
Приближался мой день рождения. Как-то отмечать это событие было не принято. Не помню, я ли попросила купить мне подарок или родители сами догадались… Мне хотелось куклу. Уходя на работу, папа пообещал её купить. Задолго до его прихода я вышла на улицу. Конец сентября. Довольно прохладно. Подошла к калитке и стала ждать. Несколько раз выходила бабушка, звала меня домой. Но я была непреклонна. Стояла долго, до темноты. Дождалась! Папа принес мне большого Пупса! Мне исполнилось пять или шесть лет.
Гуляем!
В детский сад я не ходила. Мне там не понравилось. В первый же день во время тихого часа я оттуда ушла вместе со своей подругой. Правда, в ясли меня носили. В соседнюю деревню Лобачи, которая находится примерно в полукилометре от Михайловского. В Михайловском некоторое время детский сад располагался в здании, где сейчас находится библиотека. Потом детский сад открыли в одном из «стандартных» домов (сейчас это улица Победы). Это были небольшие двухквартирные сборные домики. Неохваченные детсадом дети были на свободном выгуле. Взрослые нас за ручку не водили и не пасли. Мы уходили на улицу, когда хотели. Проболтавшись там полдня, ненадолго являлись домой. А потом снова до вечера – вольница. Гуляли в пределах села. Летом много купались. Местом нашего пляжного отдыха были два пруда – «Зеленик» и «Канал».
«Зеленик»это большой пруд на краю села. Он был мелким и очень илистым.Там в основном купалась малышня. Боялись пиявок, которые водились в пруду в больших количествах. Мы их ловили и давили камнями. Ребята повзрослее пугали нас «конским волосом». Говорили, что это тонкое, довольно длинное существо, которое впивается в тело и продвигается до самого сердца. Как только «конский волос» дойдет до сердца, человек умрет. И ведь верили!


Еще один пруд находится через дорогу от «Зеленика». Мы называли его Травяным зелеником. Почему «Травяным»? Ответ прост. Этот пруд был больше похож на болото. По его краям рос камыш, какие-то водоросли. В центре вода была очень чистой. Летом поверхность воды украшалась лилиями. Сам цветок в окружении круглых листьев лежит на воде, а в глубину до самого дна уходит длинный прочный стебель. Очень хотелось заполучить эту красоту. От лилии шел тонкий, нежный запах. Оторванный от стебля, цветок быстро увядал.
Взрослые и старшие ребята пугали нас рассказами о том, что на краю пруда есть колодец. На Травяной зеленик ходили полоскать белье. На пруду строили длинные мостки.
Не зря говорят о том, что дети лишены чувства опасности. Помню, как-то весной мы сделали плот из каких-то гнилых бревнышек и досок. И ведь плавали! А дома о своем опасном водном путешествии ни слова.

В начале 80-х годов пруд очистили и углубили. В то время активно стали появляться садоводческие товарищества. Потребовалась вода. Подняли и укрепили южный берег, насыпали дамбу, установили насосы. Пруд превратился в место отдыха. Почти каждое лето там тонули люди. В некоторых местах на дне пруда вода ледяная. В моем детстве в водоеме ловили карасей «стуликами». Карасей ели: варили уху, жарили. Сейчас карасей практически нет. Зато появились ротаны, очень неприятные на вид.
«Канал» – это довольно длинный пруд, вырытый вручную. Он соединял два недалеко располагавшихся других пруда. Этот водоем находился рядом с фермой, конюшней, телятником. До появления водопровода отсюда брали воду для животных. Купались на этом канале и в одном из примыкавших к нему прудов, ближе к ферме. Что интересно: у берега пруд был глубоким, а в середине мелким. В воду заходили на канале и переплывали в пруд. На берегу пруда рядом с фермой и конюшней стояло здание ветеринарной лечебницы. Там работала помощником ветеринара тетя Тоня Груздева. В воде у берега пруда был виден сруб колодца. Это обстоятельство пугало. На канале было глубоко, только в одном месте его можно было перейти пешком. Это место мы называли бродом.
Около клуба тоже есть маленький прудик – «Звениха». В начале лета он кишел головастиками. Для нас было в радость наловить этих головастиков, а потом запустить их в соседнюю лужу на дороге, которая никогда не пересыхала, или обратно в пруд. Весной водоем наполнялся громким лягушачьим кваканьем. Потому и «Звениха».
Около дома бабушкиной сестры бабы Мани была канава, в которой даже летом стояла вода (она и сейчас существует). В ней водились тритоны. Поймать тритона и посадить его в банку было большой удачей.
В летнюю жару мы, дети, буквально паслись около прудов. Количество купаний в день доходило до двенадцати. Играли в «дом». Из кирпичей, досочек строили «корунки» – огораживали место для своего дома. Выносили кукол. Шили им одежду из тряпочек. Свои «богатства» хранили в коробках. С каким трепетом рассматривали мы содержимое коробок друг друга! Бывало, менялись лоскутками.
Из стручков акации делали свистульки. Иногда заглядывали на стихийно появившиеся помойки. Там можно было найти красивые фантики или осколки от посуды.
Наша баба Маня жила на втором этаже. Летом в хорошую погоду она открывала окно на сеновал. Я помню посиделки в этом окне. Сидишь ногами наружу и пускаешь мыльные пузыри. Это сейчас детям покупают готовые приспособления разных видов. А мы строгали мыло (старались взять туалетное, оно пахнет вкусно). Разводили мыльный раствор, находили подходящую соломинку, не магазинную, а настоящую. И вот вам пожалуйста – шоу мыльных пузырей!
За клубом было много деревьев. В моем далеком детстве это место называли клубным садом. Действительно, они росли рядами, видимо, у прежних хозяев (говорили, что дом, где располагалась библиотека, принадлежал Ледневым), здесь действительно был сад. Между деревьями росла трава – лопухи, «дудки», крапива. Мы играли в «стрелы». По каким-то подсказкам, приметам, записочкам, начерченным на земле указателям искали «клад».
А походы за горохом!!! Ох и доставалось совхозным полям! Каждый год горох сеяли в разных местах. И вот он поспел! По одному не ходили. Собирались компанией. Цель – нащипать стручков и наесться «от пуза». Как правило, никакой тары с собой не брали. Ни к чему было лишний раз привлекать внимание бабушки или родителей. Девочки платьишки повязывали поясками. Вот и готовы! Жара. Солнце печет. В поле выбирали местечки, еще не примятые предшествующими налетчиками. И вот они, прохладные, тугие гороховые стручки. Рвали быстро. Приседали, наклонялись. Боялись, что поймает начальство. По правде сказать, не припомню, что кого-то ловили и наказывали. Наелись. Набрали гороха. Стручки покалывают живот. Дотронешься рукой до отвисшего выше пояса платья, слышишь, как поскрипывает горох под рукой. А дома развяжешь кушак и посыплется из-под подола добыча!
Во дворе нашего дома стояли деревянные качели. Их делал папа. Не какие-нибудь веревочные, наспех повешенные, а стационарные. Папа следил за их состоянием, подновлял. Раскачаться на таких качелях можно было очень высоко. Мы проделывали такой трюк: раскачаешься и спрыгнешь, чем дальше, тем лучше.

Весной ходили собирать щавель по оврагу и в сторону Лобачей, гуляли за пределами села.

Около дома Бабы Мани целыми днями прыгали в «классики».
Много времени я проводила у Леваниных. Моя подруга Таня Цветкова (Соболева) до школы и в первом классе жила у своей бабушки Надежды Петровны Леваниной.

Я училась на класс старше. Довольно большой компанией заходили за Таней, все вместе шли в Богчино в школу, а потом обратно. После окончания первого класса Таня уехала к маме в Самарканд. Но практически каждое лето проводила в Михайловском. Дом бабушки Нади был очень гостеприимным. К ней приезжали многочисленные внуки разных возрастов. В хорошую погоду играли во дворе.

В ненастье проводили время в доме. Лазали на сеновал, на чердак. Сидели на печке, играли в карты – в «Дурака» и «Пьяницу». В комнате стояла этажерка с книгами. Я очень любила книгу про Гулливера с замечательными иллюстрациями. А сколько было выпито чая, какао с пирогами, блинами и оладьями, которые так вкусно готовила Танина бабушка.
Сестренка родилась
Детей в нашей семье было трое. Все девки, как говорил папа. Аля училась в седьмом классе, а я в первом. Ждали рождения брата. Придумали имя – Женька. Решили назвать будущего мужика, папиного помощника, именем его старшего брата, убитого на войне.
Накануне мама пошла в женскую консультацию, оттуда ее отправили в роддом.
19 марта 1967 года было воскресенье. Помню раннее утро, я проснулась, лежу на кровати, которая стояла в прихожей. Мы там с бабушкой спали. Сколько времени прошло, а память сохранила все до мельчайших подробностей. Открывается дверь, входит папа. Он из конторы звонил в больницу. На лице растерянность… Встал у порога «…Опять девка…».
Моя реакция была мгновенной. Я вскочила на кровати. «Пап, не возьмем! Нам девчонка не нужна! Пусть остается в больнице!». Я негодовала.
Иду из школы домой. Дорога уже подтаяла, потемнела от высыпавшегося с тракторных телег торфа, который вывозили на совхозные поля. Весна! Небо синее, высокое. Светит и пригревает солнце. И на душе у меня солнце. Я уже забыла, что предлагала папе оставить сестренку. Завтра поедем за ней и мамой.
Утром папа сходил на конюшню, запряглошадь. Приехали к больнице рано. Сильно морозило, было ветрено. Папа постучал в запертую дверь. Выглянула нянечка, сказала, что приехали слишком рано. Пришлось ждать.
На обратном пути заехали к Голубевым. Конечно, взрослые «обмыли ножки». По дороге домой моя четырехлетняя двоюродная сестра Галка Малофеева выпала из саней. Ничего не произошло, немножко испугалась.
Дома новорожденную положили на кровать в большой комнате. Для сестренки была приготовлена детская кроватка, которая стояла в спальне. Она была сделана из железных прутьев, покрашена в голубой цвет. Почему-то я запомнила, что папа подолгу укачивал Лену и пел колыбельные песни.
Мама была в декретном отпуске месяца два. Потом вышла на работу. Сестру растили сообща. Она росла худенькой. Кто-то отдал коляску. Смешную такую. Посадка низкая, почти у земли. Коляска была вся ободрана. Но и такой были рады. Для меня таскать на руках ребенка, пусть и мало весящего, было тяжело. А в коляске возить – в самый раз.
Когда Лена встала на ножки, ее отдали в детский сад. Я забирала ее оттуда по вечерам. Я ходила на все детские утренники, выпрашивала у мамы деньги и покупала ей на праздники недорогие платьица. Одно из них я помню и сейчас. Без рукавов, сзади сверху пуговка, платье фасона «трапеция». Прелесть состояла в том, что по диагонали перед был сшит из ткани разного цвета – голубого и розового. Стоило оно недорого, около трех рублей.
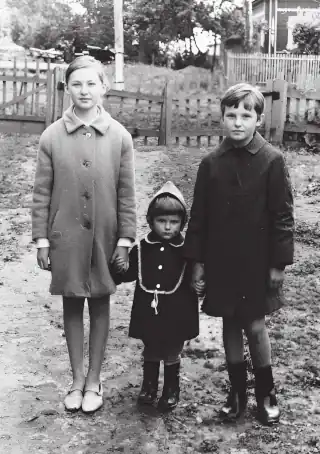
Помню, однажды я зачем-то поехала из школы в город. Зашла в детский магазин и увидела шубку из коричневого искусственного каракуля. Пришла домой и начала убеждать маму непременно купить ребенку шубу. Получила деньги, на следующий день опять поехала в город. Попала под перерыв на обед, дождалась и принесла обновку домой.
У Лены был скверный характер. Видимо, какое-то время детский сад был для нее непростым испытанием. Когда ее приводили домой, она начинала плакать. Причем, делала это громко, на все село. Обычно это происходило на улице около дома. И успокоить ее было невозможно. Накричавшись, она замолкала и превращалась в нормального ребенка.
И еще я очень переживала за нее. Она уходила от дома и часто я подолгу не могла ее отыскать. Как-то летом вечером ее взяли с собой Малофеевы, куда-то уехали на мотоцикле. Я искала ее до темноты, обегала всю деревню, заглянула ко всем ее подружкам. Плакала и боялась идти без нее домой. Что я скажу? Стояла около дома Малофеевых, надеялась, что она с ними. Когда они подъехали и я увидела Ленку, живую, просто молча взяла ее за руку и увела домой.

На зимнем пруду и на горках
Прудов в Михайловском много. И у каждого было свое предназначение. Почему было? Да потому, что пруды были жизненно необходимы. Водопровод появился только в конце 70-х годов. Поэтому прудэто вода для домашних хозяйственных нужд, для бани, для скота, для огорода. Это теперь, с приходом удобств пруды стали просто прудами…
Моя детская жизнь и жизнь многих моих деревенских друзей и приятелей была тесно связана с прудом в центре села. Этот пруд находится позади домов нашей улицы. По его окружности было несколько мостков. За ними тщательно следили. Наш папа содержал в порядке мостки со стороны, ближней к дому, а также зимой прорубал и чистил прорубь. Воды требовалось очень много. Мои родители держали корову, поросенка, куриц. Мама обстирывала большую семью из шести человек, да еще и бабу Маню не забывала. Зимой на кухне стояла большая бочка для воды. Дважды в день папа ее наполнял. Рано утром, если тропку к пруду завалит снегом, расчищал ее, поправлял застывшую за ночь прорубь, с ведрами и коромыслом начинал свою утреннюю работу. Вечером, придя домой, поев чего-нибудь «горяченького», папа снова много раз повторял путь с ведрами от дома и обратно. Я и сейчас вижу его. Невысокого роста, неторопливого, в фуфайке, шапке-ушанке, валенках. Принести домой на коромысле два ведра воды и не наплескать на лестнице, в сенях – это было целое искусство. Преодолев этот путь, папа открывал дверь, заходил в прихожую и начинал, потихоньку пятясь назад, разворачиваться, чтобы пройти на кухню. Там он осторожно снимал с плеча коромысло, ставил ведра на пол и выливал в бочку воду.
Мы, детвора, с нетерпением ждали, когда пруд покроется льдом. Много радости приносили нам первые крепкие морозы. Став побольше, измеряли крепость льда около берега. Если не трещит, осторожно идешь дальше.
Лет с пяти я каталась по льду на коньках. Это были маленькие детские конечки «Снегурочки». Не знаю, от кого они мне перешли, наверно, от Али. Коньки надевались на валенки с помощью веревок. Чтобы снегурки крепко сидели на ногах, их подтягивали специальными палочками, накручивая на них веревки крепления. Лезвие снегурок было в виде завитка.
Папа дома одевал на меня коньки, на руках нес до пруда, потому что если бы я проделывала этот путь на коньках, они бы с меня свалились. Папа строго наказывал не подходить к проруби. Пока он носил воду, я каталась. Время от времени я просила потуже закрутить веревки, так как коньки постоянно сваливались. Если мне не хотелось уходить домой, папа оставлял меня, а потом приходил и уводил или уносил с улицы.
Когда я подросла, у меня появились другие коньки, в том числе на ботинках. Они достались мне от старшей сестры. Их называли «Дутыши». Вот уж на нихто я покаталась!
На льду этого пруда мы проводили времени очень много. Катались на коньках, салазках, просто на валенках. Ребята приходили на пруд с ледянками из толстого металлического прута. Это два полоза, на которые можно стать двумя ногами, сильно разогнаться, отталкиваясь одной ногой. Руками держались за верхнее основание изделия.
Ребята играли в хоккей. Лед на пруду расчищали самодельными снегочистками.
Старшие ребята, пока не ушли в армию и не разъехались по институтам, ставили в центре пруда новогоднюю елку и деревянную горку, на которой меня угораздило сломать санки-корзину.
Моя мама всегда говорила мне о моей рано наступившей самостоятельности. Да я и сама помню, что ребенком я росла довольно независимым. Так как ровесники мои посещали детский сад, я часто проводила время на улице одна. Особенно я любила лыжи. Их у меня перебывало большое количество. Деревянные, с простыми самодельными креплениями на валенки, они почему-то часто ломались. А ломались потому, что я не просто каталась с горок, мне нравились трамплины, которые мы сами для себя делали из снега. Любимым местом для катания на лыжах была горка от зернотока до Травяного зеленика. Мы ее называли Барыней или Барынькой. А еще я любила кататься в соседнем овраге. Скатываешься с одного склона, пролетаешь дно оврага и устремляешься вверх по противоположному склону. И лыжи просто не выдерживали. Некоторое время приходилось кататься на разных, но вскоре мне покупали новые.
Много времени проводила, катаясь на салазках. Но одной было не очень интересно. Здесь требовалась большая компания. Очень любили ездить с так называемой магазинной горы «паровозиком». Иногда из-за сильных морозов в школу не ходили. Об отмене занятий объявляли по городскому радио. Папа, выходивший на улицу рано, скажет, что очень холодно. И начинаешь прислушиваться к радиоприемнику. Передачи идут своим чередом: последние известия, утренняя гимнастика, «Пионерская зорька»… Но вот радио замолчало, в нем что-то начало потрескивать, шипеть. И долгожданный голос местного диктора говорит о том, чего мы, дети, так ждали. Ура! Свобода! Уроки отменили, но гулянку-то никто не отменял! К обеду станет чуть теплее, и дома никого не удержать. Вечером, уже в темноте, иду домой. Даже не иду, а плетусь, похожая на снеговика. Снег везде – облепил пальто, шаровары с начесом все в снежных замерзших сосульках, снег в валенках, варежках, карманах. Щеки пылают румянцем. Бабушка, увидев это снежное чучело, всплеснет руками, заворчит, поможет раздеться и загонит на печку. Лягу на нагретую печную подушку, пятки грею о теплые кирпичи, слушаю привычные звуки вечернего дома. Скоро придет с фермы мама, папа и бабушка переделают свои дела, и вся семья сядет ужинать. На столе будет петь свою тихую песню самовар. Дома тепло, спокойно, уютно. А завтра – новый день, новые события и впечатления.
Глядя на сегодняшних подростков, уткнувшихся в телефоны и телевизоры, я понимаю, насколько счастливым было детство моего поколения!
На лугу
Луг – это место в центре села, рядом с прудом. В 80-х годах прошлого века по инициативе уроженки Михайловского Алевтины Ивановны Тихомировой установлен памятник жителям села и соседних деревень, не пришедшим с войны. Ежегодно в День Победы здесь вспоминают погибших, молодых парней и мужчин, похороненных далеко от родного дома.
Сегодня там тихо, почти не слышно детских криков. И как-то неуютно. Правда, натянута волейбольная сетка, но играет ли кто? Может, так, изредка, соберется небольшая компания, проведет с пользой время. А ведь еще лет 10-15 назад проводились здесь товарищеские встречи по футболу.
А во время моего детства с ранней весны и до осени луг являлся местом, где просто кипела жизнь. Развлечений у нас, деревенских детей, было немного. Никаких кружков и спортивных секций в силу удаленности от школы и районного центра мы не посещали. Поэтому клуб, библиотека и луг – это те места, в которых мы, ребятишки, не просто жили, а полноценно развивались.
Когда в конце апреля – начале мая тропинки подсыхали, ближе к вечеру к лугу подтягивалась ребятня. Уроки сделаны (иногда кое-как, никто у меня их не проверял), поручения по дому выполнены. И вот она – свобода до темноты.
Ребята и девчонки постарше сражались на волейбольной площадке. Эту площадку оборудовали сами. Делали разметку, посыпали песком. Откуда появлялись мячи и волейбольные сетки – не знаю. Да это и не важно. Главное, что это всегда было! Так и проводили время параллельно. Старшие в волейбол соревнуются, а мы рядом своими играми заняты. А их было много: «лапта», «вышибала», «штандер», «море волнуется», «догоняшки»… Когда старшие, наигравшись, уходили, начинался наш «пионербол». Очень популярным был футбол. Часто проходили встречи команды нашего села с Шокшей, с «фараонами» (ребятами из Рыбной».
Я помню ощущение счастья, которое заполняло меня в эти светлые, звонкие вечера. В селе шла своя жизнь. Вот протарахтел по дороге трактор, где-то промычала корова, кто-то прошел к пруду за водой, держа пустые ведра в одной руке, а коромысло в другой. Слышно, как работает на ферме доильная установка. Скоро закончится вечерняя дойка, придет домой мама, и наша большая семья соберется за столом ужинать. Около печки на табуретке закипает самовар. В нем бабушка умудрялась еще и яйца сварить. На столе – блюдо с оставшимся от обеда супом или щами, жареная или тушеная картошка, творог со сметаной, капуста, соленые огурцы. Никаких разносолов. Но есть самое главное – семья, любовь и доверие… Маленькая, я часто думала: а вдруг будет война? Времена в мире были тревожные. А вдруг папа уйдет воевать и его убьют? Мне делалось очень страшно. Я, как могла, гнала от себя эти мысли. Хорошее вытесняло плохое. И я снова была счастлива!
В школу
В первый класс я собиралась еще в 1965 году. До семилетнего возраста мне не хватало месяца. Мама сходила в РОНО, получила разрешение. Но заведующая школой Тамара Павловна Бурова была против. Родители не стали настаивать и целый год я оставалась неорганизованным ребенком, болтаясь по улицам.
И вот, наконец, я – школьница. В первую очередь купили школьную форму. В то время школьные платья были шерстяными и сатиновыми. Мне всегда покупали шерстяное, чтобы юбка была в складку. На платье одевали фартук: черный каждый день и белый в особо торжественных случаях. Фартук должен быть короче формы сантиметров на пять. Белый воротничок и белые манжеты придавали форме нарядность и свежесть.
В Михайловском школы не было. Начальная школа находилась в соседней деревне Богчино, примерно в километре от села.
Школа стояла на просторной луговине, по периметру была огорожена деревянным забором из штакетника. На территории был небольшой цветник, сарай для дров, мелкий прудик, в котором до блеска мыли резиновые сапоги в периоды осенней и весенней грязи. Школа была старой. Еще в 1872 году в Богчине уже было училище. Богчино являлось центром волости, там находилось волостное правление, церковь и кирпичный завод. Население зарабатывало на жизнь отхожими промыслами.
Одноэтажная школа стояла напротив бывшей помещичьей усадьбы. Поднявшись на невысокое крыльцо и открыв входную дверь, мы попадали в тесный холодный коридорчик. Справа были отгорожены два туалета для девочек и мальчиков. Следующая дверь вела в саму школу. По левую сторону длинного коридора находились три классные комнаты, один класс располагался поперек здания. По правой стороне было хозяйственное помещение, учительская и раздевалка. В классах стояли печи. Когда мы приходили в школу, они уже были натоплены. Занятия начинались с восьми часов. Особенно уютными эти печки казались в осенние промозглые дни и зимние холода. Озябшая ребятня жалась к теплым кирпичам, согревала руки.
О чистоте и тепле в школе, о порядке на ее территории заботилась тетя Настя Горшкова, которая жила в Богчине. Это теперь я понимаю, как беззаветно любила эта женщина свою работу! Натопить и нагреть довольно большое здание, натаскав дров (и не одну-две охапки), все прибрать и вымыть, расчистить тропки от ограды к крыльцу. А еще со второго класса для школьников стали устраивать небольшие завтраки. Мы сдавали деньги, а тетя Настя шла в Шокшу в столовую и приносила для нас или по котлете с кусочком черного хлеба, или по пирожку. Кипятила чай. Я до сих пор помню изумительный запах этих столовских котлет (состоящих наполовину из хлеба!). Тогда мне казалось, что я могла бы съесть хоть десять штук!
Школа была начальной, четырехлетней. Я пошла в 1-й класс в 1966 году. В то время в Богчине еще существовал детский дом, открытый в 1942 году для детей блокадного Ленинграда. Война давно закончилась, а детский дом не пустовал. Здесь жили сироты, потерявшие родителей, а также брошенные ими дети. В нашем 1 классе обучалось шестнадцать человек из рядом стоящих деревень и более двадцати детдомовцев! Наша учительница Тамара Павловна Бурова (она же заведующая школой) делила детей на «население» и «детдом».
«Население идет домой, а детдом остается после уроков», – часто говорила она.

Детдомовские отличались озорством. Случалось, лазали по портфелям. Так как в первом классе нас не кормили, перекус брали из дома. Мне давали булку со сливочным маслом. Однажды на переменке, когда меня не было в классе, одна девочка из детдома (не буду называть ее имени), вытряхнула из бумаги бутерброд прямо в портфель, а потом смеялась. Но я об этом никому не сказала.
Вообще-то детдомовских мы поначалу боялись. Помню, как ждала я день 1 сентября. Мне очень хотелось идти в школу. В моем воображении школа представлялась каким-то особым, еще не открытым и непознанным миром.
От Михайловского до школы было не больше километра. Нужно спуститься с горы, пройдя мимо кладбища, перейти через небольшой деревянный мостик, подняться в гору, пройти вдоль забора детдомовского сада. Вот тут-то, рассказывали взрослые ребята (нам, первоклашкам, ученики 3-4 классов казались очень взрослыми), и поджидает опасность. Они пугали нас тем, что детдомовские утром непременно подстерегут нас, спрятавшись за довольно высоким забором и обязательно побьют. Эти рассказы возымели действие. Помню, как страшно было пройти этот короткий отрезок пути вдоль забора. Все казалось, что вот сейчас из-за забора выскочит ватага мальчишек и наша компания будет избита. Боялись мы и на обратном пути. Но шли дни, никто на нас не нападал, постепенно страх ушел. Став взрослой, вспоминая свои терзания, я задаю себе вопрос: почему никто из нас не сказал о своих страхах родителям? Я точно знаю, что мой папа не остался бы равнодушным, проводил бы до школы, да и учителя поговорили бы с нами. Но никому и в голову не пришло об этом рассказать. В то время ни родители, ни бабушки с дедушками не водили детей в школу, не провожали и не встречали.
Моей первой учительницей была Тамара Павловна Бурова. Она жила в Михайловском. Елена Васильевна Скачилова ходила на работу из Шокши. Матусова Людмила (не помню отчества) жила в Выползове. И еще одна учительница была из Галича.
Мы долго писали простыми карандашами. По письму тетради были в частую косую линейку. Как и современные дети, выводили палочки, крючочки. Учительница разрешала писать чернильной ручкой не всем ученикам, а только самым аккуратным и старательным. Я в список таких не попала. Точно не помню когда, Тамара Павловна разрешила писать чернилами. Были простые ручки с меняющимися перышками «Звездочка». На этих перьях чеканилась маленькая пятиконечная звезда. Такое перышко я однажды воткнула в заднее место своему обидчику – Кольке Кудряшову, который был гораздо старше меня. Наверно, ему было больно, он громко заорал. А меня повели в учительскую на разборки. Через много лет мы с ним встретились (он вышел из тюрьмы после очередного срока), вспомнил этот случай.
Писать такими чернильными ручками было непросто. При написании букв в определенном месте должен быть нажим. Нужно внимательно следить за остротой пера, за его чистотой. На партах стояли непроливаемые чернильницы, лежали перочистки. Их мы изготавливали сами: нарезали одинаковые по размеру кусочки ткани и сшивали посередине. Помню, я всегда делала перочистку с пуговкой. Каждая тетрадь снабжалась промокашкой. Аккуратно промокнуть написанное тоже было делом нелегким. Поторопишься – и получится мазня.
Авторучкой мне разрешили писать во втором классе, и то не сразу. Я была торопыга, не очень старалась выписывать буквы. Мне купили ручку с открытым пером. Чернила набирались маленьким резиновым шлангом. Я помню мою первую авторучку. Она была светло-серого цвета.
При поступлении в школу мы все стали октябрятами. Носили октябрятские звездочки. Нас разделили на звездочки. Мне поручили быть санитаром. Бабушка сшила белую сумочку с красным крестом, которая одевалась через плечо. Я проверяла чистоту рук, ушей у своих однозвездников. Очень нравилось дежурить: содержать в чистоте доску, раздавать тетради, отмечать на настенном календаре погоду, температуру воздуха.
Первый класс я закончила в 1967 году. Детский дом расформировали, детей перевели в Галичскую школу-интернат. В нашей школе учащихся осталось немного. Говоря современным языком, была проведена оптимизация. Вместо четырех учителей в школе осталось двое: Тамара Павловна и Елена Васильевна. Классы соединили: первый с третьим, второй с четвертым. Я стала учиться у Елены Васильевны.

Как я любила школу! Мне все было интересно! Половину урока учительница занималась с нашим вторым классом. А четвертый в это время работал самостоятельно. Потом роли менялись. Старшеклассники изучали историю, природоведение. Мне очень нравились эти предметы. Выполняя самостоятельную работу, я умудрялась слушать то, о чем говорили в параллельном классе. Конечно, отвлекалась, делала ошибки.
В нашем классе обучалось 16 человек. Это были ребятишки из сел и деревень бывшего Богчинского сельсовета: Михайловского, Лобачей, Выползова, Денисьева, Павлукова, Лебзина, Якушкина, Княгинина, Сипятрова.
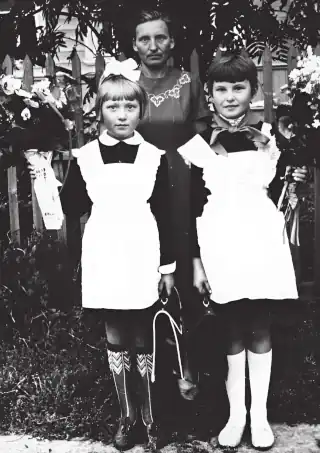
Когда устанавливалась теплая погода, подсыхала луговина, наши большие перемены становились действительно большими. Учителя не спеша обедали, а мы наслаждались свободой. Играли в многочисленные подвижные игры. Особенно любили «вышибалы» и «догоняшки». Я не помню, чтобы кто-то вел себя на улице агрессивно, неадекватно.
После окончания четвертого класса мы переходили в Шокшанскую среднюю школу (впоследствии средняя школа №2 г.Галича). Нашу начальную школу курировали преподаватели из Шокши. Они приходили к нам проводить контрольные работы, сидели на уроках.
В школу приходили студенты Галичского педучилища. Помню, в нашем классе проходил практику сын Елены Васильевны Евгений Скачилов.
В школу я ходила с огромным желанием и удовольствием, никаких трудностей с учебой у меня не было.
Скарлатина
Только-только успев пойти в первый класс, не привыкнув к новой школьной реальности, я недели на три вылетела из нее. Заболела скарлатиной. Вообще-то, болела я редко, но все инфекционные заболевания ко мне прилипали: корь, свинка, краснуха. Где я могла подцепить скарлатину? Не знаю. Не помню, что вместе со мной еще кто-то болел.
Так как моя старшая сестра Аля тоже была школьницей (она училась в седьмом классе), наша строгая фельдшер Тереза Адамовна Стролис хотела посадить ее на карантин. Но потом она разрешила Але переселиться на время моей болезни к бабе Мане, сестре нашей бабушки Пани, которая одиноко проживала недалеко от нас.
Аля иногда приходила к дому, и я через закрытое окно с ней общалась.
Первые дни моей болезни были очень тяжелыми. Температура поднималась так высоко, что я начинала бредить. До сих пор помню страшные бредовые картинки.
Я лежала на диване в большой комнате, напротив круглой печки, которая обогревала обе комнаты. Вот мой бред: я вижу, что на полочке на печке (хотя никакой полочки на самом деле не было) стоит маленькая бутылочка с молоком. Она аккуратная и беленькая. Но вдруг печка начинает раскачиваться, бутылочка падает, а затем рушится печь. Пыль, обломки кирпича… Я кричу от ужаса, плачу. Чувствую на своей голове прохладную, большую, шершавую руку. Это папина рука. Сейчас пишу эти строчки и плачу. Папина рука такая родная и ласковая. Она гладит меня, дотрагивается до моего горячего лба, до лица. Папа что-то говорит, успокаивает, и я засыпаю.
Сидя дома, я самостоятельно научилась читать. Насколько я помню, читать мне хотелось лет с пяти. Но заниматься со мной никто не спешил. Я просила Алю и папу читать мне книги. Они читали. Но через дорогу была библиотека. Я торопилась научиться читать сама. По школьному букварю выучила весь алфавит. Я ориентировалась на картинки, на первые буквы в названии рисунков.
Когда после болезни я вернулась в школу, Тамара Павловна была поражена скоростью моего чтения. Она сдерживала мою прыть и требовала, чтобы я, как все, читала по слогам. С тех пор чтение стало моим самым любимым времяпровождением, а наша Михайловская библиотека одним из самых любимых мною мест.
Я болела в сентябре, когда наши копали картошку. Мне разрешали выходить в крыльцо и через окно я с завистью наблюдала за процессом. Мне очень хотелось к ним. Когда болезнь отступила, меня выпустили на улицу. Голова немного кружится, тело как будто не мое. Я бродила по палисаднику, мне хотелось выйти за ворота. Ну что это за гулянка, как на привязи?
Дорога из школы
Уроки в школе заканчивались рано, часов в 12 дня. Иногда нас оставляли на подготовку к каким-то мероприятиям, на сами мероприятия, на дежурство по классу. После уроков занимались с отстающими, в основном, чтением. Меня это очень раздражало. Моим подопечным был паренек из Богчина, на вид очень болезненный. Помню, с каким отвращением я смотрела на его тонкий бледный указательный палец, которым он водил по строчкам, елееле читая по слогам. Кажется, читать нормально он так и не научился. Зато очень я радовалась, когда учительница разрешала помочь проверять тетради. Старалась изо всех сил, отмечала красными чернилами ошибки!
Дорога домой частенько превращалась в интересное приключение.
Нас привлекала территория бывшего детского дома, в том числе, сад. Территория была огорожена. За оградой находились старинные постройки бывшей помещичьей усадьбы, почти пересохший пруд с мостиком. Когда во время войны здесь разместили детский дом для детей блокадного Ленинграда, был заведен сад и огород. Но постепенно все это приходило в упадок, уже не нужно было заботиться о дополнительном питании для воспитанников. В пору моего школьного детства в саду еще росли яблони и вишни, но плоды обдирали задолго до нас. Получить добычу из сиротливо висевшего яблока или кислой вишни было удачей!
Как только заканчивался детдомовский сад, начинались сосенки. Слева от дороги, если идти от Богчина, был небольшой лесок, в котором росли сосны. Здесь было очень уютно. Сосняк переходил в довольно крутой склон, внизу которого весной протекал ручей. Когда снег таял, ручей становился довольно полноводным и очень шумным. Мы очень любили по дороге из школы зайти в сосенки. А в теплую погоду иногда располагались здесь делать уроки. Можно представить, какая мазня появлялась в тетрадях, лежащих на портфелях на коленках! Но это были мелочи!
Справа от тропинки, по которой мы возвращались из школы, на склоне Богчинской горы до мостика через заболоченную низинку было поле. Однажды ранней весной мы увидели, как из соломенной копны выбежала мышь. Тут же пришла идея поискать мышей. Их было столько!!! Кто-то предложил наловить грызунов. А куда их складывать? В бумажные кульки. Навертели из тетрадных листов. Наловили. А дальше что с ними делать? Никакого вреда мы мышам не нанесли. В низинке на луже был тонкий ледок. Всех мышей из кульков высыпали на лед и смотрели, как они в панике заскользили по этому льду, а потом начали разбегаться. Наверно, они снова убежали в свою уютную прелую солому.
Еще одним объектом нашего пристального внимания было кладбище. Условно оно делилось на Михайловское и Шокшанское. Шокшанская половина отличалась ухоженностью, аккуратностью оград и убранством могил. Дело в том, что на Шокшанской половине хоронили много, в том числе молодых. В Шокше мужчины много пили, умирали от автокатастроф, передозировки алкоголя, тонули, заканчивали жизнь самоубийством. В то время молодых часто хоронили с музыкой. Похоронную процессию возглавлял духовой оркестр. Услышав траурную музыку еще далеко до подхода к кладбищу, мы устремлялись туда. Зачем? Наверно, мы чувствовали, что в смерти есть какая-то непостижимая тайна. Видимо, хотелось к этой тайне как-то прикоснуться. Да и просто, идя из школы, заходили на кладбище. Особенно привлекала могила со старым деревянным крестом, на котором были вырезаны не совсем понятные слова (видимо, из Святого писания). Каждый раз, когда я читала надписи, меня охватывало какое-то странное чувство и хотелось поскорее уйти с этого места. Но и в следующий раз невозможно было пройти мимо.
Было еще одно местечко, которое мы иногда посещали по дороге из школы. На краю села еще стояли постройки бывшей птицефермы. Там хранились мешки с минеральными удобрениями, какие-то старые полусгнившие снопы, солома. Однажды в одном из этих сараев нашли ощенившуюся собаку. Заходили, подкармливали, играли со щенками.
Интересного кругом было так много! Каждая лужа тщательно исследовалась. Иногда домой приходила с мокрыми ногами.
Помню, как хотелось весной снять надоевшие валенки с галошами и надеть резиновые сапоги. Но взрослые были начеку и менять надежную теплую обувь на сомнительную резину не спешили. Приходилось идти на хитрость. Когда днем солнце начинало ощутимо припекать, снег на дорогах подтаивал, появлялись лужицы. Вот тут уже зевать было нельзя! Заходи в лужу, старайся намочить валенки, дома демонстрируй промокшие ноги! Вот и получено разрешение на долгожданные резиновые сапоги! А если они к тому же еще и новые! Блестящие! Я помню ощущение легкости на ногах, обувь кажется невесомой, а через подошву к ногам пробирается холодок. Ведь еще снег лежит. Ну и что! Все равно весна пришла. Не сегодня, так завтра побегут ручьи, дороги покроются грязью, и только надежные резиновые сапоги спасут тебя от сырости.
Сашенька
Мой двоюродный брат Саша Малофеев был старше меня на полгода. Он родился в марте 1958 года. В сентябре 1960-го его уже не стало. Сашенька (именно так его называли) прожил два с половиной года. Я не помню его. Знаю только по рассказам и по фотографиям. Но почему-то у меня и теперь болит душа, когда я думаю о нем или стою на кладбище около его маленькой могилки.
Я помню, как тепло вспоминали о Сашеньке бабушка, моя мама и другие родственники. Его ранняя и такая ненужная смерть очень подкосила мою тетю – Надю Малофееву, мать мальчика.
Ребенок родился здоровым. Хорошо развивался, был высоким не по возрасту (в папу), очень рано начал говорить.

Сашенька никогда не видел своего отца, также как и отец не застал его живым. Дядя Костя служил в армии. Сын родился без него, прожил без него свою коротенькую жизнь и был похоронен тоже без него. Отец на похороны опоздал, приехал только на следующий день.
«Ну-ка, Костя-то какой красавец! А Наденка-то, Наденка… Кожа да кости… В гроб краше кладут», – шептались встречные женщины, увидев на улице молодую пару. На руках Нади умер сын, ее маленькая кровиночка. Он был смыслом ее жизни в долгой разлуке с любимым человеком.
Сашина болезнь обнаружилась внезапно. Наверно, она развилась не сразу, но выстрелила наповал.
Заметили, что стал увеличиваться животик, кожа сделалась желтого оттенка. Обследование, операция в областной больнице и приговор врачей: не жилец…
Надя повезла умирающего сына домой на поезде. С вокзала на руках наш папа нес племянника. Темная осенняя ночь. Грязные глубокие колеи на дороге. Убитая горем мать.
Сашенька умирал тихо. Ему было очень больно. Саркома печени. Изредка он просил пить, взять его на ручки. Надя вспоминала: ночью перед смертью сына ей в коротком тревожном забытьи привиделся старичок – седенький, сухонький, который что-то ей говорил, ласково и успокаивающе. «Николай Угодник. За Сашенькой приходил», – сказала бабушка.
Ребенка похоронили по-христиански, с отпеванием. Через некоторое время Надю вызвали на бюро парторганизации. Хотели из партии исключить. Как же: провинилась! Она не защищалась и не оправдывалась. Не было сил. Она плохо осознавала происходящее вокруг нее в те страшные дни.

Сашенька гордился своим отцом, ждал его возвращения из армии. «Вот мой папа приедет…», – часто говорил он. «Вот мой папа приедет и купит мне такого же крокодила. Вот мой папа приедет и тоже купит мне матроску».

Не избалованы были мы игрушками и обновками. Папа наш работал в Галиче, в строительной организации и изредка что-нибудь нам покупал. Например, зеленого резинового надувного крокодила. И племяннику тоже. Как-то папа купил мне сатиновый матросский костюмчик. «Вот папа приедет…», – и наш папа на следующий день принес матроску Сашеньке.
Когда я была подростком, мне приснился сон. Полностью я его не помню. Но один фрагмент не забыла до сих пор: по тропке к дому Малофеевых бежит мальчик лет семи-восьми. На нем темные брюки и белая рубашка. Там, во сне, я точно знаю, что это Сашенька. Я никому про этот сон не рассказала. Но мне было очень тяжело, как-то не по себе. Мне и сейчас тяжело вспоминать этого мальчика из моего детского сна.
Одна в Галич
Галич находится примерно в трех километрах от нашего села. К городу ведет прямая дорога. Во времена моего детства это была обычная грунтовая дорога, которая осенью и весной, а также в затяжные летние дожди превращалась в грязное месиво. С краю дороги была тропка. Конечно, автобусы не ходили, машин личных тогда ни у кого не водилось, мотоциклы и те были на перечет. Да и не проехать по такой грязи. Те, кто работали в Галиче, в основном ходили пешком. Ну а летом можно было велосипедом воспользоваться.
Вообще-то, существовало еще два пути: железнодорожная ветка экскаваторного завода вела до пивзавода, а от него недалеко мясокомбинат, куда ходили за рублевой колбасой. Если пройти по шпалам мимо пивзавода, никуда не сворачивая, окажешься на вокзале. Иногда шли через Лобачи, спускались по Патрашке. Так называли гору, сойдя с которой, выходили на автобусную остановку «АТП», а там, дождавшись автобуса, с удобствами ехали до центра.
Но все же чаще шли прямо. В Галиче, на улице Леднева, д.36, жила наша родня – родная мамина сестра тетя Шура, ее муж дядя Леша, мои двоюродные брат и сестра Юра и Геля Голубевы. С их улицы, собственно, и начинался город. В то время ни улицы Некрасова, ни двухэтажных жилых домов (их почему-то называли горемовскими) еще не было.
Голубевы приходили к нам часто: по субботам мылись в бане, Юра и Геля оставались ночевать, жили у нас и во время каникул. Я тоже иногда гостила у родственников. Летом меня привлекал их сад, в котором росли яблоки. Была в этом саду медовая китайка. Яблочки были некрупные, но необычайно сладкие. Когда они выспевали, то становились такими прозрачными, что было видно даже зернышки. Охраняла участок довольно серьезная овчарка, которую звали Женька. Его будка стояла около калитки. Мы с Гелей ходили купаться на озеро.
А еще Голубевы пекли очень вкусные пироги с разными начинками. Тетя Шура работала в кондитерском цехе. Помню, как-то летом мы с Гелей пришли к ней на работу, смотрели, как выпекаются пряники, а потом ели бракованные (но ничуть не хуже стандартных).
И вот в моей шеститилетней голове созрел дерзкий план: совершить трехкилометровое путешествие до родственников самостоятельно. Поскольку по деревне я разгуливала вполне вольно, то могла рассчитывать на то, что до обеда меня никто не хватится. Сейчас мне трудно сказать, осень это была или весна. Было хмуро и грязно. Утром я собралась на прогулку и пошла по направлению к Галичу.
Примерно в километре от села дорогу пересекает железнодорожное полотно. Почему-то взрослые называли это место «Козловец». Идти там было страшновато. Сквозь железную дорогу проложена широкая труба, через которую в половодье бурлила вода. В остальное время труба была сухая, казалось, что там кто-то спрятался.
Благополучно миновав «Козловец», я поднялась по тропинке в гору. Дальше был еще один ориентир – складские строения, которые называли ригами. Там хранилось совхозное зерно. Ну вот, до города теперь рукой подать.
Пришла, открыла калитку, подошла к входной двери. Где-то в глубине души я понимала, что дома может никого не быть. Так и есть! Замок…
Постояв около запертой двери, я повернула назад в свою деревню. Начался обратный путь: рига, «Козловец»… Впереди меня шел какой-то дядька. Он часто оглядывался, но не останавливался. Так и шли – он и я за ним, замирая от страха.
Пришла домой, конечно, ни слова не сказав бабушке о своем путешествии. Очень хотелось есть. Попросила сделать мне крошенину. Это кусочки белого или черного хлеба в молоке. Бабушка налила в эмалированную миску молока, покрошила туда булку. Я села на лавку за стол, взяла большую ложку и приступила к еде, чувствуя себя абсолютно счастливой. Мне было так хорошо рядом с моей заботливой бабушкой в нашей чистой и уютной кухне!
Но меня ожидало еще одно испытание. В сенях послышались шаги, открылась дверь, и в дом вошел дядя Саша Канавин. В своем брезентовом дождевике, сапогах, он казался мне огромным. Жил он в соседней деревне Лаптево, работал в совхозе возчиком на лошади.
Переговорив о чем-то с бабушкой, дядя Саша обратил свое внимание на меня. «Хорошая у тебя, Прасковья Северьяновна, внучка. Вон какая румяная. Наверно, я ее к себе возьму. Ну давай, доедай свою крошенину. Лошадь там ждет. Поедешь в Лаптево, будешь у нас жить вместо дочки»
И тут мои детские нервы не выдержали. Тяжелая и опасная дорога до города и обратно, да еще перспектива жить в чужой семье… Куда меня повезет этот дядька? Я заплакала. Ведь я поверила его словам!
Меня выручила бабушка. Она подошла ко мне, вытерла фартуком мои слезы и сказала: «Ну что ты, Нинушка, ангел мой. Неужели я тебя кому-нибудь отдам? Ешь, не расстраивайся. А ты, Сана, не пугай мне ребенка». В одно мгновение я успокоилась, доела свою крошенину и забралась на русскую печку – греться.
Венка
Наша семья без коровы не жила. Да и как? Корова – это всегда свежие молочные продукты на столе: молоко, сливки, сметана, творог, простокваша, масло. А на молоке сколько всякой еды настряпать можно! Только не ленись. Корова – это каждый год по теленку. Тут тебе и мясо на большую семью. А если родится телочка, можно из нее вырастить молодую коровку – телушечку.
Рождение теленка почти всегда приходилось на зимние морозы. И почему-то чаще это происходило или поздно вечером, или ночью. Помню волнение взрослых, их разговоры: корова беспокоится. Взрослые не спят, периодически кто-то идет на двор. Иногда таинство рождения происходило без посторонней помощи: придет папа или мама на двор, а коровушка уже отелилась, облизывает своего малыша. Тут уж не зевай. Проверь, все ли в порядке с кормилицей и новорожденным, укутай теленочка. А если очень холодно, малыша помещали в доме.
В прихожей выгораживали уголок, стелили на пол солому. Конечно, приходилось мириться с неудобствами. Как ни убирай, все равно запах… А что делать? И поросят дома выхаживали. Принесет мама из Шокши суточного хрюшку или двух и живет это беспокойное хозяйство несколько недель на кухне около печки. И маленькие цыплятки из инкубатора по несколько дней на печке жили. У всех моих подруг дома были животные. У Ольги Ивановой дома подрастали ягнята. Эти шустрые каракулевые существа с тоненькими ножками и звонкими копытцами бегали по кухне, забавно подпрыгивали и пытались бодаться своими крепенькими лобиками. Я специально ходила к Ивановым поиграть с барашками.
Корова отелилась! Дождались! Теперь не надо покупать молоко с фермы или у соседей. Теперь свое!
Но сначала сыр из молозива. Молоко, надоенное в первые сутки, частично шло на питание теленка. А остатки выливались в большую кастрюлю и ставились в вольную (уже протопленную) русскую печь. К обеду был готов продукт – ноздреватый, с румяной корочкой, чуть соленый на вкус. Представьте, мы ждали это блюдо. Ели все. Недели две молоко в пищу не использовалось. Взрослые говорили: сырое. Все молоко выпивали животные.
Из множества коров, которые жили у нас, мне больше всего запомнилась корова костромской породы по кличке Венка. Это была крупная красавица цвета хорошо протопленного молока, с красивыми, ровно заостренными рогами.
Бабушка называла Венку ведерницей. Раздоившись после отела, кормилица трижды в день давала по ведру молока. Я и сейчас как-будто слышу ласковый бабушкин голос, каким она разговаривала с коровой, принимаясь за дойку. Вот о дно подойника ударили первые звонкие струйки молока, вот звуки от них становятся все глуше. Бабушка вносит на кухню наполненное молоком ведро. А белоснежная шапка молочной пены поднимается кверху. На столе – чистейшие банки (были еще и кринки глиняные). Под ногами путается кошка, нетерпеливо мяукает, просит парного молока. Бабушка кладет на кринку чистую марлю и начинает процеживать.
Корова в доме – это работа для взрослой части семьи без выходных ипраздников. Напоить, накормить, подоить, вычистить двор – это ежедневная работа. Водопровода не было. Зимой два раза в день папа носил ведрами воду с пруда, расчистив заметенную снегом тропку, прорубив и вычистив прорубь.
Летом – сенокос. Трудная, изнуряющая работа. Мама и папа ночи не спали. Часа в три папа шел на покос. Косил вручную. А ведь надо потом к восьми на работу. Мама работала на ферме, вставала в четыре утра. В перерывах между дойками – сушка сена, метание стогов. Часть сена нужно было привезти к дому. А на чем привезти? Повезет, если кто-то из трактористов вечером согласится или лошадь дадут. Привезут к ночи – надо убрать на сеновал. Мы, дети, активно своим родителям в этом помогали.
Во время моего осознанного детства государство уже не преследовало частника. Выделяло даже покосы. Но хозяева, держащие корову, должны были накосить и сдать совхозу так называемые «проценты». Это определенное количество сена для совхозного скота. Правда, не бесплатно. Совхоз выплачивал небольшие деньги. Помню,
«проценты» мы косили под Лаптевым. Довольно далеко. А свои покосы у нас были в деревне Якушкино. Ходили пешком.
С новотела корову доили три раза. Летом на дневную дойку бабушка ходила на пастбище – за кладбище или поближе, к Травяному зеленику. Пас стадо наемный пастух. Хозяева по очереди пастуха кормили обедом. Бабушка очень старалась хорошенько накормить работника.
Венка «заливала» нас молоком. Особого сбыта не было. Покупали приезжавшие летом «питерщики», молоком, творогом, сметаной поили и кормили родственников. Иногда мама на велосипеде ездила на базар, но нечасто. Остатки ели курицы, теленок, поросенок.
И вот родители купили сепаратор. Он был ручным. Состоял из множества алюминиевых частей. Его установили в коридоре. Для того, чтобы сепаратор выполнял свою функцию (разделил молоко на сливки и обрат), надо было подолгу крутить ручку. Тоненькой струйкой текли сливки, и более мощной струей шел обрат, обезжиренное молоко. Обрат выпаивали скоту.
Холодильника у нас в то время еще не было. Венкины сливки сливали в банки и кринки и ставили в подвал. Через день-два они превращались в густейшую сметану. Часть сметаны шла на масло. Бабушка брала сделанную папой деревянную мутовку и пахтала масло. И вот оно – натуральное сливочное, без всяких добавок и красителей. Промыть кусок несколько раз в холодной воде – и ешьте на здоровье. Нет, мне не надо было такого масла, покупайте мне в магазине! И покупали, за три рубля шестьдесят копеек за килограмм.
Количество сливок в подвале не убывало. Приезжавшим гостям было за большое счастье питаться свежими деревенскими молочными продуктами.
Я пошла в 3-й класс, когда с нашей кормилицей Венкой случилась беда. Было начало сентября. К вечеру мы с мамой пошли в магазин. Стоим в очереди. Вдруг в магазин вошел папа. Увидев его, я сразу поняла: случилась беда.
Помню слова: «Валентина, Венка объелась…». Мама выбежала из магазина, я за ней.
В то лето наше деревенское стадо пас дядька – то ли из Выползова, то ли из Денисьева, по фамилии Беляков. Боюсь перепутать его имя, кажется, Сергей. Любил выпить. Вот и в тот злополучный день он был навеселе. Видимо, задремал. Коровы забрели в клевер, в отаву. Венка была существом исключительно прожорливым, и неудивительно – чистокровная «Костромичка». Наелась, напилась воды из пруда. Корову стало раздувать. Тут бы и принять пастуху срочные меры: погонять животину или позвать ветврача. Все могло обойтись.
Но пастух проспал нашу корову. Время было упущено. Когда он очнулся, Венка уже умирала. Корову прирезали, хотя она уже была практически мертва.
Это было горе! Большое горе для нашей семьи. Не потому, что мы лишились доброй кормилицы. Голод нам не грозил, не те уже были времена. Корова – это по сути член семьи, а не просто животное. Ее любят, холят, разговаривают с ней. Корова знает своих хозяев, свой дом, выражает эмоции. Она умеет обижаться и радоваться. Когда опоздаешь встретить вечером стадо, одна идет к своему дому и обиженно громко мычит.
Узнав страшную новость о Венке, я взяла на руки младшую сестренку Лену и ушла из дома. Помню, на Лене было красное шерстяное платьице, ножки были босые. Где мы с ней бродили, не помню. Уже по темноте с сестрой на руках я подошла к дому. Во дворе стояла телега. На ней лежало то, что осталось от нашей любимицы – груда мяса, закрытая брезентом. Было очень страшно идти мимо этого груза. Было страшно увидеть убитых горем папу, маму, бабушку.
Утром папа увез Венкино мясо на мясокомбинат, сдал его за копейки.
Вскоре появилась Нежданка, за ней Пеструшка, была Зорька. Но Венка не забывалась никогда и ни одна корова не могла с ней сравниться.
Бабушка
Детство мое было озарено присутствием бабушки. Причем, присутствием постоянным, ежедневным, можно сказать, ежечасным. Семьи в деревне сохраняли свою многопоколенность. Я оживила в памяти проживающих по домам и улицам моих земляков и пришла к выводу: большинство семей были многодетными (по нынешним меркам) и почти в каждой семье жили бабушки. Дедушек было мало. В пору моего детства семью с тремя детьми многодетной не считали, никакими льготами такая семья не пользовалась. Правда, если семья была неполной, детям выдавали сезонную одежду. Ее привозили прямо в школу (думаю, по заявке).
Мое детство не было бы таким наполненным светом и любовью без бабушки Пани.
Мне она запомнилась старенькой и болезненной. А почему она мне казалась старенькой? Когда я появилась на свет, бабушке было всего 67 лет. Мне сейчас почти столько же. Когда я стала себя осознавать, ей было за семьдесят. Это нормально, что пятилетнему ребенку бабушка казалась старой. Мой сорокалетний папа тоже был для меня очень пожилым человеком.

Итак, бабушка Прасковья Северьяновна Степанова (в девичестве Хапкова). Она родилась 26 октября 1891 г. в деревне Трофимцево Новографской волости. Маленькая деревушка примерно в двадцати верстах от уездного города Галича. Что я знаю о детстве и юности моей бабушки? К сожалению, непростительно мало.
Обычная крестьянская семья, в которой подрастали дети. Боюсь, что я всех и назвать не смогу. Мария, Прасковья, Валентина (умерла в блокаду), Раиса, Ульяна (умерла юной), Александр. Девочки с детства вынуждены были зарабатывать на кусок хлеба в «няньках». Смутно помню бабушкины рассказы, когда лежали мы с ней на теплой русской печке (эх, не записала ничего)! Да я ведь и в школу еще не ходила. А память не смогла удержать все мне рассказываемое. Жила бабушка в няньках и в своей, и в соседней деревне, и в Галиче. «Ребенка – то не смогала. Велика ли сама-то была…»
Помню, бабушка рассказывала о том, как жила в «няньках» в Галиче. Хвалила хозяев за то, что не обижали. Давали копеечки, на которые девочка покупала в булочной ситного (пшеничного) хлеба. И на ситцевое платьице иногда не скупились. Может, и было это платье всего одно, да запомнилось оно бабушке на всю жизнь.
Управившись с многочисленными делами по хозяйству (истопив русскую печь, наготовив на нашу большую семью на целый день, накормив всех нас свежим горячим завтраком, обиходив скотину, перемыв огромное количество разной посуды, протерев до блеска пол на кухне, переделав прорву других дел по дому), забиралась бабушка на русскую печь, потому что наступал час ее отдыха. Все сделано, дома порядок, печка теплая и уютная – лежи себе, отдыхай. А я уже тут как тут. И мне с бабушкой полежать хочется, послушать ее рассказы. Никогда она не говорила мне, что надо бы ей вздремнуть, потому что встала ни свет ни заря, утрудилась. Отвечала на мои многочисленные вопросы, исподволь передавая свой жизненный опыт, незаметно внедряя в мое сознание вековые нравственные устои.
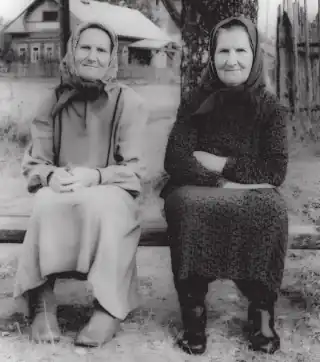
Сейчас мне за кое-что перед бабушкой стыдно.
«Баб, ты зачем Богу молишься? Ведь нет его. Вот космонавты летают, никого не видят». Ласковый бабушкин голос: «Бог, Нинушка, живет у человека в душе. Без Бога нельзя. А я за вас за всех молюсь».
Бабушка не раздражалась, не спорила со мной, ничего мне не доказывала, просто и спокойно объясняла. И сегодня я помню ее слова: «Кланяйся взрослым. Не проходи мимо, не поклонившись. Чужого не бери».
Она была почти неграмотной. Год или два училась в церковно-приходской школе. Вспоминала, что писали на дощечках. Научилась читать, знала простой счет, могла кое-как расписаться. Но никогда бабушка не казалась мне малообразованной. Недостаток образования восполнялся ее жизненной мудростью, ее достоинством и честностью. Запомнила ее слова: «Почему мы по нянькам жили? Да потому что тятенька наш выпить любил. Кто был бедным? Да тот, кто работать не очень хотел».
Вспоминала бабушка добрых барина и барыню (не знаю, где было их имение и какая фамилия). Они всегда выручали и хлебом, и деньгами.
От бабушкиной младшей дочери тети Веры я услышала историю о том, что в юности за бабушкой стал ухаживать молодой человек из военных. Тетя Вера рассказала, что бабушка, тогда молоденькая девушка, время от времени ездила в гости к родственникам в одну из деревень километров в десяти от Трофимцева. Там она подружилась со сверстницей по имени Матрена. Семья Матрены была зажиточной, ее брат учился на военного. Звали его Владимир. Однажды Матрена пригласила Паню к себе домой, сказав, что вечером они пойдут на «беседу» (так в деревнях назывались молодежные вечеринки с песнями, танцами, рукодельем). Паня отказывалась, потому что у нее не было подходящего платья. Матрена открыла свой шкаф, наполненный нарядами, выбрала для подруги красивое платье. «Беседа» шла своим чередом. В какой-то момент открылась дверь и в помещение вошел молодой красавец в военной форме. Он остановился у порога, окинул взглядом «беседу», вглянул на Паню. Подошел к девушкам, пригласил Паню на «Кадриль». Они танцевали весь вечер. Потом начались свидания на роднике около деревни Колотилово. Владимир уехал продолжать учебу, присылал письма на имя своей сестры Матрены. Обещал взять Паню замуж. Потом писем не стало.
Отец Пани стал настаивать на замужестве дочери, так как к ней сватался соседский парень Александр Степанов. Паня отказывалась, сколько могла. Но однажды отец заявил, что придут сваты и если она скажет «нет», будет жестоко наказана. Отец узнал о тайных встречах дочери с военным, подозревал ее в нечестности и пообещал отрубить топором косы. Выдали Паню Хапкову замуж за Александра Лукояновича Степанова.
Семья нашего деда тоже жила в Трофимцеве. Дома Степановых и Хапковых стояли напротив. Мама называла пятерых братьев Степановых: Александр, Архип, Петр, Иван, Геннадий. Их отец (наш прадед Лукоян) был человеком крутого нрава. Прабабушку нашу звали Анастасия. Александр и Архип смолоду пасли деревенское стадо. До снега ходили босиком.
Свадьбу сыграли 23 января 1913 года. Стала наша бабушка жить в семье мужа. Но не взлюбила свекровь невестку. Не нравилось ей, что заработанные деньги сын стал отдавать жене. Жизнь в деревне была нелегкой. Дед уезжал на заработки, бабушка по приказу свекрови выполняла по дому различную тяжелую работу. Ждали первенца. Вскоре случилась беда. Несла на коромысле воду, упала на обледеневшей тропке. Случился выкидыш. После очень долго болела. Ушла от свекрови к своим родителям. Похудела, осунулась, сил не было.
Однажды около дома зазвенел колокольчик, остановились лошади. В дверь постучали. Бабушка услышала, как ее отец произнес: «Здравствуйте, барин. Вам кого?». А затем послышался до боли знакомый голос. Это был Владимир. Держась за стену, бабушка вышла к нему. Вот так состоялось их последнее свидание.
Наш дед был отходником, на долгие месяцы уезжал в Петербург. Жил и в других городах. Дед наш был плотником, столяром, стекольщиком, мастером по изготовлению больших витрин. Какое-то время семья жила в Романове-Борисоглебске Ярославской губернии (сейчас Тутаев). Аля нашла по бабушкиному описанию дом, где они снимали квартиру. Там у бабушки и деда в 1914 году родился сын Николай. Жили хорошо. Бабушка рассказывала: «Из больницы с ребенком пришла (значит, рожала в роддоме), самовар вскипел, на столе сахар, хлеб ситный. Хорошо жили». И действительно, неплохо жили. Со временем ушла из сердца боль от расставания с Владимиром, полюбила бабушка своего мужа, и с его стороны чувствовала заботу и любовь. Только рано овдовела. Дед заболел туберкулезом. Когда не мог больше работать, приехал домой. Увезли его в Галич, в инфекционную больницу. Там и умер. От туберкулеза скончался и его брат Архип Лукоянович.
О том, что семья не бедствовала, говорит тот факт, что построен был в Трофимцеве новый дом. О нем подробно рассказала мне тетя Вера. Дом был под соломенной крышей, хотя другие дома были покрыты дранкой. На соломенной крыше настоял бабушкин отец, наш прадед Хапков Северьян Тимофеевич. Он считал, что соломенная крыша полезная, под ней в доме теплее и суше. Солому по мере износа время от времени меняли. Дом был невысокий, очень теплый. Перед самой войной заготовили дранку. Но перекрыть крышу так и не смогли. Старшего сына Володю война застала в армии. Дранка пересохла.
С улицы в дом заходили через крыльцо в три ступени. Ступеньки были и внутри коридора. Коридор был большой, часть его была оборудована под чулан. Там стояла кровать, в теплое время там можно было спать. В коридоре хранилась повседневная одежда для большой семьи.. Из коридора дверь вела в прихожую с окном. Здесь стояла печь с полатями. За печкой – небольшая кухня. На стенах – самодельные навесные шкафы с посудой, лавка, стол, чугуны под лавкой, кадка с водой. На кухне только готовили, за стол семья садилась в прихожей.
Из кухни был вход в маленькую комнату. На зиму в спальне устанавливали печку-времянку. Здесь стояла очень красивая широкая деревянная кровать с блестящими металлическими шарами. Квадратные ножки переходили в стойки. Вдоль кухонной стены располагалась горка с посудой. Еще в спальне стоял большой и дорогой кованый сундук. Углы отделаны металлом, похожим на червленое серебро. Внутри маленькие ящички. В сундуке лежали хорошие вещи.
Из прихожей был вход в большую комнату (метров 14-16). По правую сторону – широкая лавка. Иногда на ней спали ночлежники. В деревне был установлен порядок давать приют проезжающим людям. За этим следил староста деревни. По другую сторону также лавки и табуретки. В комнате стоял большой стол, сделанный руками дедушки Саши. Между окнами большое зеркало. Небольшой столик из красного дерева, резной ломберный столик тоже из красного дерева. В доме было чисто и уютно. Строительством дома занималась бабушка, дед присылал деньги.
В Гражданскую войну и после нее приходилось выживать. Помню, бабушка рассказывала о том, как с товарками (женщинами из их деревни) ездила менять вещи на еду в Вятскую (Кировскую) губерниию. Поезда ходили вне всякого расписания. Билетов не продавали. Вагоны брали штурмом. Иногда удавалось кое-что привезти домой. Но случались облавы, ловили спекулянтов. В годы Гражданской войны частная торговля хлебом была запрещена. Под руку попадали и женщины, которых дома с надеждой ждали голодные дети. Так было и с ними. Когда, поменяв вещи на продукты, добирались домой, поезд был остановлен. Красноармейцы, не щадя никого, вырывали из рук мешки с зерном. Так и приехали в деревню ни с чем.
Бабушка родила девятерых детей. Двое, Павлик и Нина, умерли во младенчестве. Прасковья Северьяновна с мужем Александром Лукояновичем воспитали семерых – Николая (1914 г.р.), Владимира (1918), Нину (1923), Александру (1925), Валентину (1927), Надежду (1929), Веру (1931). Конечно, основная нагрузка падала на женщину. «Бабья сторона» – так называли районы нашего края. Мужики занимались отхожими промыслами. Наш дед жил в Ленинграде, домой приезжал только зимой. А бабушка работала в колхозе, воспитывала детей.
Когда подрос старший сын Коля, отец увез его с собой. Коля обосновался в городе, но в жены взял свою деревенскую девушку, одну из тех, кого называли «славеной» – красавицу из хорошей семьи.
Когда бабушка пришла к родителям невесты сватать ее за сына, она получила отказ. «Ведь она у нас не простая»,засомневались мать и отец девушки. «Да и мой сын не из последних», – был ответ.
Все-таки Николай и Мария поженились. Молодую жену муж увез с собой. Но продолжительной счастливой семейной жизни им судьба не дала. У них родилась дочка Нина, которая умерла в возрасте шести месяцев в мае 1940 г.
А потом началась война. Николая на фронт не взяли. Его мобилизовали как вольнонаемного на Ладожское озеро (Дорогу жизни). В первую военную зиму Николай, поев каких-то сомнительного качества котлет, умер от дизентерии. Мария, изможденная голодом, смогла эвакуироваться и в очень тяжелом состоянии приехала домой в Трофимцево.
Мария рассказала страшную новость не только о своем муже, но и о Нине, старшей дочери моей бабушки (родилась 1 января 1923 г).

С детства Нина жила по нянькам. Несколько лет работала в семье галичского начальника почты (дом до сих пор стоит на ул. Леднева, 10). Работящую, добрую девочку очень полюбили. Когда семья собралась переезжать в Ленинград, Нину взяли с собой. Позже она устроилась на фабрику резиновой обуви «Красный треугольник». Поселилась в общежитии. Жила в одной комнате со своей землячкой. Осенью 1941 года у девушки пропали продуктовые карточки. А это была неизбежная смерть. Потерянные карточки не восстанавливались. От Нины пришло письмо, в котором она заклинала домашних беречь каждую крошку хлеба… Нина обессилела, слегла. Вскоре ее не стало. В интернете я нашла информацию о том, что корпуса фабрики с осени 1941 года интенсивно подвергались бомбежке, часть оборудования и работников были эвакуированы в г. Свердловск. Наверняка, общежитие, в котором жила Нина, находилось недалеко от предприятия. К сожалению, мы уже никогда не узнаем о том, чем была наполнена коротенькая жизнь деревенской девчонки, отправившейся в большой город и погибшей там. Моей тете было восемнадцать лет.
Сын Владимир 1918 года рождения до призыва на срочную службу жил в Трофимцеве. Он закончил семилетнюю школу, поэтому считался человеком, получившим хорошее образование. Работал в колхозе счетоводом, в магазине продавцом. Был красивым, веселым парнем, любил свою семью, обожал младших сестренок. Девчонки в деревне за добрый нрав звали Володю подруженькой. Во время зимних гулянок согревал озябших девчат своим полушубком.
Призвали на срочную службу 22 ноября 1939 года. Служил в Прибалтике. Приезжал домой на побывку. Точно не могу сказать, по ранению или по травме. Припоминаю, что бабушка говорила о руке. Если это было ранение, то и неудивительно. Достаточно знать, что в это время происходило там.
Бабушка вспоминала: «Весна была. Володя на крылечке сидит, наигрывает на балалайке, поет:
Вот умру я, умру,
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могилка моя…
А я грядку копаю. Света белого не вижу. Слезы…
– Да что ты, Володенька, тоску-то на меня нагоняешь?» И как будто накликал беду. Последнее письмо сын прислал в мае 1941года. Служба подходила к концу, демобилизоваться должен был осенью. В письме делился планами на жизнь. Хотел уехать к брату и сестре в Ленинград, устроиться там и увезти в город мать и сестренок. В письме написал о том, что купил какую-то вещь, но не сказал, что именно. Обещал сюрприз. Почему-то я подумала, что это мог быть патефон…
Планам Володи не суждено было исполниться. Началась война. Володя пропал без вести. В трех разных источниках три даты: июль, октябрь, декабрь 1941 г. За годы войны писем не было. Тетя Вера назвала мне город, в котором Володя служил – Йыхве (Эстония). Практически с начала боевых действий и до 1944 года он находился в немецкой оккупации. Что стало с нашим дядей? Погиб, попав в окружение? Попал в плен? Был убит в одном из первых боев? А может быть, и повоевать совсем не успел? Никто не ответит на эти вопросы.
Бабушка долго ждала сына. Надеялась, что он жив. Ведь было только извещение о пропаже без вести. Ведь никто не написал, что убит. Ходила даже к гадалкам. Обнадеживали…
Три смерти за войну. Трое старших – опора и надежда семьи. Детей поднимала одна. Дед мой умер от туберкулеза в середине тридцатых годов. Как она пережила потерю детей? Только Бог, да младшие дочки знали, сколько было выплакано слез, как изматывало неизбывное горе душу и сердце, как опускались руки…Пережила, выжила, не дала пропасть оставшимся.
Жалеть себя было некогда. Женщины и подростки заменили ушедших на фронт мужчин. Лошадей тоже отправляли для нужд фронта.
Бабушка трудилась в колхозе «Заветы Ильича, в который входили деревни Алифино, Колотилово, Новая, Трофимцево, Нарядово. До войны она работала на лошади, развозила различные грузы. Когда началась война, лошадь по имени Мальчик был отправлен на фронт. Как и другие колхозницы, она работала в поле, заготавливала сено, дрова, работала на колхозном птичнике. Труд в основном был ручной. Бабушка была отличной сеяльщицей. Но не сеялкой управляла женщина. Она выполняла тяжелую мужскую работу: вручную засевала колхозные поля. На шею подвешивалось лукошко с зерном. Нужно было идти по вспаханному полю и умело, равномерно разбросать зерно полосой 4-5 метров. Чтобы не ошибиться и не засеять один и тот же участок два раза, ставили вешки. Самая младшая дочка Вера помогала матери, подносила в ведре зерно.
За войну колхоз обеднел. Тяжело жилось людям. На трудодень – почти ничего. Налогами душили. Молоко, мясо, яйца – отдай государству. Нет? Тогда отдай деньгами. Где взять? Да еще государственные займы. Нужда и беспросвет. Помочь некому.
И вот пришло решение. В Михайловском жила бабушкина родная сестра Мария Северьяновна Хапкова. В войну помогала она родным. Бабушка рассказывала:
«Приду к Мане, она насыпает в мешок жита. Говорит, что тяжело тебе, Паня, нести будет. А я думаю про себя: побольше бы дала, донесу!»
В Михайловском колхоз был справный. Руководила им Полина Андриановна Волгина.
Весной 1946 года Степановы начали готовиться к переезду. Паспортов нет, справок никто не даст. Куда уедешь без документов? Кто отпустит пять пар рабочих рук? Выход один – бежать.
Собирались в тайне от деревни. Стирают, моют. Соседи удивляются. Куда торопитесь? До Пасхи еще далеко. На дворе стоит лошадь колхозная. Раздавали колхозникам, чтобы берегли и ухаживали.
Навязали узлов, наполнили мешки добром – одежда, посуда, половики самотканые. Ночью, нагрузив на себя поклажу, привязав к ограде лошадь, прихватив корову, Степановы ушли из деревни. Пешком. По сути, это был побег.
Поселились у бабы Мани. Пятеро. Переживали, что стесняют родственницу. Иногда замечали ее недовольство. А что делать?
Колхоз семью принял. Не белоручки, трудолюбивые, безотказные. Впряглись в работу. Старшие, Александра и Валентина, и на сенокос, и на лесозаготовки. Надежда тоже начала работать. А Вера пошла в школу. Единственная из семьи закончила десять классов, поступила в техникум.
Но самовольный переезд дорого стоил семье. Вызвали бабушку на суд в Орехово (тогда еще существовал Ореховский район). Нужно было держать ответ: как посмела она самовольно вместе с детьми (трое из которых уже – рабочая сила, фактически бесплатная), оставить колхоз. Полина Андриановна написала письмо, в котором просила разрешить Степановым остаться в Михайловском, написала хорошую характеристику. Суд встал на сторону бабушки. А ведь могли и посадить. Но дом забрали в колхоз. Впоследствии дом сгорел.
А бабушка с дочками начали вить гнездо на новом месте. Корову пришлось продать. Как рассказывала моя мама, деньги проели. Со временем купили первый этаж дома Басовых (на втором до самой смерти жила баба Маня, бывшая работница Басовых).
Когда бабушка приехала в Михайловское, было ей 55 лет. О том, чтобы уйти на пенсию, нечего было и мечтать. Колхозники в то время пенсий не получали. Только при Хрущеве в 1964 году они появились. Минимальная пенсия составляла 12 рублей, максимальная 20 руб.
По каким-то причинам бабушке не учли колхозный стаж в Трофимцеве и ее пенсия составила 8 рублей. Постепенно пенсия подрастала: 12, 20 рублей. Конечно, прожить человеку на эти крохи было невозможно. Пропавший на войне без вести сын Владимир не считался погибшим, и мать не получала от государства ни копейки. Только в 1975 году (30 лет Победы) пропавшие без вести получили статус погибших. Бабушкина пенсия выросла до 45 рублей, появилась льгота на электричество. Незадолго до смерти бабушкина пенсия составляла чуть больше семидесяти рублей.
Всю свою жизнь бабушка жила с семьей. Представить наш дом без ее присутствия было невозможно. Мама работала на ферме. Ее рабочий день с перерывами длился с 4-х утра до 7-8 вечера. Поэтому забота о нас всех, о хозяйстве, лежала на бабушкиных плечах.
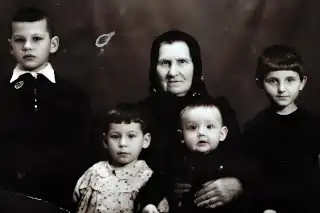
Спала я с бабушкой. В прихожей стояла кровать с панцирной сеткой, очень мягкая. А рядом с бабушкой мне было тепло и уютно. Помню, прибегу вечером из клуба (а там всегда зимой холодно). Лягу к стенке, прижмусь к бабушке, свои озябшие ноги грею о ее теплые.

Она ворчит: «Вот ведь холодная вся, ноги застудишь, заболеешь, окаянная твоя сила». Но я–то знаю, что бабушка совсем не сердится, а ворчит так, для порядка, ласково прижимая меня к себе.
Утром в школу я поднималась в шесть часов. Бабушка уже вовсю хлопочет по хозяйству. Топится печка, в которой полно чугунов. Корову нужно теплым поить. Завтрак для всей семьи приготовить. До 1972 года в селе не было газа, поэтому вся еда варилась в русской печи. Чугунок молочной каши, яичница на молоке, оладьи, жареная в сметане картошка – еда простая и сытная. Настоящим праздником становился завтрак, когда бабушка нажарит в русской печке на углях лепешек. Пышные, горячие, ароматные, румяные, больше таких я ни у кого не ела.
На обед каждый день варился суп или щи. Тушилась в печке картошка, морковь в сметане, запекались пшенник, кусочница. Бабушка была мастерица печь пироги, колобушки. Я удивляюсь сейчас: когда она все успевала? Она иногда и котлеты нам стряпала. Без мясорубки. Мясо в деревянном корытце тяпкой рубила. На праздники варился холодец.
Теперь я понимаю, как больна была наша бабушка. Время от времени она не поднималась утром. И тогда жизнь в нашем доме замирала. Папа сам топил печку (мама на утренней дойке), что-то готовил на завтрак. Я уходила в школу голодная.
Звали фельдшера Терезу Адамовну. Она приходила, строгая, внимательная. Делала укол, оставляла таблетки. Через день-два снова навещала больную. Видимо, бабушка страдала давлением или мигренью. Она становилась слабой, не вставала по несколько дней. Мне было страшно за нее. Утром я уходила в школу и очень переживала. С замиранием сердца, возвращаясь домой, смотрела на наши окна, не закрыты ли они шторами (я знала, что когда в доме умер кто-то, окна закрывают). Нет, бабушка жива. С порога подходила к ней, садилась на краешек кровати, гладила бабушкины руки. А какое счастье было увидеть, что бабушка сидит за столом на своем месте и пьет чай с сахаром вприкуску! Перед ней блюдце с мелко наколотыми кусочками сахара и щипчики. Она еще слаба, но дня через два-три я утром проснусь и услышу, как она хлопочет на кухне, ругает окаянную кошку, тихонько разговаривает с папой о чем-то. А когда я приду из школы, бабушка предложит мне пообедать. А я, утомленная от уроков и двухкилометрового пути (зимой дорогу заметало снегом, осенью и весной грязь по колено), заберусь на печку и попрошу подать мне туда тарелку с едой. Иногда я просила вместо супа яичницу. А если бабушка куда-нибудь уйдет, быстро жарила себе еще два-три яйца. И никакой сыпью не покрывалась!
Маленькая, лежа с бабушкой на печи, я просила ее рассказать о том, как «жили раньше». Бабушка говорила мне о своих родственниках, односельчанах. Любимой темой для меня была еда. Я представляла пироги с начинкой из репы и брюквы, солеными огурцами и грибами, пареную брюкву (иногда бабушка ставила в вольную печку чугунок с этим овощем), круги замороженного молока. Перед отелом корову «запускали», около двух месяцев ее не доили. Чтобы обеспечить молоком детишек, его замораживали, складывали молочные круги, обернутые холстом, на морозе в деревянные кадушки и потихоньку семья дожидалась, когда коровушка-кормилица снова начнет давать молоко.
Рассказывала бабушка о том, как проводили вечера, освещаясь при помощи лучины. Девочек с малых лет приучали к труду – учили прясть, ткать, шить.
Запомнился мне рассказ о том, как всей семьей заготавливали грибы. Леса вокруг Трофимцева были ими богаты. Отец запрягал лошадь. Дети с корзинками собирали грибы, а мать с отцом чистили и разбирали по сортам (что сушить, что солить). Кадушки с соленьем стояли в подвале, мешки с сушеными грибами были большим подспорьем для семьи. С базара из Галича привозили замороженную рыбу (не килограммами, а пудами), а также вандыш (сушеный по особой технологии ерш).
Бабушка умерла на 98-м году. Она прожила неимоверно трудную жизнь. Осталась вдовой с семью детьми, похоронила двоих малышей, двоих внучат, потеряла в годы войны двух взрослых сыновей и дочь. Но она сохранила в своем сердце любовь, доброту, жалость и сострадание к людям. Бабушка была стержнем нашей семьи. Она любила нас всех и молилась за нас, неверующих. Бабушка, сейчас я молюсь об упокоении твоей души и за тех, кто покинул этот мир, молюсь о здравии и благополучии всех моих родных.
Мама
Я выросла в большой и дружной семье. Для моих родителей село Михайловское стало второй родиной.
Я никогда не была на родине мамы – в деревне Трофимцево Галичского района, примерно в двадцати километрах от районного центра. Но я очень отчетливо представляю себе эту маленькую тихую деревушку с двумя рядами домов, лес, который начинался прямо у околицы, безымянную речку, в которой плескалась летом деревенская босоногая малышня. Семья Степановых была немаленькой. Девять человек детей родила моя бабушка, двое из которых умерли, едва появившись на свет. Глава семейства, мой дед Александр Лукоянович был отходником. Замечательный столяр и стекольщик, он работал и фактически жил в Ленинграде. А его жена с семерыми детьми были в деревне. Деньги Александр Лукоянович зарабатывал хорошие, бабушка построила в Трофимцеве дом, дед обустроил его на городской лад. Подрос старший из детей – Николай, и отец увез его к себе в город. Семья ни в чем не нуждалась. Все были обуты, одеты, не сидели голодными. Но пришла беда. Отец тяжело заболел, приехал домой, слег и больше не поднялся. Увезли его в туберкулезную больницу, которая находилась на Лисьей горе в Галиче. Там он и умер. Мама вспоминала: «Помню, привезли гроб с телом отца. Смотрим мы, ребятишки, на него, и не понимаем, что это наш папка. Ведь мы его совсем мало видели». Вот и осталась моя бабушка с ватагой ребятишек, как говорится, мал-мала меньше…
Мама моя, Валя Степанова, была пятой, и было ей лет девять тогда. Работала бабушка в колхозе, вела хозяйство, держала дом. Так и протекала жизнь этой дружной, большой семьи. После смерти отца времена наступили нелегкие. Никакой помощи от государства, никакой пенсии детям. Помогали старшие сыновья – Коля и Володя.
Мама вспоминала: «Вот сидим мы дома вечером и мечтаем о том, что сейчас дверь откроется и Коля войдет. Однажды так и случилось. Слышим, колокольчик зазвенел. Лошадь около нашего дома остановилась. Шаги в сенях. Дверь кто-то открывает. Коля! Из Ленинграда приехал! Высокий, красивый, нарядный! А гостинцев-то сколько привез – и баранки, и колбаса, и конфеты, и хлеб белый! Мы, девчонки, гроздьями на нем повисли. А он всех нас целует, обнимает, гостинцами оделяет».
Вспоминала мама и о шалостях. Однажды были дома одни, залезли на печку, стали возиться, играть. А с краю самовар стоял. Ну и спихнули его на пол. Конечно, самовару пришла «крышка». Перепугались, затаились на печи, ждут: вот сейчас мамка с работы придет и трепку всем задаст. Что значит остаться без самовара в деревне? Это значит, что чай придется в чугуне кипятить. Не помню, попало ли девчонкам.
Так как семья была большая, спать приходилось и на печи, и на полатях. Мама во сне упала с полатей вместе с полушубком, которым была укрыта. И даже не проснулась, и ничего себе не повредила.
Не представляю маму, играющей на балалайке. А она играла. Как научилась? Думаю, что от старшего брата Володи.
Бани своей не было. Выручали родственники, мылись и в русской печке. Мама рассказывала, что протопленную печь к вечеру чисто выметали, на под настилали соломы. Наливали в таз воды, по очереди девочки забирались в печь и там мылись. После выбирались наружу, иногда и в саже. Около печи стояло корыто и приготовленная чистая теплая вода, которой обливали ребенка кто-то из старших. Мама говорила, что ходили чистые, даже при отсутствии мыла, вместо него готовили щелок. Никакими болячками дети не страдали.
А потом началась война. Моей маме шел четырнадцатый год. В школе она уже не училась. Всего четыре класса удалось ей закончить, хотя учиться очень хотелось. Но в школу ходить было не в чем. До заморозков бегала босиком.
Почти все мужское население деревни ушло воевать. Не успел закончить срочную службу брат Владимир. Война его застала в Эстонии.
Зажила деревня по законам военного времени. Все – от мала до велика, помогали фронту. Валя Степанова работала в колхозе на различных работах. Сначала ей дали быка. Лошадей оставалось мало – их тоже отправляли на фронт. Пахали на быках, грузы перевозили. Упрямый был тот бык. Нередко до слез доводил девочку. Однажды заехал вместе с ней в пруд, остановился на самой середине, простоял так несколько часов, не обращая внимания ни на кнут, ни на уговоры, ни на слезы молоденькой колхозницы.
Валентину вместе с другими женщинами и подростками отправили в Пронино, строить дорогу на Кострому. И там она чуть не погибла. Лошадь, которой управляла девочка – подросток, понеслась с горы. Сначала Валентина пыталась её как-то остановить, натягивала вожжи, но все было напрасно. Тогда она бросила вожжи, вцепилась руками в борта телеги, закрыла глаза – и сидела так … Взрослые кричали, кто-то плакал, но помочь никто не мог. Видно, Бог помог, осталась девочка живой и невредимой.
Вспоминает моя мама случай, когда возвращалась она и другие подростки-колхозники с работы домой в половодье. Дома неделю не были. Река около мельницы так разлилась, что переправляться на санях с лошадьми было просто безрассудством. Но так хотелось домой, к маме.… И рискнули, поехали через реку. А ведь могли не только сами утонуть, но и лошадей загубить, под суд попасть.
А как голодно было в войну! Работаешь день – а вечером дома и поесть нечего. Помнятся обиды. Повезли как-то с подругой зерно на мельницу – смолоть муку для эвакуированных из блокадного Ленинграда, а с мельницы – на пекарню в Россолово надо было эту муку доставить. Весь день голодные. К вечеру приехали на пекарню, сдали муку. Запах там такой был – хлебом свежим пахло, работники его ели. А девчонок мутило от голода. Ждали, что им по кусочку дадут. Да не дождались. Со слезами, голодные, до своей деревни ехали…
Нечасто мы говорили с мамой о ее военном детстве. Я знаю, как бередили ее душу и память эти рассказы. Рассказывая, она часто прерывалась и спрашивала саму себя: « И как же мы выжили?». Чего только не переделали её руки, какой только работы они не пробовали – и косила, и коров доила, и в лесу дрова заготавливала, и грузы возила, и на быке боронила. И это все – молоденькая, полуголодная, плохо одетая юная девочка.
Мама вспоминала, что до войны дела в колхозе шли неплохо. Некоторое время колхозники жили старыми запасами продовольствия. Но за годы войны колхоз обнищал. На трудодни получали крохи. Приходилось как-то зарабатывать копейку. «Вот выпросим у председателя лошадь, съездим с мамой в лес, нарубим воз дров. Рано утром запряжет мама лошадь, посадит меня в сани, закутает в тулуп, еду я в Галич, чтобы продать дрова и что-нибудь купить домой. Обратно еду – ночь уже, лошадь сама дорогу знает, едем через лес. И не страшно совсем. А мама вся испереживается, встречает далеко за деревней».
В первый военный год война забрала братьев и старшую сестру.
Осиротела семья. Больше не на кого было надеяться. Никто не приедет неожиданно на тройке с колокольчиками с гостинцами (так всегда делал Николай). Никто не затормошит и не зацелует своих любимых сестренок (они так любили и восхищались своим братом Володей). И Нина не напишет письма…
Сколько слез пролила моя бабушка Прасковья Северьяновна, девочки Шура, Валя Надя, Вера – один Бог знает. Потеря близких, тяжелая жизнь, работа на износ – все это было…
1945 год принес долгожданную Победу. Казалось, теперь станет легче. Но жизнь оставалось беспросветно тяжелой. И Степановы решились на переезд в Михайловское. Председатель местного колхоза Волгина Полина Андриановна с радостью приняла трудолюбивую семью.

Так и стало село Михайловское второй родиной моей мамы. Она бралась за любую работу – трудилась и в полеводстве, и на птичнике, и на телятнике. Но дольше всего она проработала на животноводческой ферме. Что такое труд доярки, она знает не понаслышке. Утренний подъем в четыре часа утра, трехразовая дойка коров (начинала доить вручную и только в 70-е годы появились доильные аппараты). Уборка навоза, раздача кормов, и много-много другой ежедневной работы.
Ферма… Это особое место в жизни нашей семьи. Много лет, до выхода на пенсию мама работала дояркой. А я частенько ей помогала.

Рабочий день доярки начинался в 5 часов утра и длился до 7-8 часов вечера. На утреннюю дойку мама поднималась в четыре утра. Около воловины восьмого приходила домой. Дела по хозяйству, короткий отдых – в одиннадцать снова на работу, до двух часов. Перерыв до пяти – и на вечернюю дойку.
У доярки было очень много обязанностей. На моей памяти коров доили аппаратами, но некоторых и вручную (строптивых, новотельных, плохо отдающих молоко). Всего в группе было двадцать две коровы. Надоенное молоко разливали в ведра и несли в молокоприемный пункт, где стояли сорокалитровые бидоны. Молоко сливали в эти бидоны и вместе с приемщицей оттаскивали и устанавливали в бассейн с холодной водой. Когда была контрольная дойка, молоко от каждой коровы несли отдельно, замеряли надой. Вот в такие дни особенно требовалась моя помощь.
Доярки с улицы перекидывали через окно своей группы привезенные корма (зимой – сено, силос, летом – свежескошенную траву, горох). Осенью часто привозили картошку. Ее приходилось мыть, лопатой разрезать крупные клубни на части. Коровам также давали посыпку (сухой комбикорм). Доярки чистили кормушки, автопоилки, раскладывали в ясли корма, заботились, чтобы в яслях всегда лежала соль-лизунец. После окончания дойки в желоб сгребали навоз, посыпали сухими опилками пол, на котором на привязи стояли коровы.

Особенно активно я участвовала в жизни фермы летом. И особенно моя помощь требовалась в период сенокоса, когда мама разрывалась между домом, работой и заготовкой сена.
Ежедневно я ходила на дневную и вечернюю дойку. Летом на ферму привозили зеленый корм – свежескошенную траву или горох. Около окна в группу – ворох, его надо вилами перекидать в помещение, а потом разложить в двадцать две кормушки. Но пока сама досыта гороха не поем, выбрав самые спелые стручки, никакой работы. Все сделано: поилки и кормушки вычищены, еда для коровушек разложена. Ждем, когда стадо вернется с пастбища. Идут, издалека слышно коровье мычание. Знают, в какие двери заходить, каждая знает, где ее место. Некоторые, пока идут к своей кормушке, воруют еду из других. Вот, наконец, все встали по местам. Нужно пристегнуть каждое животное цепью за шею.
Механик дядя Володя Лебедев включает доильную установку. Бегу за доильными аппаратами. На каждую группу их два. Начинается дойка. Теплой водой из ведра моем вымя, мягкой тряпкой вытираем досуха. Включаем аппарат. Чтобы стаканы правильно прикрепить к соскам, нужен навык. Иначе они упадут на грязный пол, испачкаются, а этого допускать нельзя. Некоторых коров доим вручную, кое-кого после дойки аппаратом тоже нужно проверить, все ли молоко отдали.
Я тоже доила коров руками. Мне этот процесс очень нравился. После подготовки вымени садишься на низенькую скамеечку и начинаешь доить. С непривычки пальцы очень быстро устают. Можно выдаивать по отдельности каждый сосок. Но бывалые доярки доят сразу два, двумя руками по очереди.
После утренней и дневной дойки летом коров выпускали на улицу. Нужно снова все вычистить, тщательно промыть ведра, доильные аппараты.
В течение трех недель доярки растили в своей группе новорожденных телят. К рождению теляток готовились. Приводились в порядок клетки (их мыли, белили, устилали соломой). Коровы часто телились по ночам. Поэтому большая ответственность падала на ночных сторожей. Нужно было не прозевать отел, чтобы корова или ее соседки малыша не задавили (на ферме не было оборудовано место для отелов). Телят поили молоком из специальных алюминиевых банок, на которые одевались большие черные соски. Мне очень нравилось ухаживать за телятами. Если теленок благополучно проживал на ферме положенные три недели, доярка получала за него дополнительные деньги.
Я до мельчайших подробностей помню дорогу на ферму, по которой ходила мама и бегала я. Вот идешь по тропке или по дороге от нашего дома до конца улицы, затем поворот на Леванинскую (теперь это улица Победы). На пересечении улиц стоял пожарный сарай. Не знаю, что там было внутри (кажется, какое-то приспособление для тушения пожара), но на стене сарая висели багры, ведра, лопаты. А рядом на высоком столбе висел колокол. Думаю, что он остался от снятых с церковной колокольни. Звонили в пожарный колокол редко.
По Леванинской улице к ферме ходили тропкой. Мимо дома тети Нины Аксеновой, тети Шуры (не помню ее фамилию, но в деревне ее звали Шура Ашо). Дальше дом Баженкиных, Горевых, тети Лизы Смирновой. У дома тети Лизы тропка поворачивала налево и шла берегом мимо пруда, огибая его. Берег был очень высоким. У края пруда стояло двухэтажное здание – ветлечебница, конюшня. К ферме примыкала пристройка, в которой располагался «красный уголок» (здесь доярки собирались на свои собрания, лекции, концерты нашей клубной самодеятельности). В пристройке были также молокоприемная, аппаратная, раздевалка.

В возрасте 25 лет мама вышла замуж. Наш папа Аркадий Сергеевич Зубов был родом из деревни Олюшино. Вместе они преодолевали бедность, с помощью бабушки строили свою семью. Я родилась в доме, который был куплен в год моего рождения. Помню, каким чистым, ухоженным и уютным был наш дом. Может быть, в силу возраста я не замечала, что мы живем в тесноте. Но и став уже довольно взрослой, я тоже этого не чувствовала.
Папа обустраивал дом, мама и бабушка вели хозяйство. Мама была чистюля. Помню, какими нарядными были окна в доме. Вешали тюль до середины окна. А на веревочку вешали белоснежные вышитые шторки . Уже позже пришла мода вешать длинные шторы. В простенке и около бокового окна стояли цветы – фикус и мечта (его так мама называла). Проклятый фикус! Каждую субботу я была обязана влажной тряпочкой протирать каждый лист сверху и снизу. Потом моей обязанностью стало мытье полов. Мама строго следила, чтобы мыть только вдоль половиц, вымывать все до последней пылинки. До появления стиральной машины мама стирала в корыте руками. А ведь надо было обстирать шесть человек. Белье у нас всегда было белым-белым. В марте, когда образовывался наст, полотенца, наволочки в огороде выкладывали для отбеливания на снег.

До глубокой старости мама оставалась такой. После ее смерти дом выглядел так, как будто в нем жила не девяносточетырехлетняя бабушка, а аккуратная, чистоплотная молодая хозяйка.
Папа
Мой папа Аркадий Сергеевич Зубов родился в деревне Олюшино 12 октября 1926 г. Я очень мало знаю о его детстве, о его семье. Его родители – Сергей Николаевич и Александра Петровна.
Со старой фотографии 1918 года смотрит молоденькая девушка в форменном школьном платье с белым отложным воротничком. Это Шура, Александра, моя бабушка по папе. Это единственная ее фотография, которая каким-то образом оказалась у нас.

Волосы зачесаны на пробор, в руках книга. Когда я, подросток, увидела это фото, в крайней слева девочке я узнала себя. Мы очень похожи.
А это мой дед Сергей Николаевич Зубов. Невысокого роста. Хорошо сложенный. В полувоенном костюме – галифе, пиджак, высокие хромовые сапоги, фуражка. Молодой, красивый. Был весельчак и плясун.
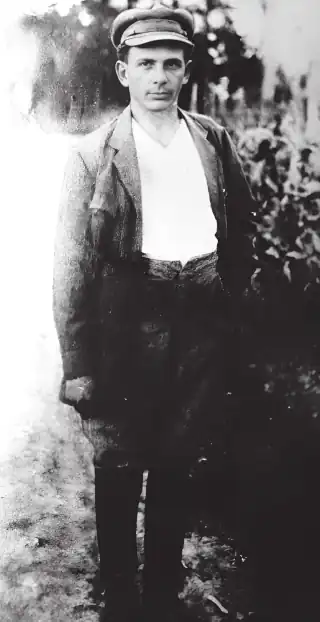
Всего две фотографии… Не знаю девичьей бабушкиной фамилии, когда они с дедом создали семью и когда развелись. Нет у них и могилок.
В интернете несколько лет назад мне посчастливилось найти родословную семьи Зубовых. Я была потрясена. Я знала, что папин дед торговал мясом, что у него была мясная лавка в верхних торговых рядах (там, где сейчас обувной магазин, а раньше, в пору моего детства и молодости, магазин «Сельхозпродукты»). Об этом рассказывала бабушка Паня. Наверно, она называла и имя моего прадеда. Она очень хорошо о нем отзывалась. Говорила, что на сенокос они всегда покупали у прадеда солонину. Часто в долг, он никогда не отказывал. Вообще, бабушка высоко ценила Зубовых. Говорила, что у них хорошая родовая. Бабушкина оценка дорогого стоит, потому что люди ее поколения судили о семье по родовой. Наверно, поэтому бабушка высоко ценила своего зятя – нашего папу.

Теперь я знаю род Зубовых с 19 века. От Алексея Зубова пошли две ветви: Ивана Алексеевича и Павла Алексеевича. У Павла Алексеевича было два сына – Александр Павлович и Михаил Павлович. Прапрадед Михаил Павлович родился примерно в 1840 году. Мой прадед Николай Михайлович был его четвертым сыном 1868 года рождения. Дед Сергей Николаевич появился на свет в 1901 году. У него было три сестры: Анна Николаевна, Татьяна Николаевна (1898 г.р.) и Валентина Николаевна (1906 г.р.) – папины тети. Во многом им он обязан был тем, что выжил и не потерялся в жизни.
Как-то по областному телевидению прошел репортаж, в котором говорилось о Зубовых из Олюшина Галичского района. Они занимались разведением скота и мясной торговлей. Этот факт зафиксирован в похозяйственных книгах. Но в 30-е годы Зубовых становилось все меньше и меньше. Об этом также говорят похозяйственные книги. Много было репрессированных, в том числе и прадед Николай Михайлович и его жена. Папина сестра тетя Лида рассказала, что их дед и бабушка из большого дома в Олюшине были изгнаны и доживали в сарае. Даже посуды у них не осталось. Еду варили в жестяных банках. Нужно поработать в архиве, чтобы больше узнать о своих корнях.
В семье моего деда Сергея Николаевича родилось трое детей: сыновья Евгений, Аркадий и дочь Лидия. Но дед бросил жену и детей, женился вторично. В новой семье появилось еще два ребенка – Николай и Галина. Папа и дядя Коля дружили.

Жизнь деда не была счастливой. Он был арестован, какое-то время находился в Чухломе (там был лагерь), затем отправлен в Москву на строительство метро. Заключенный Зубов Сергей Николаевич погиб под земельным завалом, оставив сиротами пятерых детей. Был реабилитирован в годы перестройки.
Когда отец ушел из семьи, для его жены и маленьких детей начался ад. Бабушка Александра Петровна, не пережив горя, заболела. Предательство мужа сказалось на ее психике. Семья очень бедствовала. Со слов тети Лиды соседи стали хлопотать об устройстве детей в детский дом. Но взяли только старшего Женю 1924 года рождения. Так и вырос он там, в детском доме.
Детство папы и его младшей сестренки Лиды было беспросветным. Имея очень хорошие способности к учебе, папа ушел из школы после пятого класса, оставшись на второй год. Помню, он рассказывал о том, что они в школу с Лидой ходили попеременно: были одни сапоги на двоих. Учился папа в школе №5, что на Поклонной горе. Имея за плечами всего пять классов, папа помогал мне решать задачи за седьмой класс по математике. Он много читал, был вдумчивым и очень умным. Жалко, что папа не смог получить образования.
Мальчишкой он подрабатывал, где мог. Гонял гурты крупного рогатого скота в Ленинград. В Галиче мясокомбината не было. Поэтому скот на мясо гоняли живьем. Папа рассказывал, что шли несколько недель. По дороге скот пасли, доили, на кострах готовили себе еду. Был главный – гуртоправ. Обратно возвращались поездом.
Уже после войны пропала папина мать, моя бабушка. Она сопровождала скот вместе с другими галичанами. Села в поезд до Галича. И не доехала. Сгинула на обратной дороге. Было заведено уголовное дело, но расследование результатов не дало.
Настоящим испытанием для папы стала война. Ему шел пятнадцатый год. Голодно, неуютно.
В мае 1942 года ушел на фронт старший брат Евгений. Оказавшись после предательства отца в детском доме, он остался оторванным от семьи. После выпуска из детского дома был направлен в школу ФЗО. По воспоминаниям младшей сестры тети Лиды жил в Ярославле. Оттуда был призван в армию в возрасте семнадцати лет. Попал в Гороховецкие лагеря Горьковской области, где проходил военную подготовку. Матери писал, обещал прислать ботинки. Сдержал ли обещание?
О Жене я знала только со слов папы, что он погиб. Где? Когда? Лет пять-шесть назад зашла на сайт «Подвиг народа». Нашла наградной лист. Мой дядя гвардии сержант Зубов Евгений Сергеевич был награжден медалью «За отвагу». Во время боев с 20-го по 25 августа 1944 года, действуя в составе расчета, ведя точный огонь из своего миномета, уничтожил одну огневую точку и более десяти солдат противника. Женя был наводчиком миномета. Служил на 2-м Украинском фронте, в 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 2-м воздушно-десантном полку. Наградной лист подписан 20 сентября, а уже 23 ноября 1944 года моего дяди не стало. Он был убит на территории Венгрии у деревни Ошторошь. Я нашла в интернете сведения о безвозвратных потерях. Одна из строк этого документа посвящена нашему Жене. Ему было всего двадцать лет! Нет ни одной фотографии. Тетя Лида говорила, что был он невысокого роста, худощавый, веснушчатый. Она помнила, что командир прислал матери письмо, в котором рассказал, как погиб ее сын.
А папа в войну голодал. И когда стало совсем невмоготу, он пошел в военкомат проситься на фронт.
– Ты что, – говорит военком, – ведь убьют. А тебе всего 17…
– Ну и пусть. Хоть сытым буду. Солдатам паек дают.
Отправил его военком не на фронт, а на железную дорогу кочегаром. Может быть, это и спасло папу. Потом он закончил школу фабрично-заводского обучения. Служил в армии. Жил у теток то в Москве, то в Олюшине.
Я думаю вот о чем: наш папа, по сути, остался один. И при живой матери он был сиротой, так как в силу своей беспомощности она ничего не смогла дать детям. Брат погиб, младшая сестра уехала, продав в Олюшине домик, в котором бедовала семья. Права была бабушка Паня, которая говорила: «Из хорошей родовой Аркадий». Наш папа не спился, не занялся воровством, не пошатнуло его ни в какую плохую сторону. Он выживал, как мог. И выжил, и в люди вышел.
В мае 1952 года после службы в армии папа женился на нашей маме. Как тогда говорили, стал примаком. Это значит, пришел жить в дом тещи. А там семья. Еще двое дочерей моей бабушки были не пристроены. Не все было гладко. Но жизнь шла своим чередом. В апреле 1953 года в семье родилась дочка Аля, моя старшая сестра. А в 1958 году был куплен дом, в котором до своей недавней смерти жила мама и который теперь стал моим.
Мама говорила, что домом его назвать было трудно. Я-то помню дом, уже обшитый тесом, с пристроенной верандой. А мама говорила: «Баня баней, а не дом был. Но Аркадий все отстроил, хороший был плотник».
Да, был папа отличным мастером. Он и столярничать умел. Даже мебель мастерил: письменный стол, буфет, диван и многое другое было сделано папиными руками. Прошло двадцать семь лет, как его нет с нами. Но я до сих пор помню его: невысокого роста, худощавого, спокойного, скромного, немногословного.
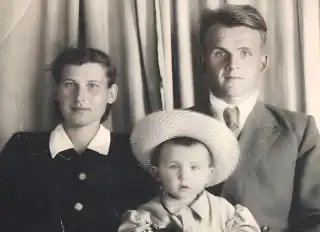
Маленькая Аля отказалась снять шляпу

Его очень уважали в селе. Он работал плотником в совхозе. Был бригадиром. В 60-е – начале 80-х годов в совхозе шло большое строительство. Строились не только производственные помещения, но и много жилья. Все совхозные жилые дома в Михайловском, Шокше построены были папиной бригадой или при ее участии.
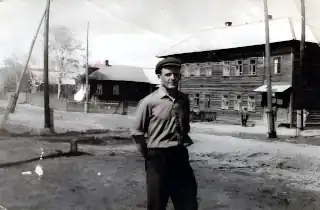
Папа всегда выполнял какие-то общественные поручения. Он был председателем товарищеского суда, депутатом Дмитриевского сельского совета. Он был членом партии.
А кто посещал все родительские собрания своих дочерей? Только папа. Помню, придет с собрания, молчит. Спрошу: «Пап, ну что про меня говорили?» Ведь знаю сама, что ничего плохого папа от классного руководителя не услышал, но мне хочется, чтобы папа об этом сказал. Посмотрит на меня, чуть улыбнется: «Похвалили».
Папа гордился нами. Он видел, что росли мы умными, скромными, старательными. Но его гордость за своих дочек проявлялась очень редко и только тогда, когда он выпьет. Сидит в компании, я где-нибудь рядом кручусь, переживаю, лишку бы не выпил, чтобы плохо ему не стало. И вдруг скажет: «Хорошие у меня дочки растут». А если кто-то из мужиков позволит себе матерное словечко в разговоре, остановит: «Не ругайся, видишь, дочка здесь».
Иногда папа в компании, крепко выпив, запевал песню «Вот мчится тройка почтовая». Пел всегда только эту строчку. Я так и не спросила его, знает ли он эту песню до конца? Наверно, не знал.
Как я люблю тебя, папа! Но я никогда тебе об этом не говорила…
Баба Маня
В моей жизни была еще одна бабушка. Это родная сестра моей бабушки по маме Степановой Прасковьи Северьяновны Хапкова Мария Северьяновна. Я называла ее «баба Маня». Большую часть жизни баба Маня прожила в Михайловском. Она нанялась в семью зажиточных жителей села Басовых, по сути стала членом их семьи и жила в их доме до самой смерти.
Тетя Люба Басова (Воеводская) рассказала мне о том, что что ее дед Ефим Яковлевич Гусев был купцом первой гильдии. Он родом из Солигаличского уезда Костромской губернии, жил в Ленинграде. У него была большая семья.
Незадолго до смерти он вернулся на родину. Ефим Яковлевич умер в 1896 году. Похоронен в деревне Корцово Солигаличского уезда. Его дочь Вера Ефимовна родилась в 1895 году. Когда она выходила замуж за жителя Михайловского Павла Басова, приданое привезли на двенадцати возах. Впрочем, первоначально ее сосватали за брата Павла, но тот не хотел жениться и исчез. Пришлось Павлу Николаевичу стать мужем Веры Ефимовны.

Двухэтажный дом Басовых был построен на месте старой развалюхи. И сегодня, спустя сто лет, дом хорошо сохранился. Правда, он полностью изменил свой облик. Но я помню его настоящим, басовским. После смерти бабы Мани я больше ни разу в нем не была, не видела переделок.
Не знаю, когда баба Маня стала жить у них, но думаю, что смолоду. Замужем она не была.
В 1931 году в Михайловском была проведена коллективизация, прошло раскулачивание. Басов Павел Николаевич был сослан в Магнитогорск. Жена и дети оставались в селе. Баба Маня спасла хозяйское богатство. Когда к дому Басовых подходили местные активисты, в ее руках находился увесистый сверток с драгоценностями. Боясь обыска, она сумела спрятать золото в дымоходе. (По другой версии – бросить его в бочку с водой). Через год хозяин вернулся, забрал семью и спешно уехал в Ленинград. Баба Маня осталась в доме.
Я помню ее уже очень пожилой. Она родилась 26 марта 1889 года, умерла 20 февраля 1978 года. Она запомнилась мне худенькой, подвижной, немного сварливой. Одевалась очень просто: на голове цветной платок, простое платье, вигоневая кофта. На ногах – кожаные тапочки, аккуратно заштопанные носки. Кое-что из одежды ей привозили из Ленинграда ее воспитанницы – сестры Басовы – Шура, Люба, Катя, поношенную, но очень чистую и аккуратную. Помню, у бабы Мани был беличий полушубок, изрядно вытертый. А однажды я примеряла высокие ботинки на шнуровке.
В войну в Михайловское приехали дочери Павла Николаевича и Веры Ефимовны. Павел Николаевич был на фронте, Вера Ефимовна умерла в блокаду. Младшие, Люба и Катя оказались в детском доме, Шура работала. Их вывезли очень слабых. Баба Маня выхаживала девочек. Между ними сложились по-настоящему родственные отношения, она сумела заменить им мать. Сестры называли ее Манечкой. Связь между ними и Манечкой не прекращалась до самой ее смерти. Они почти каждое лето приезжали в гости, привозили своих детей и мужей, писали письма, присылали посылки. И для всех нас Воеводские, Курковы, Денисовы тоже стали родными.
Чаще всех приезжали тетя Люба Воеводская с дядей Андреем и Серегой и тетя Шура Денисова с Таней. Дядя Андрей Воеводский занимался фотографией. Благодаря ему в нашем семейном архиве сохранились фото бабушек, мамы, папы, наши детские фотографии.
Мне никогда не забыть то радостное волнение, которое я испытывала в ожидании приезда гостей. Баба Маня получала письмо, в котором тетя Люба сообщала о дне приезда. Начиналась подготовка к встрече гостей. Баба Маня делала генеральную уборку дома, я ей помогала.
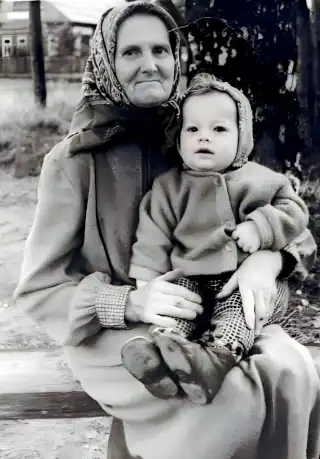
Поезд из Ленинграда обычно приходил утром. И мы с бабой Маней шли на вокзал встречать гостей. Путь был неблизким. Чаще всего ходили по железнодорожной ветке, соединяющей экскаваторный (теперь автокрановый) завод со станцией. Чтобы попасть на ветку, шли через овраг, мимо Травяного зеленика, а потом по шпалам прямо до вокзала. Путь проходил мимо «аула». Так называли и до сих пор иногда называют улицу Красноармейскую, где живут галичские татары. Меня одолевал страх. В моем представлении татары были страшные и злые. Я ведь знала, о том, что в период монголо-татарского нашествия на Русь они дошли и до Галича. А о том, почему татары компактно проживали в Галиче, мне тогда было неизвестно. Может быть, этому поспособствовал татарин, который периодически появлялся в Михайловском на лошади с телегой. Это был тряпичник. Он собирал разный хлам, в том числе тряпки, а также самовары, бессовестно обманывал ребятишек. За несколько воздушных шариков и свистульку мог взять старинный самовар. Помнится мне, что с нашего чердака «ушел» самоварчик. Физиономия и весь облик этого дядьки мне казались ужасными. А еще и бабушка иногда пугала непослушных внучат татарином. Но вот «опасная» часть дороги пройдена и мы у цели. Вокзал меня завораживал. На перроне киоски с газетами, пирожками, соком. Много людей, которые торопятся, суетятся. А вот и наш поезд. Питерщики прибывали, нагруженные чемоданами, рюкзаками, коробками. Иногда до дома ехали в кузове грузовой машины, на которой возили хлеб в село. Это если баба Маня заранее договорится с шофером дядей Валей Разгуляевым. А иногда и на своих двоих, той же дорогой.
Я очень любила ходить к бабе Мане, когда у нее гостили питерщики. Старалась подгадать к чаепитию, потому что можно было получить что-нибудь вкусное: печенье, мармелад апельсиновый или лимонный дольками (нынешний ни в какое сравнение не идет), конфету, кусочек нереально вкусного шоколадного вафельного торта.
Ленинградцы присылали посылки. У бабы Мани всегда в запасе были разные вкусности. Для меня они казались богатствами, может быть, потому, что всегда запирались. От кого? Не от нас же. Никому и в голову не приходило что-нибудь стащить и съесть. Наверно, многолетняя служба в богатом доме, где баба Маня пользовалась неограниченным доверием, заставляла ее держать запасы под замком.
Закрываю глаза и мысленно «иду» к бабе Мане. Вот он, двухэтажный дом. С лавочкой между двумя березами. К дому пристроено крытое крыльцо. Из него можно попасть в оба этажа. Справа дверь на первый. Слева на второй. Поднимаюсь по крутой лестнице. На площадке справа две двери. Первая дверь ведет на кухню. Здесь довольно неуютно, зимой холодно. Русскую печь баба Маня не топила. Летом на кухне ставили керосинку. У меня это помещение вызывало ощущение заброшенности.
Из кухни прохожу в большую комнату. Она действительно была большой. Обстановка очень скромная, мебель старая, оставшаяся после отъезда хозяев. По правой стене – кровать, комод, боковое окно, в углу легкий круглый столик. В двух верхних ящиках комода хранились коробки из-под конфет с письмами, открытками, квитанциями, лежали присланные из Ленинграда лимоны, конфеты. И запах из этих ящиков исходил особенный – лимонно-карамельный. Три окна по лицу, напротив которых стоял большой обеденный стол, в левом углу – маленький столик, покрытый клеенкой. Там, в недрах этого столика где-то прятались ключи от комода. Вот сейчас я подумала о том, как правильно нас воспитывали. Никогда мне не пришла мысль поинтересоваться, где ключи, никогда не делала попыток заглянуть во вкусные ящики комода, никогда не просила дать еще одну конфетку. По левой стене стояла печка, которая отапливала обе комнаты. Топка с лежанкой находились в соседнем помещении. Между печкой и дверью в другую комнату был буфет. Мебель старинная, почти черного цвета. Полы никогда не красились.
Во второй жилой комнате находилась кровать, стол, небольшой шкафчик, сундук.
Зимой печь не могла дать достаточно тепла, поэтому в большой комнате ставилась маленькая чугунная печка, которая топилась мелкими полешками и щепками. Стенки печки раскалялись, баба Маня готовила на ней себе еду, кипятила чайник. Но печка очень быстро остывала, поэтому ее топили по несколько раз в день.
Комната была устлана домоткаными половиками. На окнах –скромные занавески, над столом – самодельный абажур. Вдоль окон стояли старинные мягкие стулья, обтянутые парчовой тканью. Сидеть на этих стульях было не очень удобно – продавленные сиденья, выпирающие пружины, но я всегда выбирала себе именно такой стул. Мне очень нравилось сидеть с бабой Маней за столом, пить чай и вести с ней беседу.
Из маленькой комнаты можно было попасть в так называемую «холодную комнату», которая использовалась как кладовка. Там стояло несколько симпатичных сундучков, а еще одна дверь выходила на площадку второго этажа.
Я как могла помогала бабе Мане. Приносила ей дрова, воду. У нее были небольшие ведра литров на семь, поэтому мне было нетяжело принести воду с пруда и из леванинского колодца. В Шокше была почта, поэтому я каждый месяц платила за свет, покупала конверты, открытки к праздникам.
А еще я писала в Ленинград письма. Это была целая церемония. Когда приходило бабе Мане письмо, я его читала. Мы договаривались, когда мне прийти писать ответ. Баба Маня неторопливо диктовала, а я строчила от первого лица все, что она мне говорила.
Каждый день баба Маня приходила к нам. В моей памяти и сейчас эти картинки. Мы с бабушкой лежим на печке. Открывается дверь. Входит баба Маня. Садится на табуретку и начинает выговаривать бабушке, что она (бабушка) измучилась с этой семьей, что нет ей никакого покоя.
Вот я, как барыня живу.
На это бабушка спокойно отвечала, что она всегда с семьей, привыкла, куда же ей деваться?
Иногда баба Маня начинала размышлять, кто из них раньше умрет.
– Пань, интересно, кто дольше проживет – ты или я? Я так-то ничего, только головушка у меня болит.
Головушка-то у бабы Мани болела часто. Теперь-то я понимаю, что она мучилась давлением. Но кто же это знал? В комоде у нее лежали таблетки, иногда она по несколько дней не вставала, я очень беспокоилась, приходила из школы, бежала к ней.
Баба Маня получала хорошую по тем временам пенсию – 45 рублей. Деньги у нее были всегда. Она очень гордилась своим статусом пенсионерки.
Спасибо советской власти, хорошо живу. Покупаю сливочное масло, белые батоны!
И правда, помню кусочки масла в поллитровой банке с холодной водой летом (холодильника не было). Молоко брала у нас, мясо и яйца тоже, сладости присылали, свежие овощи выращивала в своем огороде. Мама стирала ей белье. С дровами помогали папа и дядя Костя.
В день выборов (это всегда в селе был праздник) баба Маня старалась первой прийти на избирательный участок.

К ней на беседки приходили подруги. Чаевничали. Но каждая при этом пила чай со своим сахаром. Меня это очень удивляло, но позже я поняла, что эта привычка сохранилась с голодных времен, и эти бабушки искренне считали, что так должно быть.
Баба Маня пекла очень вкусные куличи, иногда ходила в церковь в Галич. В доме были старинные иконы.
Ходили мы с ней в лес за грибами и за вениками. Помню, наломали березовых веток, баба Маня увязала их в ношу и несет на спине. А мне ее жалко. Предлагаю ей свою помощь.
Ну что ты, разве сможешь? У тебя сила детская, а у меня старческая.
Когда я перешла в четвертый класс, к бабе Мане переехала из Трофимцева ее и бабушки младшая сестра баба Рая. В детстве она тяжело заболела, ее лицо было неправильной формы, замуж она не выходила и всю себя посвятила воспитанию племянников. Во время блокады в Ленинграде умерла их сестра Валентина, оставив четверых детей – сыновей Николая, Валентина и дочку Антонину. Еще один мальчик, Василий, пропал без вести во время блокады. Я не знаю, как дети попали в Трофимцево. Бабушка Рая заменила им мвть. После войны Тоня в возрасте семнадцати лет попала под паровоз (она работала на железной дороге в Россолове), погибла. Баба Рая с трудом перенесла смерть любимой племянницы, которую считала своей дочкой. Она жила с семьей племянника Валентина, человека пьющего и скандального. Когда он с женой и дочерью уехал жить на Урал в г. Кушву, она осталась в умирающей деревне одна, очень больная. В Михайловском прожила недолго, умерла в 1970 году.

Когда я училась на втором курсе института, не стало бабы Мани. У меня были зимние каникулы. Баба Маня сильно сдала, с каждым месяцем становилась все более немощной. Она стала рассеянной, забывчивой. У нее жила квартирантка-медик Лена Максимова. Лена как могла поддерживала бабу Маню – давала ей таблетки, делала уколы. Но ее состояние ухудшалось. Мама с папой решили взять ее к себе. В тот день я пришла к ней. Баба Маня собрала вилки и ложки, перевязала их веревочкой. Вижу ее, стоящей около лежанки, на голове зеленый шерстяной платок.
– Баба Маня, пойдешь к нам жить?
– Пойду.
И вдруг она упала. Инсульт. Лежала беспомощная на кровати, иногда что-то пыталась сказать.
За несколько дней до смерти умирающую подругу пришли навестить ее соседки. То, что произошло дальше, меня очень напугало и расстроило. Они подошли к ней, начали разговаривать, плакать, просить прощения. Баба Маня разволновалась, кажется, я сказала что-то не очень вежливое, пытаясь прекратить эту сцену. Много позже я поняла, что прожившие рядом многие годы, хлебнувшие горя немерено, в тот миг они искренне прощались со своей односельчанкой, подругой, товаркой навсегда.
Каникулы закончились, я уехала в Кострому. Через несколько дней пришла телеграмма. Баба Маня лежала в гробу в пестром платочке, маленькая, худенькая. Гроб стоял на том же столе, за которым она в одиночестве коротала время, сидя за самоваром, где мы писали с ней письма, за которым сидели ее долгожданные ленинградские гости. Бабушка Паня пережила сестру на одиннадцать лет.
В день похорон я в последний раз была в этом доме.
Прошло немало лет. И меня стал мучить один и тот же сон. Баба Маня, больная и беспомощная, одинокая и неприкаянная, живет, всеми позабытая. А мы не ходим к ней и ничем ей не помогаем. Хотя могилка ее всегда была в порядке. Может быть, не хватало молитвы? «Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей Марии, прости ей все согрешения вольные и невольные, совершенные ею пред тобою…» Какие простые слова, но каким огромным смыслом они наполнены! И я, твоя внучка, бывшая пионерка, комсомолка, коммунистка, а теперь и сама бабушка, повторяю эту молитву снова и снова…
Малофеевы
В Михайловском жила родная мамина сестра Надя Малофеева с семьей. Их дом стоял в конце нашей улицы напротив церкви. Он и сейчас стоит, но живут в нем другие люди.
Надя была предпоследним ребенком в большой семье Степановых. Получить образование ей, как и нашей маме, не пришлось. Она закончила только начальную школу. Когда началась война, ей было двенадцать лет. Хотя это неточно. В документах ей прибавили лишний год.
Бабушка рассказывала, что Наденка (так ее называли близкие) очень любила парное молоко и всегда стояла с кружкой, пока доилась корова. Напьется молока, вот и сыта.
Пара Малофеевых – Надя и дядя Костя была очень красивой.

Она – невысокого роста, фигурка складная, походка легкая, быстрая. И он – высокий, под метр девяносто, статный, с открытым красивым лицом. Чем-то похож на актера Александра Михайлова. Ему все шло – и строгий выходной костюм, и рабочая спецовка с кирзовыми сапогами.
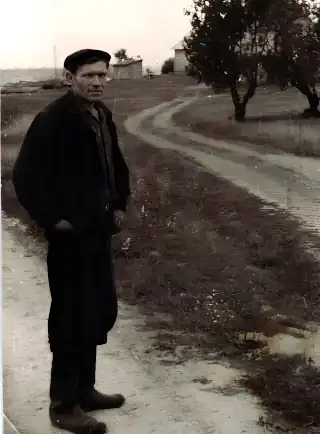
Надя была старше мужа на восемь лет, но разницы в возрасте между ними не ощущалось.
Костя был из бедной семьи. Отец погиб на войне. Мать часто болела. Мальчишкой начал работать в колхозе. Выучился на тракториста. И молодым парнем влюбился во взрослую Надю. Влюбился так, что никто больше ему был не нужен. Только она.
Надя была плясунья. Заиграет гармонь, она выйдет в клубе на середину зала и пошла «русского» плясать. Я, конечно, не видела, но представляю, как она выплясывала, как выбивала дробь своими красивыми ногами, обутыми в единственные выходные туфли. ( Надя рассказывала, как ходили с подругами в соседние деревни на танцы, всю дорогу шли босиком, и только около деревни надевали обувь, которую берегли пуще глаза). А Костя ревнует. Ревнует ее – такую взрослую, недоступную. А по нему, красавцу сельскому, наверняка ровесницы сохли.
«Летит в меня все, что ему под руку попадется», – рассказывала Надя. И ведь настоял на своем, стала она его женой, свадьбу сыграли. Ушел молодой муж в армию, осталась жена беременной. Без мужа родила, вырастила сына до двух с половиной лет. Без него похоронила своего Сашеньку.
После возвращения Кости из армии в семье родилась дочь Галина. Своенравная росла девчонка. Рыженькая, крепкая. Про таких говорят «кровь с молоком». На маминой спине (на закорках) ездила в садик. Несет ее Надя, уговаривает, чтобы в садике себя хорошо вела, с воспитателями не ссорилась. Но частенько Галка грубила взрослым, ее иногда даже из садика выгоняли. Попробуйте представить, чтобы сегодня воспитатель выпроводил ребенка за ворота. А тогда – ничего. Никто и не думал, что родители на работе, что ребенок пойдет к бабушке мимо пруда и что ему в голову взбредет?

Жили Малофеевы хоть и тесно, но открыто. В их доме всегда были люди. У них у одних из первых появился телевизор. Стационарной телевышки в Галиче еще не было. Поэтому антенну устанавливали на крыше. Качество изображения было неважным, работала одна программа, но все равно каждый вечер кто-нибудь из соседей или родных приходили на «телевизор», поиграть в карты, просто скоротать вечер.
Когда вечером мне становилось скучно, я просилась к Малофеевым. Одной выходить на улицу и идти по темноте было страшновато. Папа провожал. Иногда мы выходили с ним на дорогу, он останавливался, закуривал, а я бежала одна, то и дело оглядываясь, проверяя, стоит ли папа.
Наши семьи жили очень дружно. Мы по-настоящему были родными. Папа помогал Малофеевым в ремонте дома. Дядя Костя работал трактористом, поэтому привезти дрова, сено, вспахать под картошку участок не было проблем.
Иногда дядя Костя и папа с получки распивали бутылочку. Обычно папа шел к Малофеевым, а я тащилась за ним, потому что переживала. Дядя Костя мог выпить много и оставаться трезвым, а наш так не умел. Разливали спиртное по граненым стаканам. Папа пил медленно, маленькими глотками. Мне казалось, что он не хочет, пьет против воли. Я его жалела и боялась, чтобы ему не стало плохо.

Иногда дядя Костя у нас ночевал, а во время совхозных праздников – обязательно. Осенью отмечали День сельского хозяйства. В клубе проходило торжественное мероприятие. Передовикам вручали грамоты, денежные премии, подарки.
В фойе накрывали столы. Закуску готовили по домам. Опьянев, дядя Костя в сопровождении жены шел к теще. На полу в кухне что-нибудь постилалось, с печки под голову подушка. И дядя Костя спал до утра.
Бабушка любила своих зятьев и гордилась ими (их у нее было четверо). Они были дружны, никогда не ссорились, и уж конечно, не заводили драк. «Вот у Шурки-то! И как сойдутся, напьются, колья в руки, и давай драться. А мои никогда! И не ругаются даже», – говорила она.

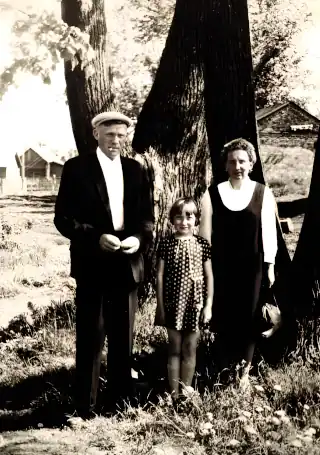
Дядя Костя был передовиком производства. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Часто его приглашали на различные совещания – в район, в область. Я как сейчас вижу его – высокого, стройного, в строгом костюме, хорошем пальто. Несколько раз дядя Костя ездил в гости к нашим родственникам Леваниным в Кимовск. Возвращался, нагруженный гостинцами. И обязательно наказывал отнести гостинцев нам – яблоки, апельсины. И конечно, колбаса.
Надя работала в бригаде. Летом, в сенокос, каждое утро женщин на грузовике увозили в реки на заготовку сена. Уезжали рано, приезжали поздно. Галка росла хозяйственная, с малых лет старалась помогать по дому – стирать, мыть полы. Частенько и я присоединялась, вместе делали уборку. Наш труд вознаграждался покупкой разных сладостей в магазине. Тетя Надя была очень щедрой.
Дядя Костя купил мотоцикл с коляской «Панония». Черный импортный красавчик с красной окантовкой. Иногда летом он нас катал по окрестным сельским дорогам. Частенько водитель был не очень трезвым. А мы, детвора, как галки висели везде: на заднем сиденье, в коляске двое, на коляске. И ведь ничего никогда с нами не случалось. Дядя Костя вез нас в сторону Лебзина и Павлукова. Как сейчас вижу дорогу вдоль полей, засеянных зерновыми.
Дядя Костя умер молодым в возрасте пятидесяти одного года. К сожалению, он стал часто и много выпивать. 12 июня 1989 года уже с утра было очень жарко. Как всегда, он проснулся рано, открыл окно, поздоровался с теми, кто проходил мимо. Вскипел чайник, тетя Надя позвала завтракать. Молчание. Она вошла в комнату. Дядя Костя лежал на диване и уже не дышал..
Это было потрясением для всех. Но тяжелее всех утрату переживала наша Надя. Его Наденка пережила мужа на девять лет. Ее не стало 4 августа 1998 года. Рак желудка четвертой степени. Спасти нашу любимую тетю было уже нельзя.
Перед сороковым днем мне приснился сон, который я и сейчас помню до мельчайших подробностей. Вижу их дом, комната, в которой стоят столы. Один стол стоит отдельно от других, около печки (так были расставлены столы во время поминок в день похорон). За столами сидят люди. В простенке между двумя окнами сидит наша тетя. На ней ситцевый халатик, а поверх головы – белый платок.
– Ну ладно, – говорит она. Мне пора в свою деревню.
Галка встала, подошла к отдельному столу, разложила белую ткань и начала собирать в нее какую-то еду.
Я говорю: «Тетя Надя, ну посиди еще немножко».
– Нет, Нинушка, мне пора.
Она взяла приготовленный Галей узелок и пошла к выходу. Открыла дверь в коридор, затем в крыльцо и на улицу. Я побежала за ней, выглянула на улицу через открытую дверь и увидела, как она идет мимо палисадника, мимо липы по направлению к церкви (там дорога на кладбище). Она уходила быстрой, легкой походкой, как и всегда.
Я крикнула: «Тетя Надя!»
Она обернулась: «Папе привет передай»!
Махнула рукой и ответила: «Передам!»
Осталась память, светлая память…
Старшая сестра
Детей в нашей семье было трое. Трое дочек у мамы и папы. И все такие разные…
Старшая сестра Аля родилась 10 апреля 1953 года. Времена были нелегкие. Семья проживала на первом этаже двухэтажного дома. Это жилье бабушка смогла купить с большим трудом, переехав со своим семейством со второго этажа от старшей сестры. Потолки были очень низкие, планировка странная. Все жилое помещение делилось на три части. Кухня находилась по середине. Из холодного коридорчика попадаешь сразу в большую комнату. Из нее налево вход на кухню, а из кухни еще один проход в спальню. Так как у папы своего жилья не было, он поселился у тещи, у которой еще были две младшие дочери – Надя и Вера.
Помню, бабушка рассказывала, каким спокойным и послушным ребенком была Аля. «Вот пойду за коровой, посажу Аленьку на скамейку на улице, дам ей ржаную колобушку. Приду обратно – так и сидит, никуда с места не сдвинется».
Сестра старше меня на пять с лишним лет. Конечно, никакой особой дружбы у нас с ней не было, все-таки разница в возрасте приличная. Я и относилась к ней как к наиболее умной, взрослой. Она водила нас с Галкой в парикмахерскую в Галич. Иногда в воскресенье мы шли в горсад, чтобы покачаться на качелях. В то время там были качели в форме лодок. Я боялась на них качаться, но никогда в этом не признавалась.


Когда в моду вошли радиолы, родители купили приемник. Это было здорово! Можно слушать радио (несколько каналов) и крутить пластинки. Пластинки надо было покупать. Время от времени Аля после уроков ехала в Галич и к вечеру приносила домой новые пластинки. Еще она собирала «артистов». Это черно-белые открытки с изображением известных актеров. На обратной стороне печаталась информация, в которой содержались сведения о том, в каких фильмах они снимались. Помню, как появились первые шариковые ручки.
Конечно, мне такую ручку не купили. А Але купили. Но я не обижалась. Сестра позволила мне немножко почеркать диковинной ручкой. Сменных стержней тогда еще не продавали в Галиче, а заполняли пастой вторично.
Во времена нашего детства многие переписывались со сверстниками из социалистических стран. Але присылала письма девочка из Югославии по имени Милене. Я помню даже ее фотографию, на которой она вместе с младшей сестрой. Письма были на русском языке. Ведь во всех соцстранах русский язык был обязательным для изучения в школах. Однажды девочка прислала письмо и рисунок. Мы не могли понять, чем он был раскрашен. На карандаши и краски это было совсем непохоже. В то время мы еще не знали о таком чуде как фломастеры.
Однажды с нами произошел курьезный случай. Перед первым сентября мы пошли с Алей в город, чтобы купить школьные принадлежности. Обычно покупалось много тетрадей и все необходимое. Сестре дома дали десять рублей. Почему она дала мне в руки кошелек, а сама куда-то ушла, оставив меня в сквере, я не помню. Ко мне подошли несколько девчонок и одна из них попросила посмотреть кошелек. Я доверчиво протянула его ей. Она взяла, открыла, вытащила деньги, бросила пустой кошелек, и компания убежала. А я онемела от неожиданности. Когда я осознала, что произошло, заплакала. Мы боялись идти домой, думали, что нас будут ругать. Но наши папа, мама, бабушка были мудрыми, естественно, никаких разборок не учинили. Помню, даже переживали, что эта банда могла меня избить.
Летом у нас часто гостили двоюродные брат и сестра Юра и Геля Голубевы. Однажды Аля и Геля так меня напугали, что некоторое время я заикалась. В чулане висел старый папин овчинный полушубок. Почему-то я его очень боялась. Всегда обходила стороной. А дотронуться рукой до меха меня было вообще не уговорить. И вот они накрылись этим полушубком, дождались, когда я появлюсь в коридоре и с рычанием выскочили из чулана. Нервный срыв маленькому ребенку был обеспечен.
Однажды с моей старшей сестрой произошла беда. Она пришла из бани. Дома взрослых никого не оказалось. Аля поставила кипятить самовар. Когда он вскипел, Аля понесла его на стол. То ли рука соскользнула с ручки, то ли какая-то другая причина, только кипяток из самовара выплеснулся на ногу и руку. Долго болела.
Аля у нас росла модницей. Очень любила красивые наряды. Но где их было взять? Шила сама себе платья, заказывала в ателье. Помню, из маминого серого кабардинового (была тогда такая ткань – натуральная, очень качественная) пальто ей в ателье сшили зимнее, очень симпатичное пальтецо. Потом и я его донашивала. После седьмого класса Аля уехала в Ленинград, погостить у Тани Денисовой. Мы с мамой пришли на вокзал ее встречать. Когда подошел поезд и открылся вагон, на перрон вышла наша Аля в умопомрачительной белой кружевной накрахмаленной шляпке, которую ей связала Танина мама тетя Шура. А еще сестра сказала, что она привезла сюрприз, но какой, мы узнаем только дома. Шли пешком, очень долго. Я изнемогала от любопытства. Дома Аля достала коробку, в которую были упакованы пирожные в виде грибов – красноголовиков, которые тоже испекла тетя Шура.

Аля очень хорошо училась в школе, была активной и дисциплинированной. Мне, ее младшей сестре, приходилось соответствовать, потому что учителя нас всегда сравнивали. Но меня это нисколько не напрягало, я тоже была прилежной школьницей.
Когда она поступала в Караваевский институт, все экзамены сдала на «отлично».


Аля выбрала профессию агронома. В то время работа в сельском хозяйстве имела оттенок романтизма, сельские жители чувствовали себя востребованными и нужными. Деревня жила! Вот стихи моей старшей сестры, написанные в юности.
Церкви куполок приметный,
Три березы вдалеке,
Да пригорок чуть заметный
Часто-часто снятся мне.
Оттого и сердцу грустно,
И тревожно на душе,
Что хожу тропинкой узкой
Только в гости – налегке.
***
Все село побелено –
В пуховом снегу.
Светятся квадратики
Желтые в дому.
Струйка дыма тянется
Кверху над трубой,
Тропочка знакомая
Манит за собой.
И березка ласково
Светится стволом,
Звездочка знакомая
Встретит над крыльцом.
Почему так дорого
Снежное село?
Детство здесь оставлено
Милое мое!
***
Стрекочет комбайн в поле,
Шагает сквозь спелую рожь.
И кажется поле морем
В прохладе июльских рос.
С утра снуют хлопотливо
Машины, народ, трактора.
Идет на полях торопливо
Уборки большая страда.
Клуб
Центром жизни села был клуб. Сначала он располагался вместе с библиотекой. Я даже помню, как ходила смотреть кино туда. Переносная киноустановка, на стене – белая ткань.
В библиотеке я была постоянным посетителем и читателем. Научившись читать, я уже никогда не расставалась с книгой. Так как наш дом находился от библиотеки через дорогу, я всегда была в курсе, открыта ли она сегодня. Ориентировалась на входную дверь.
В 60-х годах к библиотеке пристроили деревянное здание клуба. Клуб начинался с фойе – просторного помещения, из которого одна дверь вела в зрительный зал, а другая в большую комнату с бильярдным столом. Здесь же было рабочее место заведующей клубом. На столах – настольные игры, газеты и журналы. Этот зал украшали два высоких старинных зеркала типа трюмо. Деревянные резные элементы зеркал были окрашены в черный цвет.

Клуб отапливался круглыми железными печами. Зимой в зрительном зале было очень холодно. Но не смотря ни на что, из клуба нас было не вытащить.
Каждый день, кроме четверга (выходной), показывали фильмы. О том, какой сегодня фильм, извещала деревянная афиша, написанная завклубом Ольгой Николаевной Костровой. Иногда было два фильма – детский в пять часов вечера и взрослый в семь в зимнее время (летом соответственно в шесть и в восемь). Детский билет стоил пять копеек, взрослый десять. Двухсерийный соответственно десять и двадцать копеек. Иногда на афише появлялась надпись «Дети до 16 лет не допускаются». В фойе клуба каждый месяц вывешивался репертуарный план, в котором фильмы расписывались по дням.
Мы, дети, проводили в клубе много времени. К каждому празднику Ольга Николаевна готовила с нами концерты художественной самодеятельности. Обязательным элементом концерта был тематический литературно-музыкальный монтаж. Конечно, уровень наших выступлений не был высоким. Стихи мы учили и старались читать с выражением, а вот пели, как получится. Никто не занимался с юными артистами тонкостями пения. Но делали мы это от всей души. Например, на концерте в честь Дня Советской Армии исполняли «Песню о Щерсе», «По долинам и по взгорьям», «Красная армия всех сильней», «Дан приказ ему на запад». В разное время у нас были музыкальные руководители, которые играли на баяне: Маргарита Виноградова, Анатолий Романов, Игорь Коновалов. Они жили в Галиче, ходили на работу по вечерам, по бездорожью.

Готовили мы и сценки, с удовольствием разучивали роли. Однажды даже целый спектакль подготовили.
Ольга Николаевна исполняла роль конферансье. И обязательно рассказывала какой-нибудь юмористический монолог из журнала «Культурно-просветительная работа». Однажды к нам на практику приехали студентки из Костромского культпросветучилища. С ними было очень интересно. Они занимались с нами танцами, художественной декламацией.
Кроме нас, детей, в концертах принимали участие и взрослые. Помню замечательные выступления Надежды Александровны Тихомировой, которая пела русские народные песни и романсы.
С концертами мы выступали не только в нашем клубе, но и на ферме, и перед механизаторами, ходили на пивзавод, ездили в Дмитриевское.
К нам с концертами также приезжали коллективы художественной самодеятельности из Челсменского и Дмитриевского клубов, общества слепых, педучилища, народного театра из Галича.
После концертов и по праздникам были танцы под проигрыватель, позже под магнитофон.
Я помню, что за клубом был деревянный помост – танцплощадка. Вокруг росли деревья – тополя, березы. В моем детстве это место называли клубным садом. Очевидно, там действительно был сад или небольшой парк. В том, как располагались деревья, прослеживался определенный порядок. Здание библиотеки до революции, очевидно, принадлежало небедной семье. Помню, что называлась фамилия Ледневы. Кем они были, какова их судьба, не знаю.
Поколения детей сменяли друг друга. А Ольга Николаевна Кострова, казалось, будет всегда. Но пришла старость, лихие перестроечные времена. Поменялись ценности, пришли новые руководители. Очаг культуры в нашем селе совсем одряхлел. В актовом зале провалился пол. И однажды перед жителями села оказались руины рухнувшей клубной крыши. Приехало начальство, приказало строение разобрать. А вместо него пообещало новый современный модульный клуб. Но прошло время, про обещанное уже никто не вспоминает. Некоторое время клуб располагался в каморке при библиотеке… Да и на саму библиотеку без слез не взглянешь… Хотя крышу перекрыли. Вот и стоит в центре села странное сооружение: новая крыша привлекает внимание блеском железа, и хочется отвернуться от уродливо облезлых стен.
Медпункт
Особое место в селе принадлежало медпункту. Он располагался в старом деревянном доме напротив детского сада (сейчас здесь новый жилой дом). В одной половине дома жила семья Куриловых. Другая служила медпунктом. Из холодного темного коридора сразу попадаешь в атмосферу порядка и чистоты.. Помещение делилось на две части: прихожая, где можно было снять верхнюю одежду и посидеть, дожидаясь своей очереди, и непосредственно медицинский кабинет. Там стояли шкафы с медицинскими карточками, медикаментами. Не нужно было по каждому поводу идти в Галич за лекарствами, потому что самое необходимое было. Придя на вызов к больному, фельдшер оставляла таблетки.
Фельдшерами работали Тереза Адамовна Стролис и Татьяна Павловна Хабарова. Тереза Адамовна жила в Михайловском, Татьяна Павловна в Шокше. Прием в медпункте проходил с восьми до одиннадцати часов утра, потом – посещение больных на дому, другая работа. Женщины обслуживали огромную территорию: Михайловское, Лобачи, Лаптево, Богчино, Якушкино, Лебзино, Павлуково и другие окрестные деревни. На своих ногах, в любую погоду они добирались до больных.
Тереза Адамовна обладала высочайшим профессионализмом. Помню, моя старшая сестра Аля вылила на себя только что скипевший самовар. Ошпарила ногу и руку. Ни в какую больницу ее не возили. Тереза Адамовна лечила на дому. Говорили, что она во время войны работала в военных госпиталях. Мужем ее был участник Великой Отечественной войны, учитель физики Шокшанской школы Николай Иванович Горев.
Тереза Адамовна была очень строгой. Она не только лечила, но и следила за санитарным состоянием в округе. Проверяла состояние мест сбора отходов у домов, колодцев, проводила их профилактическую обработку.
Я росла девочкой крепкой и упитанной. Встретив меня на улице, Тереза Адамовна никогда не проходила мимо. Интересовалась, как мои дела, дотрагивалась рукой до моих румяных щек:
– У тебя в одной щечке молочко, а в другой сливочки, - говорила она.
Татьяна Павловна ходила на работу из Шокши. В школу мы выходили в семь часов. Нас часто провожал Петя Курилов, который в школу не ходил по причине умственной отсталости. Зимой он ждал около конторы с большими самодельными санками. Мы складывали в санки свои портфели. У самой Шокши встречались с Татьяной Павловной, Петя обратно шел с ней домой.
Магазин
Местом притяжения сельского населения был магазин. Здание его и сейчас стоит. Со времен перестройки оно несколько раз меняло хозяев. Последний – предприниматель-неудачник магазин закрыл. Стоит теперь этот старинный дом из красного кирпича ста с лишним лет от роду ни в тех, ни всех.

В моем детстве здание магазина наполовину было жилым. На первом этаже жила Ольга Ивановна Хаханова. Я слышала, что раньше весь дом принадлежал Хахановым. А на втором этаже располагался магазин сельпо. Чтобы попасть в торговый зал, нужно было взойти на крыльцо, подняться по довольно крутой лестнице, войти в дверь, пройти через коридор, свернуть налево – и вот ты в магазине. Он был условно поделен на две части: справа за прилавком –продовольственные товары, слева, тоже за прилавком – промышленные.
В годы моего осознанного детства (я подчеркиваю – детства) в нашем магазине можно было купить многое. Я представляю скепсис современного подростка: подумаешь, магазин! Это сейчас мы избалованы изобилием, красивыми упаковками, яркими обертками. А в конце 60-х. – начале 70-х. г.г. прошлого века все было скромно. Если учесть, что со второй половины 70-х. началась эпоха тотального дефицита, закончившаяся к началу 90-х. полным крахом экономики и смертью СССР, то в описываемый мной период мы жили хорошо. Правда, встает другой вопрос: а все ли было по карману? Конечно, нет.
Что продавалось? Конечно, хлеб. Ежедневно, кроме выходных, специальный человек на лошади (зимой на санях, с весны до осени на телеге), ездил в город на пекарню. Хлеб грузили в специальный ящик-фургон. Позднее лошадь отменили, хлеб стали возить на совхозном грузовике. Привозили ржаной хлеб по 14 и 18 копеек, батоны по 13, 16 и 25 копеек (иногда с изюмом). Изредка были французские булочки по 6 копеек, щедро посыпанные сахарным песком и пропеченные до румяной корочки. Иногда продавали свежие бублики с маком, которые также стоили 6 копеек.
Иногда хлеб запаздывал. В теплое время года люди ждали на улице, в дождь заходили на лестницу. Хлеба брали много. Семьи были немаленькие, да и скотину подкармливали. Помню, что два батона и три буханки были ежедневной нормой для нашей семьи. Вообще, стоять в очереди было очень интересно. Как говорится, «греешь уши». Слушаешь разговоры взрослых, делая вид, что тебе безразлично.
За прилавком – коробки с печеньем, пряниками (не больше рубля за килограмм), головки сыра красного и желтого цвета, банки с консервами, тушенкой, сгущенным молоком, сгущенными сливками, сливочное масло – соленое, несоленое, шоколадное по 3 рубля 60 копеек за килограмм. А еще на полках пирамидами стояли маленькие брикеты с кофе и какао. Только в нашем детстве был такой полуфабрикат – небольшие кубики примерно 5 см, по 11-12 копеек, с удивительно вкусным содержимым внутри. Покупали и грызли вместо конфет. А бабушка варила нам из этих брикетов кофе и какао, было очень вкусно.
Годами на полках пылились большие, оплетенные бутыли с вином. По-моему, их никто никогда не покупал. Зато большим спросом пользовались дешевые красные вина (стоили около рубля). Изредка в магазин привозили пиво, лимонад, квас в стеклянной таре. Подсолнечное масло разливали из металлических бочек. Крупы, макароны, сахар, муку паковали в самодельные мешочки, которые приносили с собой покупатели. В каждом доме был запас таких шитых, с завязками мешков разных размеров. В магазине были бумажные упаковочные пакеты серо-зеленого цвета, которые тогда казались некрасивыми и грубыми. В них продавец упаковывала небольшие весовые покупки. Иногда нам покупали импортный компот «Ассорти» (Болгария или Венгрия). В стеклянных или металлических банках лежали очищенные, порезанные на ровные дольки яблоки, груши, персики. Как это было вкусно!
Кто-то из моих внуков, прочитав мой восторженный рассказ о сельском магазине, скорее всего спросит или подумает: и что такого? Обычный магазин. Но только тот, кто жил в эпоху всеобщего дефицита и пустых магазинных полок, меня поймет. Такое изобилие в сельском магазине наблюдалось в годы восьмой пятилетки (1966-1970 г.г.). Это было время, когда в стране и в промышленности, и в сельском хозяйстве началась масштабная экономическая реформа (1965 г.). И на первых порах она показала свою эффективность. А потом реформа сошла на нет и полки наших магазинов становились все беднее.
В осенний сезон завозили виноград и арбузы. Арбузы нам покупали на картошку. Магазин закупал ее у населения. Папа увезет 2-3 мешка, а на вырученные деньги покупает несколько арбузов (десять-двенадцать копеек за килограмм).
Но самым притягательным местом для меня была закрытая стеклянная витрина с шоколадными конфетами. В витрине в вазочках лежали «Каракум», «Трюфели», «Южанка», «Озеро Рица» и толстенные плитки развесного шоколада. Самыми дорогими конфетами были «Каракум» (около шести рублей) и «Трюфели» (около восьми). Ими я обеспечивала себя сама. Все было просто. Нужно было отыскать пустую бутылку из-под водки или вина. Четвертинка стоила девять копеек, поллитровая двенадцать, а «бомба» (750 мл) – семнадцать копеек (но они появились позже). Пустые бутылки никто не раскидывал, их сдавали в магазин за деньги. Например, механизаторы, накопив их в гараже, сдавали мешками и снова покупали спиртное. Дома алкоголь покупали очень редко и, конечно, от меня бутылки не прятали. Так вот, зажав в руке заветную стеклянную тару, бегу в магазин и на вырученные деньги получаю или две каракумины, или одну трюфелину плюс одну-две ириски. А того шоколада я так и не попробовала.
В сельском магазине можно было купить все – от иголки до мебели и мотоцикла. Многие брали товары в кредит (ставка была неизменной – 12%).
Магазин был местом притяжения. Особенно оживленно в нем становилось в дни выдачи рабочим совхоза аванса или зарплаты, а также, когда завозили свежий товар. Магазин на некоторое время закрывался, люди в ожидании толпились на улице, а потом с удовольствием делали покупки.
Вот сейчас пишу об этом и вижу людей, моих односельчан, многих из которых уже давно нет в живых. Почему-то всегда, когда моя память уводит меня в эти отрадные минуты, я вспоминаю дядю Володю Пламса.
О нем я практически ничего не знаю. В памяти сохранились какие-то отрывочные сведения. Воевал, говорили, что был в плену. У него была семья – жена тетя Маня Голубева, два сына (один из них, дядя Саша Пламс, с семьей жил в Михайловском, другой в Галиче), были внуки. Но почему-то он мне всегда казался одиноким. Это был странный человек. Он казался мне стариком, хотя лет ему было где-то за пятьдесят. Одетый зимой в ватные брюки и фуфайку, а в теплое время года в спецовку, он в одиночестве шел по улице по направлению к магазину. Нет, неправильно я написала, что в одиночестве. Его всегда сопровождала собака. Довольно крупная, черная, лохматая, никогда нечесаная и немытая, с засохшими сосульками грязи, и, видимо, довольно пожилая. Собаку дядя Володя называл Сиси (ударение на втором слоге). Она спокойно шла рядом с хозяином. Время от времени он останавливался, ставил объемистую потрепанную хозяйственную сумку на землю и начинал «играть на балалайке». Конечно, никакой балалайки в руках у дяди Володи не было. Просто он сгибал левую руку, которая ему служила музыкальным инструментом, а пальцами правой руки «играл» на невидимых струнах. Во время таких остановок Сиси сидела рядом и терпеливо ждала. Подойдя к магазину, дядя Володя оставлял собаку на улице. Если магазин был почему-то закрыт, мужчина с собакой всегда стояли в стороне. Я никогда не видела, чтобы дядя Володя с кем-то общался. Когда подходила очередь, он покупал много хлеба. Я и сейчас слышу его глуховатый голос: «Три буханки аржаного…». Складывал хлеб в сумку, выходил на улицу, где его дожидалась собака, и пара шла домой, иногда останавливаясь на «музыкальную паузу».
Дядя Володя работал плотником в папиной бригаде. Папа всегда относился к нему с уважением. Так и жили…
Освободите сердце для любви,
Гоните прочь обиды и досаду.
И рвите с корнем жадности рассаду,
Освободите сердце для любви!
Пустите в сердце благость и добро
И равнодушие в себе искорените,
Найдите свою душу, разбудите,
Почувствуйте в себе её тепло.
Прощение впустите в свою жизнь,
Простое, бескорыстное прощенье,
И постарайтесь жить без сожаленья,
Что кто-то вас когда-то не простил…
Откройте разум свой для красоты,
Но только не гламурной чуши в блёстках,
А милым сердцу солнцу и берёзкам,
И не стесняйтесь собственной мечты.
Не дайте шанс предательству и лжи
Войти и тихо в сердце поселиться,
Чтобы потом внезапно проявиться,
Когда возникнут страха миражи.
Найдите свою веру на земле,
Поверьте своей собственной надежде,
И не судите человека по одежде,
Не все живут в уюте и тепле…
Любовь впустите, пусть она придёт,
Пусть светом ваши души наполняет,
Конечно, легче жизнь, увы! – не станет,
Но так – хотя бы смысл приобретёт…
Геннадий Дормидонтов
Мария Барыкова
Из истории михайловской семьи Василисиных:
Моя бабушка – половина моего «я»
Бабушка – это не только уже половина моей жизни, но и половина моего «я». А может быть, и больше, потому что все интеллектуальные и духовные впечатления мира так или иначе связаны с ней. Я – «бабушкина внучка» от начала и, наверное, уже до конца.
Первые пять лет моей жизни связаны только с бабушкой; родители проходят легкой тенью праздников или наказаний, практически не влияющей на созревание души. Это и немудрено, потому что они жили в Мурманске, а я с бабушкой – в Ленинграде. Но Ленинград стал ее родным городом позже, а началось все…
Моя бабушка Александра Ивановна Соболева, урожденная Василисина, родилась 9 октября (26 сентября по ст.ст.) 1906 года в селе Михайловском Галичского уезда Костромской губернии, где до сих пор живут правнуки ее сестры. Семья была по деревенским меркам не очень большая – родители, три сестры и брат – и не очень бедная. Отец, – Иван Григорьевич (1865-4937), -считался
«питерщиком», то есть занимался отхожим промыслом, на всю зиму уезжая в Петербург, где традиционно для жителей уезда занимался малярными работами. До сих пор стоит на Средней Подьяческой трехэтажный домик с трогательным фронтончиком на втором, где дед живал в свое пребывание в Питере. Работал он десятником, трудился честно и быстро стал доверенным лицом своего патрона. Все поношенные вещи «с барского плеча» переходили деду, отчего и дети его в деревне щеголяли в прюнелевых ботиночках и шелковых юбочках.
Питер открыл ему не только достаток, но и культуру: он сделался завзятым книгочеем, выписывал журналы, книги. Так что бабушка росла, как она говорила, «меж сундуков с книжками». Дед был высокий худой бородатый весельчак, любивший всех детей и лошадей без разбору.
«Дедушка Иван, посади меня в карман!» – кричали ему. Мама моя обожала деда, и его смерть стала для нее одним из сильнейших психических потрясений; он часто виделся ей в полях идущим с протянутыми к ней руками. Мать бабушки – Любовь Александровна, урожденная Коровина (1875-1964), – была человеком строгим, замкнутым, богомольным, и я еще помню тот детский ужас, когда она, давно ослепшая, выходила погреться на солнышко неподвижная и черная, как статуя. Я еще помню свое чувство страха перед этой закаменелостью и, главное, слепотой. Но это было уже года в три, а, будучи годовалой, я по письмам бабушки – любила прабабку какой-то странной, страстной любовью, требовала обязательно давать ей часть моего кушанья и тянулась к ней нежно. Значит, что-то было в ней притягательное… Но эта столь различная пара как-то уживалась, несмотря на постоянные розыгрыши мужа и суровую аскетичность жены. Вышла прабабушка замуж шестнадцатилетней, но первые десять лет детей у них не было. Прадед же был совсем не прочь и выпить, и загулять, так как деньги водились. Но через десять лет прабабка не выдержала и потребовала, чтобы муж завязал; тот, любя жену, согласился, и Господь тут же послал им младенца. Больше прадед спиртного так в рот и не брал и не курил.
Брат Григорий, обожаемый всеми сестрами и матерью, умер очень молодым от тифа, вернувшись с первой Мировой, и по рассказам у меня в памяти осталась только его веселость и огненная рыжина.
Старшая сестра, Татьяна, моя крестная, всю жизнь прожила в каторжном труде ради родителей, потом сестер, потом их детей и внуков, и осталась, как говорится, «Христовой невестой», поскольку жених ее был убит в первые дни германской. Невысокая, сгорбленная, с простым лицом в ореоле разлетающихся пепельных волос, это была не женщина, а какой-то живой сгусток добра и бескорыстной любви, и, пожалуй, это единственный человек, встретившийся мне в жизни, про которого я твердо могу сказать – святая. «Ангел мой, сохранитель мой…» – когда я произношу эти слова, впервые услышанные от нее, то всегда в виде ангела вижу ее, Тату…
Младшая, Анна, была красивой, с надменным восточным лицом, с фигурой девушки даже в семьдесят лет, но закрытой и капризной. Бабушка всегда ее опекала и над ней начальствовала, а я побаивалась, как строгую учительницу, которой она всю жизнь и была.
Бабушка же, средняя, с самого начала была в семье на особицу, умница и книжница. Отец отдал ее в церковно-приходскую школу, и она постоянно пела в церковном хоре. Правда, взяли ее туда не за голос, которого не было вовсе, а за ангельский вид золотых кудрей, которые батюшка любил гладить, надолго задерживая на них свою руку.
Учение и церковь не мешали ей верховодить и в ребяческих играх, за что она получила не очень доброе прозвище Конур. Отец ее баловал, сестры подчинялись, она мечтала учиться дальше.
Революция открыла ей среднюю школу, которую бабушка окончила в 1923 году, потом учительские курсы в уездном городе, потом преподавание в школе. Кожаная куртка, стоптанные сандалии, косынка на остриженных, но все равно кокетливо и упрямо выбивающихся кудрях и сплошная страсть к делу, к детям, к ликвидации безграмотности, к чтению, к самоусовершенствованию, наконец. Она по-прежнему выделялась среди учителей, как раньше среди семьи. Увы, не знаю, была ли она комсомолкой, наверное, да, потому что смутно помню ее рассказы про раскулачивание, обрезы, погибших юношей. И все-таки, несмотря на все увлечения того времени, было в ней нечто иное, даже не столько утонченное, сколько страстное стремление к высшей правде, высшей честности. И, может быть, из-за этого на нее обратил внимание мой дед – Павел Соболев – один из девяти детей бывших помещиков недалекого – 25 верст – имения Готовцево. Ему только что исполнилось двадцать пять лет, но он уже прошел неудачную женитьбу, неудачную гражданскую войну, расколовшую его семью и его душу, он только что вернулся из Туркестана и, как все Барыковы (а он был Барыков по матери), отличался романтизмом, крайностями и непоследовательностью. Впрочем, я надеюсь, что собственно о деде я еще напишу роман.
Их знакомство началось осенью двадцать четвертого года, когда бабушка стала учительницей в Готовцеве. Школу эту открыл еще мой прапрадед в 1873 году, потом, за неимением учеников, она закрылась и была открыта уже только после революции.
Бабушка преподавала в средней школе, уча детей, как показывают ее многочисленные записи и конспекты, арифметике, географии, геометрии, обществоведению, русскому языку и этимологии.
Она, как положено, снимала крошечную комнату при школе, всеми силами стараясь сделать ее уютной. При ее вечной безбытности, я думаю, вряд ли из этого что-то выходило, но, вероятно, витало в этой светелочке нечто, притянувшее деда. Быть может, после ужасов Туркестана, откуда он только что вернулся, все, связанное с мирной жизнью, казалось ему милым, а может, его легкий праздничный дух инстинктивно тянулся к своей противоположности.
И вот 11 октября 1924 года после упреков себе в неподготовленности уроков, бабушка записывает в дневнике: «Вчера поздно вечером был Павел Петрович с Михаилом Павловичем и весь вечер спорили, о чем, не знаю. Задавали массу тем и ни одной не кончили. Славный этот Павел Петрович, какая сила воли и характера, как смешон этот тряпка Михаил Павлович. Один – идеалист, а второй – материалист до мозга костей… Много можно было бы еще написать, но лень. Беру Гете и ложусь читать». А 13-го числа на страничке, посвященной совсем иному, появляются буквы с красивыми росчерками «П.П., П.П., П.П..,».
И еще через неделю: «Как нравится мне этот П.П., как жалко его, он кажется таким несчастливым в жизни. А мне всегда так хорошо, легко с ним…» Дальше П. П. посвящены уже целые страницы. «Мне ничего не казалось невозможным по отношению к нему, потому что я в нем видела только много и глубоко страдавшего человека.
Может быть, моя несмелость зависела от того, что я боялась ему наскучить, надоесть, показаться навязчивой. Не знаю. Во всяком случае, я никогда не боялась, что он полюбит меня, тем более, что еще раньше у меня сложилось такое представление о себе, что «ни один мужчина не может полюбить меня, ведь я некрасива, неинтересна и никогда не смогу понравиться». Идет густо вымаранный кусок. «И вдруг мы сидели с ним утром у меня в комнате, он принес мне какие-то свертки из дому, болтали разный вздор, и мне захотелось узнать, отчего он так грустит и почему в последнее время у него такой убитый вид. «Влюбился», – отвечает он. У меня как-то неестественно от злого предчувствия сжалось сердце. «В кого?» – еще со смехом спросила я, и тут… тут он сказал, что любит меня. Я испугалась, пыталась не верить, обратить все в шутку, я боялась…»
В восемнадцать лет бабушка уже была сверхтребовательным к себе человеком; она долго металась и мучилась, опасаясь оказаться недостойной своего Павлика. Она то соглашалась, то отказывала, то чувственно поддавалась на ласки, то в ужасе отшатывалась. Однако дед, несмотря на свою небрежную веселую легкость, умел быть и несгибаемым. Наконец, бабушка написала ему письмо, где еще наполовину по-детски попыталась хотя бы как-то выразить разрывавшие ее сомнения.
«Павлик! Ты спрашиваешь, почему я печальна, задумчива. Милый мой, сказать ли тебе: «Я боюсь»? Чего? Боюсь моей жизни с тобой. Боюсь, что ты скоро раскаешься, назвав меня своей. Вот сейчас у меня так больно сжалось сердце, когда я была у тебя в доме с твоей матерью. Смотри, Павлик, проверь себя, хуже будет, если ты загубишь свою жизнь. Правда ли, что ты любишь меня? Любишь верной, крепкой любовью, любишь не женщину, а человека? Меня смущают твои поступки, твое поведение со мной; и после наших расставаний все мое существо охватывает страх, безотчетный, но тяжелый, гнетущий страх теперь не за себя, а за тебя. Я всегда буду винить себя в твоем несчастьи, в том, что не сумела оттолкнуть тебя вовремя. Мы ничем не связаны, Павлик. Оглянись хорошенько на себя, ведь страсть пройдет, а перед нами – длинная-длинная жизнь.
Я не хочу, чтобы ты после проклинал меня.., Знаю, что ты ответишь – «Шура, я не ребенок!» Знаю и потому так спокойно доверяюсь тебе. Но ведь ошибки так возможны во всяком возрасте. Не смущайся тона моего письма, он вызван боязнью твоего и своего несчастья. Ты ведь такмало знаешь меня, да и ведь я еще ребенок, как ты говоришь. В начале нашей любви я боялась говорить с тобой об этом, я боялась, что ты разлюбишь меня, но теперь я говорю это спокойно. Помни, что этот ребенок видит в тебе свою опору, своего руководителя, и тебе как очень честному и впечатлительному человеку тяжело будет разбить его жизнь. Тебе многое может показаться во мне неприятным, даже шокирующим. Ведь я простая девушка, мало видевшая жизни, мало знающая людей. Правда, жизнь рано показала мне свою отрицательную сторону, но ведь это было только в нравственном отношении, а в материальном, в повседневно-жизненном – я круглая невежда, мне жить еще надо учиться. Я не могу жить одной личной жизнью, я тебе еще раньше говорила, что меня не удовлетворяют только эти повседневные жизненные мелочи. Моя душа мятежная, вечно ищущая чего-то, делающая меня подчас исступленной. Не оттолкнет ли тебя все это, если у тебя только мимолетное или даже более серьезное, но неглубокое чувство? Мне было бы больно, если б между нами существовала недоговоренность, я вижу, как ты уже сейчас страдаешь от моих «так, ничего…» Но у меня, чуть коснись меня забота или неприятность, вся наружная жизнь замирает, тяжело и грустно становится. А я уже не говорю о тех неприятностях, которые действуют на мозг, а не на душу. Да и, кроме того, ведь я жила в совершенно других условиях, где вся душевная жизнь выходит наружу, я не смогу жить одним рассудком только! И от этого могут получаться неприятные для меня вещи. Кроме того, я очень мнительна, каждая мелочь задевает и глубоко задевает меня. Летом у вас будет много народу из совершенно чуждой мне среды. Весьма возможно, что я буду делать много промахов и ошибок, я еще не жила в такой семье. А те лица из ваших, которых мне приходилось встречать, заставляли меня только глубже замыкаться. Не заставит ли тебя это страдать за меня и не поселит ли это вражды в наши отношения? Если ты надеешься встретить во мне хорошую хозяйку, спокойную и рассудительную, то ты ошибаешься, я сущий профан в хозяйстве. Так много еще во мне различных смутных мечтаний, жизнь еще только коснулась меня, и я не изведала многого, и тебе придется руководить и много повозиться со мною. Видишь, я все говорю тебе прямо и прошу тебя, милый, раньше, чем я буду твоей, взвесь все и не решай под влиянием страсти, и не разбей свою так много и без того вынесшую страданий душу,и мою, еще такую молодую, доверчиво отдавшуюся тебе. Шура».
Однако 17 марта 1925 года бабушка записывает всего лишь два слова: «Я люблю и любима». Все шло к свадьбе. Но что происходило в ее душе, осталось только в маленьком дневнике, писанном за несколько дней и даже часов до свадьбы. Это – удивительный документ. Отчего же мучилась и страдала восемнадцатилетняя простая девочка, любимая и любящая?
«Так безотрадно рисуется мне моя жизнь. Безотрадное прошлое и настоящее, без идеи, без мечты. Только проза жизни, тяжелая, угнетающая… Разве, воспитывая детей, так доверчиво отданных мне, я не выполняю задуманного? Нет, нет и нет! Опыт каждого года показал мне, что это невозможно. Нельзя отдать себя тому, о чем не имеешь понятия. Жизнь заест меня. Город! Бездушный, громадный, тяжелый, он не прельщает меня, но кажется чем-то далеким. Господи! Помоги мне, я верю, что ты есть, что ты видишь мои страдания. Что делать, что делать? Он не поймет меня. Павлик! О, как бы я рада была, как еще больше полюбила бы тебя, если б ты, прочитав это, сказал, что понимаешь меня, и облегчил мои страдания. Бросить все… забыть… иной раз так легко это покажется, но не видеть твоей ласки, твоих поцелуев, не видеть твоего лица, знать, что ты страдаешь где-то один. Это выше моих сил. Я исковеркаю, изломаю свою жизнь…»
И это пишет счастливая невеста. И еще: «Последние минуты моей девичьей жизни. Сегодня, через несколько часов, я буду женой Павлика. Милый мой! А думы-то одна другой безотрадней. Бедность адская. Мне стыдно прийти к ним с моим имуществом. А мелочи хозяйства уже и сейчас отравляют, светлое чувство. Ух, как страшно однако. Но нет, не нужно! Я молода, здорова, любима, что же еще? Что-то будет, что-то будет, не придется ли впоследствии проклинать эти спокойные, светлые минуты. Скорей бы, скорей проходили эти несносные часы, скорей бы приходила радость моя!» И подпись уже обеими фамилиями – «Шура Василисина-Соболева».
В этих строчках уже так много от последующей бабушки: и безбытность, и болезненная честность перед собой, и постоянная собой неудовлетворенность.
Они поженились светлым днем 17 апреля 1925 года, в дедушкин день рождения по старому стилю, когда «солнышко будто смеялось из-за тучек», и он привез ее, учителку и крестьянку, в свое имение. Готовцево принадлежало его матери, тоже Александре Ивановне, Барыковой и не было отобрано благодаря заслугам братьев – Сергея, члена бомбистской группы Бориса Савинкова, и Всеволода, известного эсера и народника.
Впрочем, не обошлось и без ее личных связей; сестра ее в молодости сидела какое-то время в одной камере с Верой Фигнер, печаталась в либеральной прессе и дружила с Чертковым и Засодимским.
Александра Ивановна, оказавшаяся теперь Александрой Ивановной-старшей, была дама строгая и вела семью железной рукой. Родив одиннадцать детей, она сохранила осиную талию (ее корсет не застегивался на мне, семнадцатилетней и очень тощей), курила одну папироску за другой и смотрела на очередную невестку, поджав тонкие губы. Она была «вещью в себе» и оставалась такой, когда один за другим гибли ее мальчики: от туберкулеза, тифа, НКВД…
Сама она умерла в сорок втором году в Москве, куда уехала к своей сестре Надежде Нарбековой, одинокая и гордая, всю жизнь страдавшая от того, что, будучи столбовой дворянкой, записанной в Бархатную книгу, совершила мезальянс, выйдя за неродовитую неровню.
Впрочем, детьми всегда занималась не она, а ее сестра, поклонница «примерного сельского хозяйства по последним достижениям науки» Ольга Ивановна, которую дед называл мамой. Вероятно, заглядывали и средний брат Сергей (бомбист) с женой Надеждой, тоже эсеркой, теперь после Нерчинска, полюбившие отдыхать в Крыму. Часто приезжала и старшая дочь Елена, бывшая замужем за известным по всему Поволжью хирургом Иваном Виноградовым. Порой летом, когда съезжалась вся родня, за стол садилось по восемнадцать человек; землянику и молоко ставили ведрами… Словом, старый дом был насквозь пропитан и современной жизнью, и историей.
И бабушка попала в этот дом, окруженный сиренями, прудами, парком, соседствовавшим с удивительной красоты храмом начала восемнадцатого века. Приняли ее, несмотря на опасения, хорошо; бабушка пишет о свекрови, как о «славной», семью называет «милой», а мужа «смелым, честным, славным». Она была покорена бытом, в небогатых дворянских семьях практически мало изменившимся в первое послереволюционное десятилетие, культурой, взаимоотношениями.
Ольга Ивановна рассказывала ей семейные предания (увы, объемная тетрадь с ее записями потерялась при переездах перед войной) и незаметно воспитывала, как воспитала всех своих племянников. И было юное счастье, со смехом ночами, со сливками на высокой террасе, с по-детски украденными из буфета конфетами, с малиновым звоном кавалерийских шпор… Дедушка, будучи сам человеком безудержным, обожал свою юную жену, в трехчасовой разлуке строчил по три письма, что, впрочем, не мешало ему и подтрунивать, и шутить, и даже порой строжить ее. Бабушка же привыкала к новой жизни, писала небольшие рассказы, печатавшиеся в «Учительской газете», работала, ее не забывали и бывшие ученики, славшие трогательно-безграмотные, но удивительные по искренности послания.
Но все сохранившиеся письма бабушки той поры полны не только первой, еще застенчивой и робкой, любовью, но и жаждой стать лучше – для своего Павлика, для людей, для мира. Для мира, пожалуй, даже больше. И стремление это в бабушке оставалось неизбывно до смерти. Но страдать бабушка все же не перестала; теперь ее мучил то предел возможной откровенности между близкими людьми, то вопрос, насколько же «мысль изреченная есть ложь».
По этому поводу между ней и дедушкой происходили долгие сцены. «Я не могу ясно, твердо и отчетливо установить свою мысль. А когда эта мысль выражена вслух и касается нас обоих, то вслух я начинаю подыскивать ее течение – а он сбивает меня, и мысль всегда принимает тот оборот, какого ищет его душа…» Порой бабушка обижалась до слез, убегала в парк, незаметно переходящий в лес, и засыпала там на каком-нибудь пне, а весь дом во главе с перепуганным всерьез дедушкой искал ее.
Вообще же, дед, по работе часто бывавший в разъездах и неизменно пользовавшийся вниманием женщин, всегда писал ласково, шутливо, безалаберно, беспроблемно, лихо подписываясь как-нибудь вроде «Твой Павлушка-балбес» или «строгий муж».
Он, несчастный в первом браке, очень хотел ребенка, но у бабушки было два выкидыша – как оказалось, из-за того, что дедушка в юности, как большинство Дворянских отпрысков, переболел все-таки гонореей. Но, к счастью, бабушкин организм справился, она забеременела в третий раз, и все послания дедушки в это время полны заклинаниями на страницу беречь себя, не бегать, в санях быстро не ездить, не работать и, главное, не грустить. Пользовал ее в то время Виноградов, которого бабушка панически стеснялась, но который два года спустя только чудом спас маму от дизентерии.
Осенью 27 года родилась мама – девочка Ольга, по-домашнему Лялечка. Роды были тяжелые, и ребенка бросились баловать, как истинно дворянское дитя. Шились неимоверной красоты пеленки, вышивались серебряной нитью из сундуков распашонки, заказывалось в Галиче полотно. Заклинания дедушки и впрямь подействовали: мама на всю жизнь оказалась легкой и веселой, лукавой и безалаберной, отчего бабушка страдала, а дедушка, навер-ное, был бы по-настоящему счастлив.
В то время дядька дедушки Всеволод налаживал в Костроме музейное дело, приезжая, много и увлеченно говорил об этом, и бабушка увлеклась созданием музея быта, собирая по еще неразоренным имениям вещи.
Дедушка же с наслаждением, по старинной орфографии записывал: «От г-жи Врублевской – дамскiя рубашки вышитые гiпюром, от г-жи Кутеповой – столикъ тюрет, от Куломзиной – прошвы и подушки, шитые шолкомъ…» Помимо музея, бабушка собралась поступать в институт, но ни маленькая дочь, ни занятия не могли отвлечь ее от по-прежнему мучительного отслеживания каждого своего внутреннего шага, каждого движения души. «Я не знаю, что делается со мной, Павлик! Как надоело мне все. Вереницей ползут мысли, тяжело-тяжело ворочаются в голове, все раздражает. Я знаю, единственный способ лечения – это физическая работа, но ведь я урод, я ничего не умею… Мне страшно, Павлик, рутина жизни, которой я так боялась, втягивает меня. Я боюсь ее. Я знаю, она отнимет у меня дарование, и даже эти свои муки я боюсь потерять и превратиться в толстую, обрюзгшую, ленивую бабу. О, как это мучит меня. Ничего не хочется. Да, я знаю, отчего это происходит – потому что я жалкая посредственность с претензиями на – даровитость, Да и просто – глупа… Я боюсь сойти с ума. Сначала апатия, полное отсутствие желаний, бездумье, а потом… Нет, не хочу!»
К счастью, дедушка, легкий, летящий, на первый взгляд, поверхностный и легкомысленный, а на самом деле – испытавший в жизни гораздо больше боли, чем его юная жена, и знающий цену радости жизни, ее уравновешивал. И он часто отвечал ей стихами, то своими, то чужими.
«Дорогая Шурочка, посылаю тебе календарь, платок, баранки, – беззаботно писал он, – и стихи.
О, не ищи с безумною мечтой
Ты в жизни, друг, напрасно идеала,
И берегись, чтоб болью и тоской
Душа твоя обмана не узнала…»
Вообще, стихов в их письмах очень много; помимо собственных, почему-то, в основном, незамысловатых и малоизвестных. На какое-то время они успокаивали бабушку, но потом ее мятущаяся душа вновь падала в бездны самоупреков и предчувствий. То ей хотелось «быть свободной своей любовью», то казалось, что она только
«разжигает в муже пламя страданий и погубила его», то опасалась у него чахотки. И все же, несмотря на каждодневные страсти, обиды, боль, это была счастливая жизнь, которой было суждено оборваться слишком скоро. Еще когда Лялечке исполнился год, дедушка за столом в ответ на бабушкины опасения о чахотке звонко рассмеялся и пошутил, что непременно к весне умрет. Однако он не дожил даже до Рождества. Ольга Ивановна, всегда по-христиански привечавшая всех странников, оставила в доме богомольцев, принесших тиф. Заразился один только дедушка и спустя неделю в середине декабря умер, несмотря на старания врачей и родных. На смертной фотографии он лежит совсем юный, красивый, с недоуменно подмятыми летящими барыковскими бровями…
В двадцать два года бабушка осталась вдовой с годовалой дочкой. Она полгода не могла даже плакать и долго болела так, что опасались за ее жизнь. Не желая отдавать внучку, ей предлагали остаться в Готовцеве навсегда, но весной, выйдя в поля и сумев, наконец, заплакать, она поняла, что надо начинать другую жизнь.
Бабушка забрала маму и вернулась в Михайловское, взяв с собой любимую дедушкину собаку – кровного лаверака Султана. Или, скорее всего, его взяла Ольга Ивановна, перебравшаяся вместе с ней в деревню, чтобы воспитывать маму. Умирая, дедушка взял с нее клятву, что она не оставит Шуру и Лялю.
Ей было трудно, время наступало голодное, бабушка разрывалась между ребенком, работой, помощью родителям. Правда, маму отдали в местный детский сад, куда, чтобы лелеять ребенка, ушла и бабушкина старшая сестра Татьяна, самоотверженно променяв хоть какие-то колхозные харчи на нищенскую зарплату няньки.
Точно так же она поступила, бросив все и уехав в далекий, чужой и холодный Мурманск с полугодовалой мной. Бабушка жила, отгороженная от мира своим горем, и твердо знала, что женская ее жизнь, распустившись так красиво, увяла навсегда. Вся сила души отдавалась теперь дочке, так похожей на отца легкой прелестью духа и тела. Но оставаться на всю жизнь в деревне она всетаки не собиралась, жажда нового, лучшего была в ней неистребима.
В 1931 году бабушка уехала в Ярославль, где поступила в педагогический институт на литературно-лингвистическое отделение, которое в 1934 переименовалось в факультет русского языка и литературы. И с этого дня началась ее новая, другая жизнь…
P.S.
Александра Ивановна Соболева, ур. Василисина (1906-1985) прожила долгую, тяжелую и очень интересную жизнь. Ярославль, нищая, но веселая студенческая жизнь, бурный роман с преподавателем, сгинувшим после в штрафных ротах…
Судьба отправила её в Ленинград перед самой войной, и на её долю выпало пережить первый, самый страшный блокадный год. Потом два года работы в школах Галича и снова Ленинград, Университет, где она становится проректором по работе с заочниками.
Издательство «Детская литература» и наконец – Издательство Академии Наук, главный редактор. Случилась с ней и большая любовь к человеку всемирно известному, академику…
Круг её общения был чрезвычайно широк: дома у нас есть книжный шкаф, доверху наполненный книгами с дарственными надписями редактору от благодарных авторов. И какие там имена! Ираклий Андроников, Константин Паустовский, Борис Эйхенбаум…
Её обожали подруги дочери, а после и мои однокурсники и одноклассники. До конца дней она всегда была в центре внимания. Но писала только в стол, и это было её единственной невоплощённой мечтой.
Впрочем, я надеюсь когда-нибудь издать её повести…
Галичские известия. 14 апреля 2020 года.
Мария Барыкова
Из питерской истории михайловской семьи Налимовых
Как известно, в конце XIX – начале XX в. огромное количество провинциальных жителей занималось отхожими промыслами в столице, что не только привносило в деревню элементы городской жизни, как положительные, так и отрицательные, но и обеспечивало достаточный доход для содержания остававшихся дома семей. Мне хотелось бы на примере семьи Налимовых – уроженцев села Михайловское, Богчинской волости, Галичского уезда, Костромской губернии – показать, каким интересным и удачным могло оказаться восхождение по столичной социальной лестнице простых крестьян, не имеющих никаких иных преференций, кроме врожденных способностей и деловой хватки.
К середине XIX века семья крестьян Налимовых владела в Михайловском большим пятистенком рядом с храмом Михаила Архангела. Последнее обстоятельство послужило тому, что имя это стало самым распространенным в роду. Как замечает в своих записях краевед города Галича П. А. Смирнов, глава семьи, Михаил Иванович Налимов, не раз был замечен в так называемых «противоправительственных» настроениях, что не помешало ему к концу века отправить двоих из троих сыновей, Михаила и Владимира, в Петербург заниматься традиционным для уроженцев села промыслом – малярными работами.
Начать работать им было, возможно, немного легче, чем другим, ибо к тому времени на малярном поприще уже подвизался их односельчанин и мой прадед Иван Григорьевич Василисин, снимавший на зиму небольшую квартиру в бельэтаже дома по Средней Подъяческой, 7, где братья поначалу и поселились.
В этих места вокруг Сенного рынка традиционно селились производители малярных работ. Именно этим и занялись братья после небольшого периода «служения в мальчиках», подававших ведра с краской, мывших инструмент и выполнявших несложные задания мастеров. Фортуна, благоволившая им сначала в лице Ивана Василисина, позже явила и другого благодетеля – Петра Андриановича Соболева, второго моего прадеда, который в то время состоял членом правления Петербургского союза архитектурно-строительных рабочих, находившегося в Усачёвом переулке, 6 (ныне пер. Макаренко) и, разумеется, помогал землякам, несмотря на свою принадлежность к дворянскому сословию. Потом на улучшение положения сработала и женитьба старшего брата Михаила (1865?-1937?) на девушке из богатого рода купцов Тестовых – Анне Павловне Тестовой (1876-1942). Он и стал первым, сумевшим в 1903 году получить действительно выгодный заказ, легший в основу его дальнейшего благосостояния.
Это был подряд на малярные работы при строительстве Морского Собора в Кронштадте. За эту работу он был пожалован званием потомственного почетного гражданина и получил в награду серебряную шкатулку, внутри которой находилось украшение в виде вопросительного знака из бриллиантов и рубинов.
Кроме того, ему была оказана высокая честь сфотографироваться рядом с императором Николаем Вторым. К сожалению, этот снимок в семейном архиве не обнаружен. Но сохранилась фотография парадного обеда, данного императором подрядчикам.
Это, однако, не помешало обоим братьям в 1905 году участвовать в известной революционной сходке петербургских маляров у дома 55/57 по Садовой улице.
Заказ позволил Михаилу, жившему до этого на съемной квартире в Коломне, приобрести собственный дом на Васильевском острове по 6-й линии, 33 – флигель известного особняка университетского профессора П. П. Фан-дер-Флита (сгорел от зажигательной бомбы во время блокады).
К этому времени в семье уже было четверо детей: Иван (1888-1971), Ефим (18941966), Мария (1902-1996) и Сергей (1904-1981). Все члены семьи были прихожанами храма Благовещенья Пресвятой Богородицы (7-я линия В.О., 68), там же крестили и младшего сына.
До переезда в новый дом семья принадлежала к приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы. Все сыновья Михаила уже смогли пойти учиться в лучшую на тот момент школу столицы – гимназию Карла Мая, а дочь поступила в известную гимназию Шаффе. Причем, если старший сын Иван учился еще на реальном отделении школы, то уже второй, Ефим – на гимназическом.
Оставим старшего брата и перейдем к младшему Владимиру (18701942). Ему тоже везло: женившись на весьма состоятельной девушке из мещанского сословия Ксении Васильевне Портновой (1883-1965), он в том же, 1903 году, купил участок на углу Матвеевского переулка и Большой Пушкарской улицы Петроградской стороны (ныне Большая Пушкарская улица, 42) площадью в 391,28 кв. саженей и сразу же начал строительство собственного доходного дома.
В качестве архитектора был приглашен Густав Густавович фон Голи – гражданский инженер (строитель этого ранга оплачивался ниже, чем архитектор), построивший на Петроградской стороне немало домов и сам живший там же. Помогал строить дом и сын сестры Налимовых Александры (1868-1960), вышедшей замуж за жителя Петербурга Алексея Новинского, – Михаил Новинский (1890-1961), второй муж моей бабушки .
Дом строился по заемному принципу: первый этаж возводился на свои деньги, а второй и последующие уже на деньги желающих купить квартиры на соответствующем этаже. За год дом был построен, оценен в 212899,50 рублей серебром, после чего Владимир тоже получил звание потомственного почетного гражданина и право именоваться «его высокородием».
Доход от сдачи в наем квартир составлял 37800 рублей серебром в год. Первый этаж заняла железная и москательная торговля. Одним из первых обитателей дома стал, по знакомству с Г. Г. Голи, молодой архитектор из Одессы Константин Розенштейн, чей дом с башнями и посейчас привлекает внимание на площади Льва Толстого.
Вскоре к ним присоединился Михаил Чехов, брат Антона Павловича, который пытался создать небольшое издательство, и еще один – Константин Поссе, известный русский математик, академик, профессор университета и автор учебника по дифференциальному исчислению.
Незадолго до Первой мировой войны на втором этаже поселился основоположник петербургского краеведения профессор Иван Гревс, когда-то преподававший в гимназии Шаффе, и недавно окончивший Горный институт будущий известный геолог и палеонтолог Валериан Вебер. Именно в его квартире 22 декабря 1905 г. вышел первый номер еженедельного художественно-литературного и сатирического журнала «Молот». Редакторами были журналист К. И. Диксон и художник Н. Н. Герардов. В квартире № 9 до 1917 г. находилась редакция крестьянского еженедельника – журнала «Голоса деревни», издававшегося А. И. Коростелёвым.
Словом, дом буквально кипел интеллектуальной деятельностью, в которую так или иначе оказывались втянуты и хозяева, что во многом отразилось на их художественных вкусах, образе жизни и стремлении к образованию. Семья Владимира, не имевшего детей, заняла квартиру из 6 комнат на третьем этаже дома; вместе с ними поселился и Михаил Новинский с женой модисткой и матерью. Кроме дома на Пушкарской Владимир владел двухэтажной дачей в г. Луга Петербургской губернии и собственным пароходиком.
Все Налимовы формально приняли революцию и остались в Петрограде-Ленинграде. Во время блокады от голода почти одновременно летом 1942 года умерли Анна Налимова (ур. Тестова) и Владимир Налимов. Ксения пережила блокаду в доме на Пушкарской, а моя бабушка Александра, пережив первую зиму, в августе 1942 г. уехала, сопровождая эвакуируемых детей, в Михайловское и вернулась в Ленинград лишь в 1944.
Дети Михаила Налимова и Александры Новинской – Иван, Ефим, Сергей, Мария, Михаил и Владимир – все получили до революции высшее образование, но, увы, все остались бездетными, и род прервался.
Все они оставили след уже в истории советского Ленинграда. Иван Налимов, еще учась в гимназии Мая (кстати, в одном классе с такими людьми, как художник Кракау, писатель Парланд и епископ Семенов Тян-Шанский) увлекся футболом, в 1907 г. Он стал первым обладателем кубка Петербурга, учрежденного знаменитым издателем Сувориным, и в дальнейшем оставался членом клуба «Петровский». В 1911 он подал документы на юридический факультет Психоневрологического института, но проучился там лишь до декабря 1912, после чего перешел на военную службу и стал портупей-юнкером Николаевского военного училища.
Он участвовал в Первой мировой войне. После революции и до Отечественной войны работал на Путиловском (Кировском заводе), а во время войны и после был инженером городской психиатрической больницы им. Балинского на 5-й линии родного Васильевского острова. До самой смерти любил спорт и активно им занимался, прекрасно рисовал.
Ефим Налимов получил медицинское образование и всю жизнь, за исключением времени Отечественной войны, когда был военврачом, работал врачом-рентгенологом, проживая в родовой квартире на Пушкарской.
Сергей Налимов после окончания школы Мая поступил в институт инженеров путей сообщения по специальности гидротехника. Во время блокады служил в отряде ПВО. Всю жизнь работал во Всероссийском НИИ гидротехники им. Веденеева, защитил кандидатскую.
Ефим Налимов получил медицинское образование и всю жизнь, за исключением времени Отечественной войны, когда был военврачом, работал врачом-рентгенологом, проживая в родовой квартире на Пушкарской.
Но, пожалуй, самый яркий след оставила их сестра Мария Налимова. Перейдя после слияния женских и мужских гимназий в школу Мая, она затем закончила инженерно-строительный институт по специальности архитектура и, будучи инспектором ГИОПа, всю свою жизнь отдала охране ленинградских памятников. Именно ей принадлежит идея укрытия её любимого Смольного маскировочной сеткой, имитирующей парк. А также план снятия, укрытия, а потом и восстановления на прежнем месте коней Клодта на Аничковом мосту. Позже, когда кирху апостолов Петра и Павла на Невском превращали в бассейн, именно она настояла на том, чтобы часовой механизм и два колокола со звонниц были в них же и замурованы – и таким образом спасены для ныне действующего храма.
Мария была блестящим знатоком архитектуры и воспитала множество видных деятелей культуры, в том числе и Ивана Саутова – многолетнего директора ГМЗ «Царское Село». Она дружила и с другими замечательными людьми, например, с правнучкой декабриста Василия Ивашева Еленой Фандер-Флит (1914-1996), а также и с Екатериной Петровной Ивашевой (Кисой), внучкой декабриста (1877-1988), с которой – к моей гордости – она познакомила и меня.
До последнего дня Мария Налимова сохранила острый ум, позволивший ей в 90 лет не только давать уроки французского, но и выучить английский язык настолько, чтобы читать в оригинале Байрона.
Михаил и Владимир Новинские также закончили инженерно-строительный институт. В Первую мировую войну Михаил ушел добровольцем, воевал на Румынском фронте, занимаясь саперными работами; получил звание прапорщика, орден святой Анны и медаль «За усердие».
До войны и после, до 1955 г., Михаил Новинский работал начальником бюро строительного комбината УНКВД Ленобласти. Во время Отечественной войны руководил строительством укреплений на Волховском фронте. Он прекрасно исполнял романсы, писал стихи и, как все представители третьего поколения Налимовых, прекрасно знал немецкий и французский языки. Все это поколение, вместе с Ксенией Налимовой и Александрой Новинской, покоится на Серафимовском кладбище Петербурга.
Так судьба михайловских крестьян оказалась навсегда связанной с городом Петра.
Источники: 1. ЦГИА СПб: Фонд 115. Опись 2. Дело 6651. 2.
ЦГИА СПб: фонд 515. Опись 1. Дело 3213. 3. Адресный справочник СПб. 1913 г. 4. Благово Н. В., Школа на Васильевском острове. Ч. I., СПб, 2005. 5. Благово Н. В., Школа на Васильевском острове. Ч. II., СПб, 2009. 6. Блокада, Памятная книга, т. 21, т. 30. 7. Смирнов П. А., Тетрадь записок о Галиче, 1972, ГАКО, фонд 214. Опись 116. Дело 12. 8. ГАРФ. Фонд. Р-8409. Опись. 1: Дело. 1447 (на материале статьи с редкими фотографиями М. Барыковой «ГАЛИЧАНЕ. КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» – http://www.kmay.ru/pub_files/n143.pdf) А также: https://xn--80alhdjhdcxhy5hl. xn--p1ai/content/galichane-karera-v-sankt-peterburge
Не ты один тропинкой узкой
Ушёл от смуты, суеты
Под мирный кров природы русской,
Где святы травы и цветы.
Желанный край – медвежий угол,
Бальзам души для чудака.
Здесь дух Отечества не убыл,
Бурлит подземная река.
Пока продажные корнеты
За мятным пряником бегут,
Жуют кору анахореты,
Но зёрна правды берегут.
Перо к штыку не приравняешь.
Скорбящим слышен Божий глас.
Напрасно слёзы ты роняешь,
Придя в немыслимый экстаз.
За полосою лихолетья
Так жутко солнышко печёт,
Что никакие междометья
Не принимаются в расчёт.
Но сам Господь слезу уронит,
Прощая всех, кто глух и слеп,
Когда медведь возьмёт с ладони
Тобою выстраданный хлеб.
VIII. Наша малая Родина
в художественной литературе
Светлана Павлова
Светлые воспоминания
Начало зимы было бесснежным. Пасмурные короткие дни казались ещё более мрачными от серых пыльных дорог. Деревья и кусты устало качали тёмными ветвями. Казалось, всё в природе ждало снега, а его не было.
Но однажды вечером, когда декабрь уже перевалил за вторую половину, я, оторвавшись на минутку от домашних дел, случайно заглянула в окно – и ахнула от удивления и неожиданности. Ещё два часа назад на дворе было темным-темно, а теперь всё сверкало белизной. В воздухе в свете фонарей искрились, летали серебряные звёздочки, ветви кустов, словно в сказочном лесу, клонились к земле под тяжестью ослепительно чистого белого наряда.
Я пришла в восторг. Ну, наконец-то! Наконец-то зима укутала деревья, кусты так, что теперь им мороз не страшен. Наконец-то совсем скоро можно будет мчаться во весь дух по сверкающей от солнца лыжне, с наслаждением глотая чистый морозный воздух.
– Мама! Ты только посмотри, какая красота на улице! Мы долго стояли у окна, любуясь чудесным пейзажем.
– Ну вот, скоро Новый год, а потом и Рождество.
Нахлынули потоком радостные воспоминания. Мне вспомнилось детство, светлый праздник Рождества, когда мы всей семьёй ездили в гости в деревню, как ходили рождественским вечером в зимний лес, как было чудесно и весело и нам, ребятишкам, и взрослым.
А как же интересно слушать воспоминания мамы о своём детстве! Снова память приводит её в село Михайловское, куда она, десятилетняя девочка Галя, вместе с мамой и братьями приехала из родного Судиславского района в дом дедушки, Алексея Ивановича Тихомирова. Галя, по характеру добрая, общительная, быстро сдружилась с Михайловскими ребятами. А осенью вместе с новыми подругами пошла учиться в третий класс Богчинской школы.
Запомнилось Гале, как в один из зимних деньков после уроков учительница Ольга Васильевна Краснопевцева сказала ребятам:
– Дети, в этом году наше советское правительство разрешило ставить новогодние ёлки. Поэтому скоро будем готовиться к школьному новогоднему празднику, учить стихи и песни.
Ух, как были рады этому событию ребятишки! Юрка Леванин громко захлопал в ладоши. Нина Сионская и Люся Голубева, взявшись за руки, закружились по классу, Лёша Тихомиров закричал: – Ура!
Все третьеклассники с воодушевлением и радостью начали готовиться к ёлке. После увлекательного школьного праздника, который получился на славу, начались зимние каникулы.
В Михайловском перед Рождеством в домах, где были дети, взрослые устраивали ёлки, приглашая к себе в гости всех сельских ребятишек. Галина мама, узнав об этом, попросила старших сыновей сходить за ёлочкой. Володя и Боря быстро оделись, взяли санки, топорик и направились к лесу. Сколько радости было у младших – Гали и Вали, когда братья внесли в дом зелёную пушистую красавицу! Ёлочка была небольшая, да и места-то в маленьком домике, который купил дедушка для племянницы с детьми, было немного. Зато в комнате так запахло свежей хвоей, лесом, что сразу все почувствовали приближение праздника. Ёлочных игрушек, конечно, не на что было купить. Да это и не беда! Боря живо достал с полки школьные исписанные тетради, серебряные обёртки из-под чая, фантики от конфет – и закипела дружная работа. Валя обводил по шаблону кружочки, Галя их вырезала, Боря ловко собирал из полученных деталей разноцветную цепь. А какие чудесные лёгкие снежинки получались из тонкой промокательной бумаги! Даже пятнадцатилетний Володя не выдержал и принялся вместе с младшими развешивать на ёлочку самодельные игрушки.
Мама тем временем уже вынимала из печки румяный аппетитный пирог с малиновой начинкой. Валя, почувствовав нестерпимо вкусный запах, поспешил к матери:
– Мама, можно попробовать кусочек?
– Нет, сынок. Это для гостей. Вечером к нам придут ребята – тогда и попробуешь.
В гости к Гале пришло много михайловских ребятишек.
– Ну-ка, дети, беритесь за руки, вставайте вокруг ёлочки! – скомандовала мама. Галя ухватилась за мамину руку, с другой стороны встала Лялька Соболева, за ней Юрка Леванин, дальше Люся, Нина и другие ребята.
– В лесу родилась ёлочка, – запела мама. Дети закружились в хороводе, дружно подхватив слова всем знакомой песни.
После этого играли в кошки-мышки, в жмурки, читали стихи, разгадывали загадки, получая за каждый правильный ответ маленький приз. Всем очень понравилось, как громко, выразительно и смело рассказал стихотворение самый маленький гость – Серёжа Бахарев, как хорошо вдвоём спели песенку близнецы Мура и Миша Налимовы.
А потом вся весёлая компания ребят уселась за стол пить чай с маминым вкусным пирогом. Неожиданно раздался стук в дверь, и в комнату вошёл настоящий Дед Мороз в огромных валенках, с седой бородой и усами и с большим мешком за спиной.
– Поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством! – сказал он басом и принялся раздавать всем гостинцы – конфеты и печенье. Когда очередь дошла до Гали, Дед Мороз, подавая ей угощение, весело подмигнул. «Да это же наш Володя! – обрадовалась девочка. – Вот нарядился, и не узнаешь сразу!»
В другие дни каникул Галя ходила на ёлки к своим подругам. На каждом празднике было что-то своё, особенное, необычное, разучивали новые интересные игры и хорошие песни. У сестёр Сионских, Люси и Нины, всех поразила огромная, до потолка ёлка. В доме у Василисиных Галя не могла наглядеться на настоящие стеклянные игрушки и длинные, в красивых блестящих обёртках, конфеты, которые тётя Шура, Лялина мать, специально привезла из Ярославля, чтобы повесить на ёлку.
А накануне Рождества Мура Налимова пригласила ребят к себе в гости.
Дети дружной толпой во главе с Мурой вошли в дом. Мама Муры, Мария Михайловна, удивлённо оглядев ребятишек, спросила:
– Что вам, ребята?
Все растерянно молчали.
– Мы к вам на ёлку, – неуверенно проговорила Ляля Соболева.
– Нам Мура сказала, что у вас сегодня ёлка, – добавила Галя.
Хозяйка укоризненно взглянула на дочку:
– Мурочка, ну как же так?! Я же сказала, что у нас ёлка будет в Рождество.
Мура опустила голову и покраснела.
–Ну вот, оказывается, Мурочка всё перепутала, – разочарованно протянул Юрка Леванин. – Пошли по домам, - вздохнул он.
– Нет, ребята, так не годится. Раз уж пришли, то заходите, – решительно сказала Мария Михайловна. – Проходите, проходите, раздевайтесь!
Гости робко вошли в комнату. Лишь маленький Серёжа, на глазах которого уже появились первые слезинки, радостно заулыбался.
– Мамочка, а что мы будем делать? У нас же ничего не готово, даже ёлка не наряжена! – забеспокоился Мурин брат Миша.
– Ничего, Мишутка. Ёлку вы нарядите сами, а я пока приготовлю для вас угощение.
Ребята оживились:
– Конечно! Мы сейчас сами всё сделаем!
– Так даже интересней будет!
– Давайте скорей ёлку наряжать!
– А чем наряжать-то?
Мария Михайловна принесла целый пакет круглого печенья с дырочками:
– Вот, ребятки, поработайте. Вдевайте в дырочки нитки и вешайте печенье на ёлку. Мура, Миша, несите нитки и ножницы!
– Девочки пусть ниточки вдевают, а мы с Мишей и Валей будем ёлочку украшать, – распорядился Юра, придвигая к ёлке стул.
Через час ёлка была наряжена, на окнах появились красивые белые и голубые снежинки, над головами покачивались гирлянды из разноцветных флажков. Начался весёлый праздник, а сладкие сдобные сухарики, испечённые на скорую руку Марией Михайловной, просто таяли во рту.
Счастливые, радостные расходились поздним вечером гости по домам.
– Какие у нас замечательные каникулы! – поделилась впечатлениями Люся Голубева. – Правда, ребята?
– Это потому, что мы дружные – вместе в школу ходим и отдыхаем вместе, и помогаем друг другу, – сказала Нина.
И все с ней согласились. Начался новый 1937 год.
За чаем
«Пей, андел, – приговаривала бабка,–
Пей, ду-у-ронька… ешшо добавлю, чай.
Подложь-ка сахарку, коли несладко.
Я даве мяты насбирала в чай.
Да не стесняйся, андел, не стесняйся.
Автобус-от не скоро, чай, пойдёт…
Поди, взопрела, дак разболокайся.
Вон, погляди-ка, ноне огород
Не посадила. Нету боле силы.
А пензии-то много ли дают…
Всё – на лекарства (чтоб им пусто было!)
А без бутылки рази веть подут
Работать-то?! Ешшо заране спросят.
Коль нет, – «Копай-ка, старая, сама».
Землицу жаль! Траву-то Танька скосит.
Пырей да сныть козе пойдут в корма…
Да рази можно так-то?! Ведь землица
Ухоженная с эстоль-то годо-о-ов!
Да рази матка деток докричится,
Доколь нужда сама из городов
Не выгонит?! Пей, ду-у-ронька.
Я стала
Совсем стара, – не вижу ничего.
Намеднись Галька в Питер написала
Сынку мому подробное письмо.
Да што-о-о!..
Там у него жена да детки.
Куды ему, сердешному, со мной?!
Помру уж тут. Понастырят соседки.
Приедет помянуть да дом-от мой
Продать.
Ведь туточки лежать охота.
Родное всё! Нали душа болит.
Пей, ду-у-ронька…»
Ольга Колова
[...]
Полный текст книги в формате PDF (53,5 МБ) >>
Опубликовано: