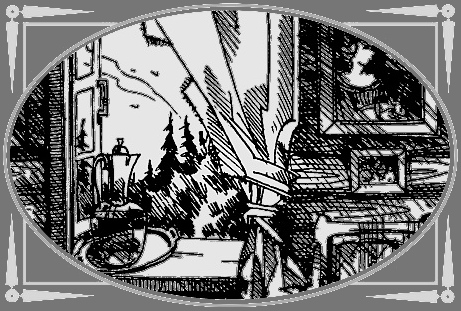
Нижегородская ярмарка (1896 год)
Ярмарки Костромской губернииНижегородская выставка меня не пленила. Ждал ли большего – не знаю, но патриотических восторгов я не испытывал. Всего много, даже очень много, но для России, громадной, необозримой, сложной, как самый сложный мозаичный рисунок – для этой России мало, всего мало. Невыразительно. Если раз посмотреть быстро, как просмотрел я этот винегрет наших отечественных богатств, производства, экспорта и проч., пожалуй, от таких впечатлений и можно сказать: «Ах», но если изучать выставку внимательно и длительно, то, пожалуй, «ах» и не скажешь.
День был ветреный, с короткими напусками мелкого дождя. Посетителей выставки было мало, впрочем, оговорюсь: их было много, даже очень много, но на громадной территории выставки эти пять-шесть тысяч были просто незаметны и напоминали те восемь пар мух, которые танцевали на паркете, только не было паука, чтобы падать в обморок. Впрочем, падать в обморок могла быть причина – неприличная дороговизна буфетов и ресторанчиков, разбросанных в большом количестве по всей выставке.
Были некоторые предметы, вызывающие недоумение, улыбку, а, пожалуй, и некий конфуз. Например: остатки той сосны, под которой был убит Сусанин свирепыми поляками. Какие доказательства тому, что этот гнилой пень был свидетелем истории, о которой прилично повествовать в средних учебных заведениях Иловайскому или другому какому-нибудь чиновнику от науки. Дело это темное, как будто придуманное. И село Домнино существует, и я был в нем, и видел в нем Сусанинскую школу, и пытались мне показать то место, где была изба патриота. Был я и на Исуповских болотах, куда якобы завел Сусанин польский отряд, где он весь погиб в трущобах, провалах и бездонных «окнах». Видел я и бронзовую рыцарскую шпору, найденную в этих местах под старым вывернутым из земли пнем бабами, собиравшими в тех болотах клюкву. Шпору эту купил мой дядюшка, Иван Николаевич, и пожертвовал ее в исторический музей в Костроме, где она и поныне находится. Все это как будто и есть доказательство того, что здесь что-то происходило, похожее на легенду… Но дело в том, что в этой местности польских отрядов Сапеги и банд Лисовского путалось немало. Галич они громили, Буй громили, Кинешму жгли и брали приступом и вырезали до последнего кинешемца.
Так что находки старинной воинской сбруи в этих местах не диво. И в селе Исупове я сам видел старинную, проржавленную, еще фитилем воспламенявшуюся фузею с медной стволиной, в которую можно загнать пулю в хороший грецкий орех. Тут же находились кольчуги, бердыши всяких фасонов и прочие ратные останки. Но о самой легенде на месте, кроме официальной истории, мало что известно. Да эта легенда и не популярна. Об этом мне рассказывал один обитатель села Молвитина. Его соображения таковы: конечно, утверждать то или иное невозможно за давностью лет и за отсутствием документов, но можно так рассудить. Если потомки Сусанина удостоились такого награждения, что живи, где хочешь, выбирай любое место и селись, пошлин и другого податного расходу не несли, под красную шапку не становились, словом, как у Христа за пазухой, – сиди и груши околачивай. То ли не жизнь! А их на кой ляд понесло на Волгу, этих самых потомков. А чего бы им не жить на месте? Поля у них по всей округе хорошие, лугов – сколько хочешь, лесного всякого угодья не занимать стать. Под боком богатое село, Молвитино, и торговое, и производственное. Вот уж подлинно можно сказать: «Всех, мол, шапками закидаем». Ведь молвитинская шапка по всем ярмаркам, по всем столицам в большом почете. Селись, паши, производством занимайся, богатей, пей, ешь и богу молись. Чего ж еще надо? Ан нет, понесло их куды не надо, на чужие места, на чужих людей. И всех этих белопашцев* мало-помалу на кулички к чертям за всякие художества препроводили и совсем перевели потомство такого, можно сказать, великого человека. И возможное ли дело, чтобы царствующий дом, живот которого попервоначалу защиту себе получил, скажем, от этого самого Сусанина, в таком пренебрежении оставили и в полную негодность допустили пасть потомкам такого человека. Недопустимая история. Он хоть и царь, Михаил Романов, а этот – простой мужик Сусанин, но все-таки сто раз сказанная благодарность за такую верность была бы царская благодарность, а не то чтобы «косой с сохой» отделаться, и квиты, мол, мы с вами на веки нерушимые. Так и полагают люди на месте, в Домнине, в версте расстояния от романовской вотчины, от которой ныне остались только ямы да рытвины.
Такой курьезный экспонат, эта сосна! Надо бы узнать, не показывают ли в Палестине того сучка, на котором Иуда Искариот удавился!
Второе зрелище тоже заставило меня дивиться массе труда и времени, затраченного на этот экспонат, и еще больше заставило удивиться, конечно, квасному патриотизму устроителя этого отдела выставки. Этот экспонат – деревянный велосипед, сделанный каким-то крестьянином в продолжение трех, кажется, лет. Все одно дерево, ни гвоздочка, ни винтика. Вес машины три пуда, а веку ей – первое путешествие! О, мол, какая прекрасная работа! Только у нас могут отлить такую пушку, из которой стрелять невозможно, и по этой, видно, причине дают ей кличку: «Царь-пушка». Только у нас сольют такой колокол, который нельзя втащить ни на какую колокольню, и, видно, поэтому называют этот дурацкий колокол «Царь-колокол». Только у нас человек тратит массу труда и времени и напрасно губит свой талант, потому что им построена машина, на которой ездить нельзя, ибо она развалится на первой же версте, и, видимо, поэтому-то и стоит на Нижегородской выставке, и иностранцы, понятно, удивленно пожимают плечами, а мы преисполняемся патриотической гордостью и говорим: «Этому бы Митюхе да образование, чтобы он тогда сделал, сукин сын!»
Так и дайте ему скорее образование, чтобы он применил свой талант на что-нибудь действительно нужное, а не на такой «Царь-велосипед».
Русский человек любит колокольный звон. И я тоже очень люблю этот медный, то призывный, то торжественный, то унылый голос. В большом городе я не замечаю его, но в деревне, в лесах, в полях, над озерами или на берегах больших рек – этот голос красив и значителен. Хороший колокол слить – искусство, и к этому искусству издревле относились русские серьезно. Для того, чтобы новый колокол звучал громко и музыкально, во время процедуры его литья старались врать как можно больше, распускать всякие нелепые слухи, попросту – сплетничать. С этих времен пошла поговорка: если кто-нибудь передавал какую-нибудь базарную необычайную сплетню или просто нес что-нибудь не совсем сосветное, то частенько и поныне говорят: «Да, может, колокол льют где-то».
На Нижегородской выставке колокольные мастера для прославления своих фирм настроили звонниц и на них развешали образцы своего искусства. Красивые, горящие медью, разукрашенные всякими священными барельефами и препоясанные вязью изречений на славянском языке, висят громадные и маленькие колокола. Это большое собрание разных колоколов в одном месте мне показалось забавным. «Вот – конкуренты», – подумал я и заржал. По-моему, предметы религиозного значения не должны выставляться рядом с механической обувью или серпуховскими серпянками*. Смешней всего мне показалось то, что вокруг звонниц были устроены удобные скамейки ряда в три, для публики. Дело в том, что каждый день часов в пять или шесть, уже не помню точно, под звонницы собираются мастера-звонари, своего рода артисты, и устраивают соревнования Я – конкурс изделий колокольных заводов. К этому часу сюда сходятся любители и знатоки этого рода искусства и решают и добротность колоколов, и искусство звонарей-артистов. Эти последние вызванивают и божественное, а иногда дернут и такую плясовую, что только держись… К сожалению, я не могу присутствовать при этом состязании, так как мой поезд в Москву уходит как раз в шесть часов.
Захожу в морской павильон. Он невелик. Обращаю внимание на две миноноски того типа, которыми в Турецкую войну 1877–1878 гг. наши Дубасовы и Скрыдловы оперировали на Дунае и не всегда удачно взрывали турецкие мониторы**. Катер с большим выносным шестом, на конце которого мина. Подойти к неприятелю, ткнуть его этим шестом под бок, взорвать мину и удирать сломя голову. Не думаю, чтобы при современной артиллерии подобная операция могла быть успешной. Но все-таки меня интересует минный шест. Он очень длинен, достаточно толст и, по-видимому, достаточно лёгок. При выставленных экспонатах я вижу дежурство, состоящее из мичмана и нескольких громадных матросов гвардейского экипажа. Я спрашиваю мичмана – из какого дерева сделаны минные шесты. На мой вопрос мичман очень резко отвечает:
– Спросите минера.
По изображению двух перекрещивающихся мин, вышитому или нашитому на рукав бушлата одного матроса, я решаю, что это должен быть минер, и поэтому обращаюсь к нему со всем почтением:
– Господин минер, – спрашиваю я этого здоровенного матроса-великана, – будьте так любезны, скажите мне, пожалуйста: из какого дерева сделаны эти минные шесты?
Господин минер смотрит на меня несколько мгновений достаточно безучастно, а потом изрекает:
– Черт его знает… Спросите господина офицера…
Я ухожу из морского павильона с полной уверенностью, что все неприятельские флоты уже взорваны этим шестом и мне тут делать ничего не остается, надо переходить в павильон искусства. Туда я и направил свой бег. Ба!.. Ба!.. Ба!.. Знакомые всё лица! Передвижники тут как тут… И прямо против входа в главный зал, кажется, на зеленом бархатистом диване лежит розовая голая женщина, повернувшись ко мне задом.
Перед картиной стоит некто, преуспевающий в сей юдоли слез и печалей. На нем синяя поддевка со сборками. Сукно важное, капитальное, лицо тоже капитальное, борода добротная, на жилете цепь золотая, прямо-таки пароходная. Сапоги любительские, и в руках картуз с бархатным околышком и блестящим, ясным козырьком. Рядом с ним та, которая украшает и услаждает жизнь этого преуспевателя в жизни. Шелковое платье обтягивает формы, если не классические, то, во всяком случае, сдобные. Сверху все венчает шелковая шаль. Они стоят рядом и смотрят на розовый зад.
– Анна Михайловна, а? – говорит он и толкает ее локтем в бок.
– А ну тебя, – отвечает она и стыдится.
– Анна Михайловна? Какова штука-то? – хихикает преуспеватель и опять толкает жену в бок.
– Отстань, срамник, чего уставился на срамоту, пойдем лучше кваску попить под колокола, скоро зачнут названивать, – отвечает помощница в жизни и усладительница.
Однако, пора на вокзал, уже пятый час...