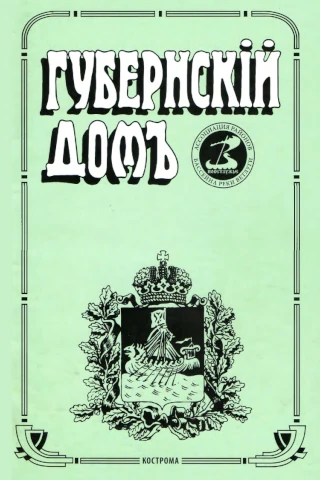Губернский дом 1994 год. № 2 (94)
Историко- краеведческий культурно- просветительский научно- популярный журнал № 2. – Кострома: Б/и, - 1994.
Время. Общество. ЗнаниеТатьяна Гончарова. Семейный альбом. 3
Зинаида Лебедева. Минводы в Солигаличе. 8
Александр Разживин, Николай Муренин. Любовь к родному пепелищу. 12
Владимир Сморчков. ”С этим словом и памятью и в ненастье светлей”. 15
Сергей Алексеев. Культура древней Костромы. 18
Свидетельства. Архивы. ДокументыГеннадий Черненко. Чудо-поезд губернатора Шиловского. 21
Л.А. Колгушкин. Кострома начала века. Мемуары. 25
Юрий Дойков, Лариса Сизинцева. Питирим Сорокин и костромской край. 31
Татьяна Войтюк. Летопись странника. 35
Виктор Бочков. Костромские Козловские. 42
Литература. Искусство. КультураЕлена Сапрыгина. По следам грибоедовского прототипа. 51
Ольга Гуссаковская. Персиковая коробка. 53
Анатолий Беляев. Сколки. 60
Александра Кобякова. Последняя казнь. 62
Народное краснословие. Детские считалки и дразнилки. 76
Памяти Михаила Дудина. 78
Юрий Дойков, Лариса Сизинцева. Питирим Сорокин и костромской край
29 января 1994 г. исполнилось 105 лет с тех пор, как в селе Турья Вологодской губернии родился Питирим Александрович Сорокин. Умер он в феврале 1968 года в пригороде американского города Бостона, Винчестере, по словам его друга, профессора Н. С. Тимашева, «получив признание как великий ученый в© всех цивилизованных нациях, исключая находящиеся под коммунистическим игом». Его считали «социологом номер один XX века». Теперь его труды издаются и в нашей стране. Тем приятнее сознавать, что «дальняя дорога» этого человека иногда проходила по Костромской земле.
В одной из своих статей П. А. Сорокин писал: «Во впечатлениях детства и особенно первых годов сознательной жизни весь секрет дальнейшего характера человека. Общественная среда дает человеческой душе основной тон и окончательную форму. Она же, особенно в детские годы, проводит те решающие борозды, которые определяют навсегда волю, ум и совесть человека.»’ Что же за «борозды» появились в душе его за неполные три года костромской жизни?
Для того, чтобы понять крутизну поворота, происшедшего в сознании П. А. Сорокина, необходимо понять, каким он приехал сюда. Будущий ученый вырос в патриархальной деревенской среде, нравы которой, по его словам, основывались «на обычаях золотого века, десяти заповедях и взаимопомощи»2, а избы не закрывались за отсутствием воров. Фоном служила девственная природа, леса которой «еще не были испоганены цивилизацией» (с.2) и служили источником не только телесной, но и духовной пищи, — «лес оказывался неистощимо щедр на постоянные перемены обличья и настроения» (с. 13). Мелодии старинных песен народа коми П. А. Сорокин узнавал потом в произведениях Баха, Моцарта и Бетховена. Языческие верования мирно уживались с православной религией «с ее впечатляющими ритуалами, церковной музыкой, красочными шествиями, мудрыми таинствами.» (с. 16).
Отец, А. П. Сорокин, был серебряных дел мастером из Великого Устюга. С ним мальчик обошел множество церквей, создавая и восстанавливая ризы икон, канделябры и прочую утварь, золотя и крася церковные шпили, купола, крыши. За это время он стал прекрасным певчим, детально изучил церковную службу и тексты, а после прочтения житий святых даже захотел стать отшельником, и «часто уединялся в близлежащем лесу, чтобы попоститься и помолиться» (с. 33).
Опыт детских лет помог позже в его социокультурных исследованиях, позволив осознать правду, правомерность и равноправие «идеациональной» культуры, целиком подчиненной божественной идее, которая казалась цивилизованному миру атавизмом, дикостью.
При этом П. А. Сорокин много читал, удивляя учителей своими успехами. Поэтому, когда он 2 июня 1904 г. закончил второклассную школу в с. Гам, А. Н. Образцов дал ему рекомендацию для поступления в церковно-учительскую школу с. Хренова Кинешемского у. Костромской губ. (с.260).
Это учебное заведение некоторые исследователи называют «учительской семинарией», упоминает это название и сам П. Сорокин. Между тем семинарии считались средними учебными заведениями, тогда как Хреновская церковно-учительская школа еще незадолго до поступления в нее П. Сорокина была обычной второклассной церковно-приходской школой, одной из множества, созданных при епископе Виссарионе в Костромской епархии.
Владыка Виссарион (Нечаев) был сторонником развития сети церковно-приходских школ повышенного типа, а именно такой и была второклассная церковно-приходская школа с. Хренова; ее задачей, по словам владыки, было «не отрывая русского человека от родного для него сельского хозяйства, составляющего оплот1 и силу русского государства, и тем предохраняя его от влияния вредных сторон цивилизации, дать ему более или менее обширное образование, чтобы он мог впоследствии, в качестве учителя школы грамоты, сеять семена истинной веры и истинных знаний». 3 Здесь же преподавались основы ремесел и рационального ведения сельского хозяйства.
Школа была открыта в 1884 г. и помещалась поначалу в церковной сторожке. Само село Хреново было центром большого прихода, из деревень которого во второй половине прошлого столетия выросли крупные фабричные села — Тезино, Гольчи- ха, Бонячки, дававшие большую часть хлопчатобумажных тканей губернии.4
Хозяева этих фабрик — Коноваловы, Миндовские, Разореновы, Морокины, были выходцами из старообрядческих семей и предпочитали открывать при фабриках церковно-приходские школы, число которых увеличивалось год от года и требовало новых учительских кадров. Вероятно, именно поэтому трехэтажное здание в Хренове, заложенное в 1900 г. для церковно-приходской школы, было открыто 1 октября 1902 г. для церковно-учительской, выпускники которой могли преподавать не только в школах грамоты, но и в церковно-приходских.
В верхнем этаже нового здания помещались классы, библиотеки и рекреационная зала, во втором — спальни, в нижнем, полуподвальном — кухня и столовая. Рядом был построен двухэтажный дом для учительских квартир. Заведующим и законоучителем , был назначен священник Л. Земляницкий, попечителем — местный фабрикант, на деньги которого и было построено это здание — Иван Александрович Кокорев.
И. А. Кокорев признавался, что целью создания школы было «при помощи ее возвысить церковь». Однако как часто поступки наши приводят к противоположному результату. Вот как оценивал П. Сорокин влияние на него учебы в Хренове: «всего за два года учебы большая часть моих предыдущих религиозных, философских, политических, экономических и социальных установок была разрушена. Религиозность уступила место полуатеистическому отрицанию теологии и обрядов русской православной церкви. Обязательное присутствие на церковных службах, введенное в школе, только усиливало это отрицательное отношение к религии. Мое старое мировоззрение и система ценностей были заменены научной теорией эволюции и естественно-научной философией. Приверженность монархической системе правления и «капиталистической» экономике сменилась респуб-ликанскими, демократическими и социалистическими взглядами», (с.36).
А все начиналось с того, что надо было скрывать застенчивость провинциала, впервые севшего на поезд и пароход, впервые увидевшего «большие города» — вероятно, Кинешму, самое большее — Кострому? «Все это возбуждало, смущало и подавляло меня. Я чувствовал себя чужаком в этой незнакомой суматошной среде», (с.35).
Таким же чужим чувствовал он себя и в хреновской школе. По сравнению с Вологодской глубинкой здесь было «более цивилизованное» пространство, и пятнадцатилетний подросток, «одетый в домотканые вещи, с манерами, лишенными городского лоска, выглядел и чувствовал себя деревенщиной», (с.35). В 15 лет это воспринимается острее, чем при написании мемуаров, и он сделал все, чтобы быть — как все: купил костюм, «приобрел кое-какие городские манеры», а в чем-то и лучше всех: разговоры с товарищами и преподавателями скоро показали, что этот мальчик не так прост, и очень скоро он «завоевал репутацию лучшего студента в классе, был лидером в литературной, научной и политической деятельности студентов» (с.35). В 1905 году в школу поступил и Н. Д. Кондратьев, впоследствии видный экономист, с которым П. А. Сорокин подружился и сохранил дружбу на всю свою непростую жизнь. Не странно ли, что маленькая церковно-учительская школа на окраине Костромской губернии при сравнительно недолгом своем существовании дала двух ученых с мировым именем?
Возможно, сыграло свою роль то, что Кинешемский уезд тогда можно было назвать «сейсмически активной зоной»: фабрики давали немалые доходы, которые позволяли земству экспериментировать, искать пути решения различных задач, удовлетворения местных нужд, — это и стало предметом исследований Н. Д. Кондратьева.
С другой стороны, большое количество рабочих, вырванных из привычной сельскохозяйственной среды, оторванных от земли, от привычного образа жизни (подобно самому П. Сорокину) искали возможности устроить эту жизнь в соответствии со своими потребностями и интересами. И никому не надо объяснять, что было за время, когда два друга, П. А. Сорокин и Н. Д. Кондратьев, учились в Хренове - 1905 год.
П. А. Сорокин становится «ревностным социалистом-рево- люционером», и так же, как прежде он проповедовал в крестьянских избах православие, — теперь стал «распространять революционные идеи среди студентов, рабочих и крестьян близлежащих деревень» (с.36). Это стало началом бурной политической карьеры П. Сорокина, приведшей его во Временное правительство Керенского, а затем и в Учредительное собрание и закончившейся в 1922 г. высылкой из России вместе с другими величайшими ее учеными.
В своих воспоминаниях П. А. Сорокин писал, что был арестован вечером первого дня рождественских каникул 1906 г. в доме, где должна была состояться его встреча с одной из рабоче-крестьянских групп, и отправлен в тюрьму г. Кинешмы. В Ивановском областном архиве сохранилось постановление Кинешем- ского уездного исправника от 5 января 1907 г. Из него видно, что П. А. Сорокин с его товарищем по церковно-учительской школе, И. С. Куликовым, «неоднократно посещали крестьян дер. Быстри и Марфино и, как путем чтения запрещенных книг, так и словесно, возмущали население против правительства и предлагали избирать во вторую Государственную Думу из партии со- циалистов-революционеров, так как только они могут добиться того, чтобы борцам за свободу была объявлена амнистия, и вместо думы было Учредительное собрание, причем Сорокин с целью распространения среди населения имел при себе 14 нелегальных брошюр, а для сбора денег на революционные надобности — чековую книжку» 5.
П. А. Сорокин писал: «Хотя я и ожидал, что рано или поздно меня схватят за революционную деятельность, все же арест поверг меня в шоковое состояние» (с.37). Впоследствии он еще дважды арестовывался до революции и трижды при советской власти до своей высылки из России (вряд ли кому еше из социологов его калибра так «посчастливилось», причем расстрела в 1918 г. в Великом Устюге Сорокину удалось избежать просто чудом.)
По сравнению с последующими заключениями, первое «оказалось далеко не так болезненно и пугающе», как представлял себе начинающий политик. «Меня бросили в грязную камеру, где деревянные нары кишели вшами, — вспоминал он позже. — Я преодолел это неудобство с оптимизмом и энергичностью юности. Выпросив большой чугунок кипятка у охранника, я ошпарил койку, вымел мусор из камеры и постарался приспособиться к новым условиям, насколько это было возможно. На следующий день меня ждало несколько приятных сюрпризов: начальником тюрьмы я был переведен в лучшую, чем моя, камеру, и он же предложил мне пользоваться телефоном в его кабинете. Политические заключенные приветствовали меня в своей компании и устроили так, что дверь камеры не закрывалась и я мог свободно обращаться с ними. Товарищи по школе пришли навестить меня и принесли книгу, еду, сигареты, чтобы скрасить мое пребывание в тюрьме» (с.37).
Политические, социологические и философские дискуссии при свободном общении друг с другом, чтение нелегальной литературы всех оппозиционных правительству направлений превратило тюрьму в «университет», по собственному признанию, П.А.Сорокин «узнал больше, чем мог бы дать мне пропущенный семестр в церковно-учительской школе» (с.38). Наблюдение же за уголовным миром подсказало исследователю и тему его первой книги: «Преступление и кара, подвиг и награда», вышедшей в 1914 г. в Петербурге и рассмотренной в качестве магистерской диссертации по окончании Петербургского университета.
В конце концов суд над П. А. Сорокиным так и не состоялся. После трех с половиной месяцев тюремного заключения он был выпущен на свободу под гласный надзор полиции. Из Хреновской школы он был отчислен сразу после ареста, но поскольку идти было некуда, то он приехал в Хреново и провел там несколько дней у товарищей по учебе. «Меня сердечно встретили и приняли скорее как героя, чем преступника, поскольку большинство студенческо-преподавательского состава симпатизировало революции и людям, агитировавшим за нее» (с.38). Затем в его жизни наступил новый этап — нелегальная жизнь профессионального агитатора- революционера в Поволжье.
Следующее известное нам пребывание П. А. Сорокина в Костромском крае относится к 1910 году. Он не смог внести плату за обучение в Психоневрологическом институте, в который он поступил в 1909 г. после обучения на Черняевских курсах в Петербурге. В результате он был отстранен от занятий и вместе с Н. Д. Кондратьевым в феврале 1910 г. приехал в село Баки Варнавинского уезда Костромской губернии.
Село Баки было центром Баковской волости, там помещались волостное правление и становой пристав, так что вряд ли можно было бы объяснить приезд в Баки желанием уехать подальше от представителей администрации. Но это было многолюдное село (1571 душа, 320 дворов)\ лежавшее на перекрестье крупных путей сообщения: через него проходил почтовый тракт из Варнавина в г. Семенов Нижегородской губернии и в селе было две станции, почтовая и земская. Не менее важным было расположение села на берегу лесосплавной и судоходной Ветлуги, в селе была лесная пристань и развивались лесной, плотничий и строительный промыслы. Все это превратило село в крупный торговый центр в нем отмечены еженедельные базары и две ярмарки. Никольская церковь села Баки — большая, трехпричтовая, объединяла более 7 тысяч прихожан из самого села и 30 окрестных селений...
Так что вряд ли друзья искали в Баках уединения, однако точные причины выбора именно этого села пока неизвестны. Тем не менее именно оттуда было отправлено прошение ректору С.-Петербургского университета с просьбой о зачислении на юридический факультет — оно сохранилось в личном деле студента П. А. Сорокина.7 А в июле был получен ответ: зачислен. Больше никаких прямых указаний на пребывание П. А. Сорокина в Костромском крае пока не обнаружено.
Однако есть еще одно свидетельство о костромских его годах, которое пока не удалось соотнести с конкретными событиями в жизни ученого. Еще одним источником для исследователя его биографии может служить автобиографический роман, написанный в возрасте 27 лет и опубликованный под псевдонимом «Н. Чаадаев» в петербургском «Ежемесячном журнале» (1917, N7— 10). В рукописи, сохранившейся в Пушкинском доме, он назван «Перед закатом жизни», при публикации — «Предтеча».
Там мы находим единственные пока свидетельства на тему, о которой П. А. Сорокин всегда высказывался очень скупо. «Слово «любовь» узнал я рано. Но, что оно значило едва ли давал отчет. По романам я знал ее, по романам же рисовал ее образ». Во время учебы в церковно-учительской школе (или, как в романе, — в семинарии) «неслышно и незримо пришла любовь. Один раз пришла она... Бесконечная и единственно прекрасная в своей наивности и молодости. Пришла светлой, ясной, чудесной. Захватила душу, обвеяла ее дивным ароматом, вдохнула радость и силы. И ушла... оставив кровавую рану, да горечь осенней полыни. Болела рана дни, недели, месяцы. И, наконец, прикрылась дорожной пылью. Серым саваном окутала душу... Надолго, навсегда остался лишь сухой, жесткий рубец, да тихие воспоминания»...
Первой любовью героя романа стала Лиза, дочь предводителя местного дворянства Мозжухина, репетитором сына которого, зарабатывая деньги на жизнь и учебу, был Никуличев (Сорокин). Идентифицировать героиню пока не удалось, но интересно, что в письмах П. А. Сорокина к студентке Петербургского университета Елене Михайловой (относящихся к 1915 г.), в которую он был влюблен, встречаются целые фрагменты, вмонтированные в следующем году в «Предтечу» и относящиеся в романе к Лизе. Публикация же романа была посвящена студентке Бестужевских курсов Елене Петровне Баратынской, которая и стала в мае 1917 г. женой П. А. Сорокина. Для истории души П. А. Сорокина значение этого романа огромно.
Многое вместила в себя эта жизнь, жизнь политика и ученого, пришедшаяся на слом времен. И, может быть, опыт «первого кризиса», совершившегося с ним на костромской земле, помог ему понять, что любой кризис — не только конец, но и начало. Закат великой западной культуры он рассматривает не как ее гибель, а как рождение заново в новом качестве, как возврат к идеациональной системе культуры — той самой, которая помнилась ему самому с раннего детства и с которой он расстался на костромской земле.
Примечания
1. Воля народа. 1917. 29 сентября.
2. П. Сорокин. Дальняя дорога. М., 1992. С. 14. Далее ссылка на это издание дается в тексте указанием страниц в скобках.
3. Костромские епархиальные ведомости. 1902. ч. неоф. N21. с. 588.
4. Костромские епархиальные ведомости. 1911 г. ч. неоф. N14. с. 423 — 431. Мы благодарим Т. В. Войтюк за указание этого источника.
5. ГАИО, ф. 770, оп.1, д .38, л. I.
6. Список населенных мест Костромской губернии /по сведениям 1907 г./ Кострома, 1908. С. 21.
7. СПб. гос. исторический архив, ф. 14, on. 3, д. 56927, л. 4