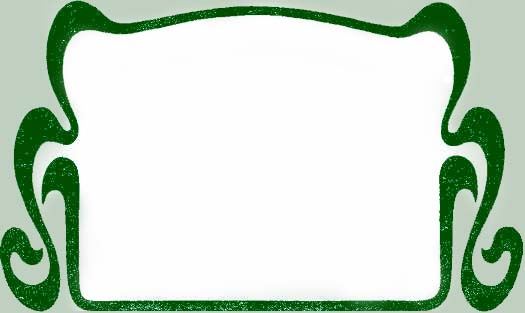
ГЛАВА X
Последние дни и похороны А. Н. Островского
1
В 1886 году семья драматурга, кроме сыновей Михаила и Сергея, жила в Щелыкове с 18 мая.
Зная болезненное состояние Александра Николаевича, дети и Мария Васильевна с возрастающим нетерпением ждали его приезда в усадьбу. Все надеялись, что хорошее, веселое лето восстановит ослабевшие силы Александра Николаевича и укрепит его здоровье, так необходимое ему теперь, когда осуществилась его долгожданная мечта и он стал художественным руководителем московских театров.
Жизнь в Щелыкове шла своим чередом. 24 мая Мария Васильевна писала П. И. Андроникову в Кострому: «Будьте так добры, пришлите, пожалуйста, фортепьянного мастера из Костромы. Я слышала, будто там есть хороший. Если можно, то пусть приедет настроить у нас фортепьяно и направит его и захватит на всякий случай струн» 1. Но эта просьба оказалась лишней. Лучший фортепьянный настройщик Костромы (Чистяков), разъезжавший по поместьям, неожиданно заехал 28 мая в Щелыково и привел инструмент в полный порядок.
Между Марией Васильевной и П. И. Андрониковым шли переговоры о какой-то лодке, и Мария Васильевна 28 мая отвечала ему: «Александр Николаевич приедет завтра, и мы поговорим с ним насчет лодки, тогда уже и известим Вас» 2.
А между тем здоровье драматурга не улучшалось, а явно ухудшалось.
Перед выездом из Москвы в Щелыково он чувствовал себя очень плохо. Все чаще и чаще им испытывались приступы неотвратимо развивавшейся болезни. Участились припадки удушья и сердечные боли, спазмы.
19 мая он извещал Марию Васильевну: «Здоровье мое очень расстроилось, в субботу и вчера не ел ничего и обе ночи не спал, так и не раздевался, начались боли рук и дурноты, вчера посылали за Добровым... Он нашел очень сильное расстройство всей нервной системы» 3.
Бурдин вспоминал: «С грустью, каждый день я убеждался, что он не только не работник, но и не жилец на белом свете. К довершению несчастья, перед своим отъездом в деревню он простудился; ревматические боли усилились в крайней степени: по целым часам он не мог пошевельнуться, перенося ужасные страдания. Доктор объявил, что нет более никакой надежды...» 4.
Когда Островский 28 мая 1886 года садился в вагон поезда, отходящего в Кинешму, для провожавших его было ясно, что дни драматурга сочтены.
До Кинешмы Островский доехал благополучно. Сопровождавший его сын, Михаил Александрович, писал Кропачеву 31 мая, что «в вагоне ничего особенного не произошло» 5. Но пребывание в душном вагоне подействовало на Александра Николаевича все-таки отрицательно, он очень устал. Впереди же предстояла дорога до Щелыкова, еще более тяжелая. Она пугала больного писателя.
Утром 29 мая на Кинешемском вокзале его встретил исправляющий должность уездного предводителя дворянства П. Ф. Хомутов, обращаясь к которому Александр Николаевич сказал: «Я не доеду до имения» 6.
Опасения Островского не были напрасными. Лил дождь, дул сильный ветер. Дорогу размыло, образовались глубокие выбоины. Экипаж подбрасывало и трясло. Езда по такой дороге была мучительна не только для больного, но и для здорового. В довершение всего, по какому-то недоразумению, своих лошадей в городе не оказалось. Пришлось ехать в наемной пролетке с чужим кучером и кутаться от дождя и ветра.
Нечего и говорить, что эта дорога весьма дурно повлияла на здоровье Александра Николаевича, который, мучаясь болями в области живота и удушьем, уже несколько суток не только не спал, но почти ничего и не ел. Он сильно ослаб физически. Его нервы расшатались до последней степени. И когда, по приезде в имение, он поднялся на крыльцо своего дома, то «горько зарыдал, как бы предчувствуя, что из этого дома он более не выйдет» 7.
По прибытии в усадьбу, исполняя желание отца, Михаил Александрович написал личному секретарю драматурга Н. А. Кропачеву письмо, в котором просил его «писать все, что ни случится в Москве» 8. Это письмо было отправлено с ямщиком, привезшим их в Щелыково и возвращавшимся в Кинешму.
Несмотря на крайнее недомогание и усталость после тяжелой дороги, драматург не ложился в постель. Не желая расстраивать близких, он бодрился, отдавал распоряжения, ходил по комнатам.
Александр Николаевич находился во власти оставленных в Москве дел. Он не переставал думать о московских театрах, их репертуарных планах, артистическом составе, о всем том, что намечалось им к усовершенствованию сценического искусства. В тот же день из Кинешмы в Москву, в гостиницу «Дрезден», на имя С. М. Минорского, по желанию писателя, послали телеграмму: «Доехали благополучно. Мне лучше. Островский» (XVI, 244).
Наступил второй день пребывания Островского в Щелыкове. В этот день, 30 мая, он чувствовал себя очень плохо, ничего не ел, почти не спал. Но к вечеру от Н. А. Кропачева было получено письмо, весьма порадовавшее драматурга. Кропачев извещал, что 29 мая он был у управляющего московскими театрами А. А. Майкова, который объяснительной запиской об опере «остался очень доволен», а сметы и штаты по театральной школе «нашел превосходно составленными». Изложив и другие повседневные новости по управлению московскими театрами, Кропачев заключил свое послание уверением, что «все идет у нас хорошо» и обещанием обо всем последующем «сообщать аккуратно» 9.
Почти одновременно с письмом Кропачева из Варшавы пришла телеграмма, посланная 29 мая: «Чествуем на торжественном обеде артистов московской труппы. «Русское собрание» в Варшаве пьет Ваше здоровье и благодарит за горячее участие, принятое Вами в отправлении труппы. Главный старшина В. Фредерикс» 10.
По сообщению корреспондента газеты «Московский листок», беседовавшего с Марией Васильевной, кажется, в этот или в следующий день, из Тулы от автора романа «Война и мир» пришла пьеса «Первый винокур». Называя Островского «отцом русской драматургии», Л. Н. Толстой просил его в сопроводительном письме прочитать пьесу и высказать о ней свой «отеческий приговор»" 11.
Как и в предшествующие дни, 31 мая Островский чувствовал себя неважно, но не захотел менять привычный для него распорядок дня и начал трудиться. Он пробовал переводить «Антония и Клеопатру» Шекспира. На сохранившейся рукописи перевода стоит дата этого дня, написанная рукой драматурга.
В воскресенье, 1 июня, Островскому стало лучше. Несомненно, что на него благотворно действовали деревенский воздух, красота природы тихого Щелыкова и общая радостная, возбуждающая атмосфера Троицына дня — этого праздника цветов.
Почти весь день драматург провел на ногах. Пользуясь великолепной погодой, он долго гулял по саду усадьбы. С удовольствием расхаживал по комнатам большого дома. Был бодр и весел. Много шутил в кругу семьи. Совсем оживившись, он не утерпел и сел за работу, составил план для переделки пьесы «Белая роза», присланной ему А. Д. Мысовской.
Драматург уже давно не чувствовал той удивительной легкости, которую он испытывал 1 июня. И это его даже пугало. «Мне так хорошо,— сказал он,— как давно не бывало, но даром мне это не пройдет» 12. Александр Николаевич оказался прав. С шести часов вечера ему стало хуже. С 7 часов вечера на него напало какое-то сонливое состояние, хотя и вполне покойное. Он заснул. Его сон был прерывистый, просыпаясь, он испытывал чувство тоски, но к утру все это прошло.
2 июня Александр Николаевич встал довольно бодрым. Но это состояние было бодростью духа в окончательно угасавшем теле. Физически он чувствовал себя настолько слабым, что не был в состоянии обуться и одеться сам. При обувании его ноги «сгибались как плети» 13.
Одевшись и обувшись при помощи своей жены, он вышел из спальни в кабинет, распахнул окно и, стоя возле него, вдыхал ароматный воздух. Потом он прошел на террасу и долго любовался раскинувшейся перед ним живописной картиной природы. И было чем восхищаться! Вид, открывавшийся с этой террасы, славился на всю окрестность.
Залитый утренним солнцем лес был неизъяснимо прекрасным. Направо вдали, сквозь чащу леса, белела колокольня церкви Николы на Бережках... Красота природы всегда возбуждала Островского, поднимала его энергию. Ему стало лучше. Он возвратился в кабинет и сел за письменный стол.
Мария Васильевна, озабоченная сильным недомоганием своего супруга, отправилась вместе с младшими детьми в церковь отслужить молебен о его здравии. По воспоминаниям Кропачева, она поехала в церковь не только по собственному желанию, а и по настоянию Островского. «Почувствовав приближающийся конец своей жизненной драмы,— пишет Кропачев,— он не желал, чтобы горячо любимая им жена присутствовала при этом «последнем акте» 14.
Эта версия вызывает сомнения. Она неосновательна, главным образом потому, что Островского, знавшего свои болезни, предчувствовавшего приближение рокового исхода, не оставляли все же некоторые надежды на то, что Щелыково может на какой-то срок, пусть малый, поправить его здоровье. В письме к Мысовской от 7 мая он извещал: «В Щелыкове я буду не ранее 20-х чисел мая, а в Нижнем мне надо быть в конце июля или в начале августа; удержать меня может только болезнь» (XVI, 239). 15 мая он снова писал: «Я в деревню проеду прямо, а обратно через Нижний» (XVI, 241).
Прощаясь перед отъездом в Щелыково с М. М. Ипполитовым-Ивановым, Александр Николаевич сам заговорил о своем обещании написать либретто на понравившийся ему сюжет из рассказа о Пережнихе, сценарий которого композитор ему выслал ранее. При этом драматург ссылался на дела и нездоровье, до сих пор мешавшие ему это сделать. «На мой вопрос, — вспоминает Ипполитов-Иванов,— не написал ли он новой комедии к новому сезону, он махнул рукой и, прощаясь, ответил мне фразой из своей комедии «Волки и овцы»: «Ну уж, где уж, куда уж... а вот либретто вам в Щелыкове все-таки напишу» 15.
Но Островский явно переоценил свои физические возможности. Всего за три дня до своего последнего отъезда в Щелыково, 25 мая, он писал жене: «...мне нужно полнейшее спокойствие и тишина,— малейшее волнение или раздражение могут произвести мучительный припадок. Значит, мне нужно укрепиться, чтобы не сделалось припадка. А в Щелыкове мне нужно спокойствие и уединение, чтобы до меня ничего не доходило. Об этом уж ты позаботишься, только бы мне доехать» (XVI, 243—244).
Островский доехал до Щелыкова. Но, будучи до крайности больным, он в то же время настойчиво избегал так необходимого ему «уединения» от литературных и театральных забот. Он начал свое последнее пребывание в Щелыкове не отдыхом, а напряженным трудом. И тем, вероятно, ускорил свой конец.
Александр Николаевич был полон литературно-художественных замыслов, планов по коренному преобразованию театров, задумок о повышении уровня отечественной драматургии.
Не изменяя заведенного порядка, он, о чем уже сказано, принялся и в этот день, 2 июня, по отъезде Марии Васильевны в Бережки, за работу.
Как обычно, выполняемая им работа в это утро была разнообразной. Он что-то обдумывал, выходил в гостиную, расхаживал там, снова возвращался в кабинет, садился за стол и писал. Его старшая дочь, Мария Александровна, уверяла, что в это последнее утро своей жизни он просматривал прозаический перевод пьесы «Антоний и Клеопатра» Шекспира, думая впоследствии переложить его в стихи 16. Затем читал журнал «Русская мысль».
Время от времени драматург перекидывался словами с присутствующей в его кабинете дочерью.
А затем, сидя за работой, он вдруг вскрикнул: «Ах, как мне дурно» 17, «дайте воды» 18. Это было около половины десятого часа. «Я побежала,— рассказывает Мария Александровна,— за водой и только что вышла в гостиную, как услышала, что он упал» 19. Михаил Александрович добавляет: «и ударился щекой и виском» о пол 20.
На зов испуганной дочери сбежались находившиеся в доме сыновья писателя, Михаил и Александр, сестра Надежда Николаевна, а также гостивший у них студент С. И. Шанин, прислуга.
Они немедленно подняли драматурга и посадили в кресло. По словам Михаила Александровича, «он прохрипел раза три, всхлипывал несколько секунд и затих» 21. Это было в одиннадцатом часу утра.
Корреспондент «Московского листка» сообщает более подробные сведения. При падении на пол у Александра Николаевича оказались «разбиты щека и висок». Бросились за обычным лекарством — горячею водою растирать сердце, лили на голову воду, давали нюхать возбуждающие средства, а больной только всхлипывал... Послали за доктором, которого, однако, не оказалось, а приехавшая из земской больницы фельдшерица смогла только констатировать смерть» 22.
Земская больница находилась в Адищеве, в семи верстах от Щелыкова.
Воскрешая предсмертные минуты драматурга, его сестра, Надежда Николаевна Островская, вспоминала: «Мучился он, когда умирал. Я ему и глаза закрыла...» 23.
Немедленно послали верхового за Марией Васильевной в Бережки. Гонец сообщил ей, что Александру Николаевичу «очень худо». Мария Васильевна возвратилась домой почти без памяти. Вспоминая ее приезд, домашняя работница Островских, Мария Андреевна Кожакина, рассказывает, что «Мария Васильевна, упав на грудь мужа, воскликнула: «Александр Николаевич, пробудись!». Но он уже начал остывать» 24. Спустя десять лет Мария Васильевна записала в своем дневнике: «2 июня 1896 года. День великой скорби для меня. День смерти моего неоцененного мужа и учителя» 25.
По мнению профессора Остроумова, смерть Островского последовала от усилившихся припадков удушья, которые были вызваны «хроническим поражением кровеносных сосудов (атероматозное перерождение) и увеличением сердца» 26.
Островский умер трудясь, как часовой на посту. Творческое горение мыслей и чувств великого труженика прервала лишь беспощадная смерть. Поэт С. Фруг сказал об этом проникновенными словами:
Закрылись и твои пытующие очи,
Порвалась вещих дум сверкающая нить...
Со взором, как звезда, горевшею во мраке ночи,
С рукой простертою, чтобы творить,
С поднятой высоко и гордо головою,
С приветом светлому грядущему труду,—
Ты пал, как падает боец, грядущий к бою,
Как падает орел, сраженный на лету 27.
2
Уже 2 июня, через несколько часов после смерти, Островский покоился во временном тесовом гробу в столовой.
Гостеприимный и веселый хозяин-хлебосол лежал теперь со смежившимися навеки глазами. Он лежал со скрещенными руками на груди, весь укрытый полотняным саваном, засыпанный садовыми и полевыми цветами.
Говоря словами Пушкина:
Тому назад одно мгновенье,
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь;
Теперь, как в доме опустелом...
(«Евгений Онегин», гл. VI.)
Лицо драматурга казалось более полным, свежим и спокойным, нежели в последние дни его страданий. Легкая, торжествующая улыбка на устах как бы подтверждала так еще недавно во время очередного приступа удушья вырвавшиеся у него слова: «Нет, лучше смерть, чем такая жизнь» 28.
Влево от изголовья почившего, на почтительном расстоянии, облаченный в стихарь, стоял, уныло читая псалтырь, местный дьячок — неизменный спутник драматурга по рыбной ловле, щелыковский «морской министр», И. И. Зернов.
Через столовую непрерывно тянулись люди, по преимуществу крестьяне, пришедшие поклониться праху покойного писателя. Они скорбно смотрели на драматурга, которого привыкли видеть веселым и участливым, истово, земно кланялись ему и уходили.
Второго же июня, сразу после медицинского засвидетельствования кончины Островского, в Москву и Петербург полетели срочные телеграммы: в театральную дирекцию, ближайшим родственникам, друзьям.
На следующий день осиротевшая семья Островских начала получать глубоко сочувственные телеграммы.
«Не нахожу слов,— телеграфировал 3 июня А. А. Майков,— высказать общего горя. Кропачев сегодня едет к вам» 29.
Александр Николаевич не раз высказывал желание быть погребенным в Ново-Девичьем монастыре, рядом со своим другом А. Ф. Писемским. И согласно этой воле супруга драматурга делала свои распоряжения, извещала его ближайших друзей 30.
Кинешемская общественность, извещенная о проследовании праха Островского через город, также готовилась к его проводам.
Съезд мировых судей в экстренном собрании 3 июня избрал депутацию для присутствия на похоронах писателя. Кроме того, съезд решил убрать траурно паром, на котором должна была переправляться через Волгу печальная процессия, поставить на пароме катафалк для гроба и пригласить оркестр военной музыки для сопровождения тела покойного от пристани до вокзала.
В тот же день городская управа в экстренном заседании постановила: тело покойного драматурга и жителя уезда, как бывшего почетного мирового судьи и как русского народного писателя, встретить особо избранной депутацией на пристани, при переправе через Волгу, и проводить до вокзала железной дороги; на городской торговой площади против исторической часовни в память битвы в 1609 году с польскими панами-захватчиками устроить катафалк; отслужить торжественную панихиду.
Кинешемские девушки и дамы изготовили венок из живых цветов для возложения на гроб.
В то время как в Щелыкове и Кинешме деятельно готовились к проводам усопшего драматурга, в Москве 3 июня появились первые печатные известия о его смерти. Они были очень кратки. «Московские ведомости» сообщали: «Сегодня в поздний час ночи получено прискорбное известие о смерти маститого драматурга Александра Николаевича Островского» 31. «Московский листок» писал: «Еще тяжелая незаменимая утрата! Мы получили прискорбное известие, что знаменитый драматург Александр Николаевич Островский вчера, 2 июня, скончался в своем имении Кинешемского уезда, Костромской губернии. Мир праху твоему, великий русский писатель и истово русский человек!» 32.
4 июня около двух часов дня в Щелыково приехали представитель Общества драматических писателей, личный секретарь покойного по репертуарной части московских театров Н. А. Кропачев, брат усопшего М. Н. Островский и старинный друг драматурга купец И. И. Шанин.
В этот же день родственники Марии Васильевны доставили в Щелыково металлический, герметически закрывающийся гроб, предназначенный для перевоза праха драматурга в Москву. В соответствии с этими приготовлениями в прессе появились первые известия. «Тело Александра Николаевича,— сообщали «Костромские губернские ведомости»,— предполагается перевезти в Москву» 33.
В связи с приездом Михаила Николаевича и других родственников состоялся семейный совет. На этом совете было решено, изменив первоначальное решение о немедленном перевозе тела драматурга в Москву, похоронить его в Бережках, рядом с отцом.
Какие причины определили это решение?
Отвечая на этот вопрос, корреспондент «Русских ведомостей» Ф. Н. Милославский писал: «Родные покойного, не получая из Москвы никаких официальных приглашений перевезти в столицу прах Александра Николаевича, изменили свое намерение и решили похоронить его в имении, где покоится прах его отца и где предполагается сделать общий семейный склеп фамилии Островских. Говорят, что на это решение в особенности повлиял брат покойного М. Н. Островский» 34.
Подобное сообщение напечатали и другие газеты: «Новости», «Петербургский листок», «Русский курьер» 35.
Это сообщение вызвало резкую отповедь «Московского листка», корреспондент которого обвинил «Русские ведомости» и другие газеты в напечатании якобы лживого сообщения. Он утверждал, во-первых, что семья покойного Островского имела право перевезти тело драматурга в Москву, не дожидаясь какого-то официального приглашения, во-вторых, что такое приглашение получено семьей Островского от имени управляющего московскими театрами А. А. Майкова и, в-третьих, что семья драматурга не изменяла своего первоначального решения и похоронила его в Щелыкове временно.
Корреспондент «Московского листка», ссылаясь на свою беседу с супругой покойного, разъяснял далее, что на решение похоронить драматурга «временно» повлияли следующие причины: 1) желание брата покойного, М. Н. Островского, настоятельно заявившего, что «здесь лежит наш отец, здесь похороним брата и здесь же лягу я»; 2) вдова покойного, М. В. Островская, находилась в таком ужасном горе, что не только ехать на торжественные похороны в далекий путь, представлять собою, как глава семейства, официальное лицо,— она и людей не могла видеть и 3) «Москва в июне, несомненно, опустелый город; по крайней мере, никого из друзей покойного не было, даже артисты, и те все разъехались, а призывать их из летних резиденций, лишать временного летнего отдыха, никто не пожелал. Вот, несомненно, причины, повлиявшие на временное упокоение тела покойного в Щелыкове. Мало того, М. Н. Островский заметил, что если семейство покойного к осени останется при своем желании похоронить А. Н. Островского в Москве, то он ничего не будет иметь против этого и сам выхлопочет разрешение на то» 36.
Цель данной корреспонденции была ясна — отвести газетные сообщения об отсутствии официальных директив по поводу перевоза праха драматурга в Москву. Эту корреспонденцию, отражавшую настроение враждебных Островскому консервативно-бюрократических кругов, писал Н. Н. Овсяников, чиновник особых поручений при московской дирекции императорских театров. Его присутствие на похоронах, как и корреспонденция, не понравились близким Александра Николаевича. Характеризуя этого чиновника, Н. А. Кропачев писал: «По обыкновению своему молоть вздор, он и в газету с апломбом сообщил много пустяков» 37.
«Русские ведомости», как и другие газеты, по тактическим соображениям, не отвечали корреспонденту «Московского листка», но истинной была именно их информация.
Родственники Островского правильно учли, что перевоз тела писателя, пользующегося всенародной популярностью, является общественно-политическим делом и должен совершаться при наличии желания и воли высших правящих сфер, в данном случае, очевидно, при непосредственном участии министерства императорского двора.
Но сверху, из Петербурга, никаких указаний о перевозе тела драматурга в Москву и в связи с этим об отдании ему почестей, соответствующих его общественному значению, не было. В этих обстоятельствах руководствоваться «приглашением» А. А. Майкова 38, ближайшего друга и сослуживца драматурга, родственники не могли. Чтобы не встретиться с еще большими неприятностями, оскорбительными для памяти покойного, было решено выждать и под предлогами, указанными корреспондентом «Московского листка», временно похоронить драматурга в Щелыкове.
4 июня, опасаясь жары, тело А. Н. Островского сочли необходимым перенести в церковь.
В 6 часов вечера местным духовенством была отслужена панихида, на которой присутствовали все родные, близкие и знакомые, оказавшиеся налицо, за исключением убитой горем Марии Васильевны.
После панихиды бывшие в доме мужчины переложили тело писателя из временного тесового гроба в цинковый. По недосмотру со стороны потерявших голову членов семьи, Островский оказался в форменном вицмундире театрального ведомства, в который по собственному усмотрению обрядила его прислуга. В этом факте проявились трогательные чувства прислуги к почившему драматургу, ее желание нарядить его в самую красивую одежду. А между тем парадный вицмундир театрального ведомства считался неудобным для усопшего православного христианина. Произошло замешательство. Но переодевать покойного было уже поздно.
К выносу тела в столовую ввели Марию Васильевну. Сраженная неожиданно свалившейся бедой, она даже слегка поседела и «видимо, ничего не сознавала. Всхлипывая, она взяла руку усопшего, потрясла ее и впала в сильный обморок. Ее успели подхватить и вынесли на руках» 39.
Около 8 часов вечера из дома в соседнюю приходскую церковь, что на погосте Бережки, находящуюся в двух верстах от Щелыкова, двинулся печальный кортеж. Впереди, как требовал православный обряд, несли иконы и крест с распятием, затем шли певчие и духовенство, за ними лица с венками: металлический с фарфоровыми цветами и надписью на лентах «Незабвенному А. Н. Островскому от друзей — дворян Кинешемского уезда» нес П. Ф. Хомутов; серебряный с позолотою венок в виде лавровых ветвей на бархатной подушке, от Общества драматических писателей и композиторов, нес секретарь покойного Н. А. Кропачев. Затем несли, чередуясь, родные, знакомые и местные крестьяне открытый гроб, украшенный роскошным покровом, шитым золотом по матовому фону с золотыми крестами.
Гроб сопровождали и пешие и в экипажах. Процессия замыкалась массой крестьян и крестьянок.
В церкви после панихиды, по приказанию Михаила Николаевича, гроб закрыли наглухо.
В эти дни основной артистический состав Московского Малого театра находился в Варшаве. Объявленный на 3 июня спектакль включал 1-й и 2-й акты «Горе от ума», 1 сцену «Русалки» и комедию-шутку в трех действиях «От преступления к преступлению».
Получив известие о внезапной кончине Островского, труппа решила выпустить из спектакля комедию-шутку и, отменив назначенное на 4 июня прощальное представление, выехала после совершения по усопшем панихиды в Москву.
Артисты Малого театра, все деятели литературы и театра были в полной уверенности, что Островский будет похоронен в Москве, и ждали прибытия печального поезда. 4 июня из Щелыкова была получена телеграмма о том, что похороны Александра Николаевича состоятся в Щелыкове, но ехать туда уже было поздно. Этим и объясняется отсутствие артистов, друзей, ревностных почитателей Островского на его похоронах.
Весь театральный мир горько оплакивал драматурга. М. Н. Ермолова восприняла эту смерть как огромную личную утрату и, не имея сил сдержаться, громко, безутешно рыдала на протяжении всей заупокойной панихиды, на которую собрались артисты Малого театра.
Панихиды по усопшем драматурге, как официально дозволенная форма выражения общественной скорби, служились во многих городах страны. Из Москвы, Петербурга, Саратова, Костромы и других городов, от разных учреждений и лиц в Щелыково летели телеграммы с выражением соболезнования.
4 июня писатель С. В. Максимов из Петербурга телеграфировал: «Великое горе отечества. Горе друзей неизмеримо». В тот же день Саратовское драматическое общество извещало, что оно «присоединяется к общей скорби об утрате родного драматурга» 40.
Все предшествующие дни стояла по преимуществу пасмурная, дождливая погода, но 5 июня небо начало проясняться. Устанавливалась хорошая погода.
Заупокойная литургия началась довольно поздно, около 12 часов, так как ожидали прибытия родных и знакомых, пожелавших лично почтить память Александра Николаевича.
Опоздав на литургию, около двух часов дня в Щелыково приехали: из Москвы — управляющий московскими театрами А. А. Майков, сын покойного — Сергей 41, брат и сестра — Петр Николаевич и Мария Николаевна Островские; из Костромы — представитель местного губернатора Арцимович, костромской губернский предводитель дворянства А. И. Шипов, управляющий государственными имуществами Костромской и Ярославской губерний А. А. Герке и члены костромского окружного суда; из Иваново-Вознесенска — управляющий местным отделением государственного банка Д. П. Яковлев; из Кинешмы — мировые судьи (С. Г. Сабанеев и М. П. Куприянов), представители кинешемского земства (Д. А. Синицын и другие).
В этот день в Щелыково приехали также и корреспонденты газет.
Встретив вновь прибывших, все направились в церковь, уже заполненную с утра народом.
А. А. Майков возложил на гроб драматурга венок из живых роз от дирекции императорских театров. Другие венки лежали у подножия гроба на подставке, застланной черным бархатом. Металлический венок от деятелей судебного ведомства Костромы и Кинешмы возложил судебный следователь 2-го участка Кинешемского уезда О. Л. Бернштам.
Крестьяне забросали гроб ландышами, которые так любил Островский.
Родные покойного, друзья, знакомые, крестьяне близлежащих деревень, не умещаясь в маленькой церкви, заполнили и ее ограду. Отдать последний долг великому писателю и душевному человеку явились люди различных званий, рангов и чинов, но в подавляющем числе — крестьяне.
Не могла прийти сюда лишь Мария Васильевна да ухаживающие за ней. Она лежала в эту пору без чувств в темной комнате осиротелого дома.
По окончании отпевания и последнего прощания, полного скорбного трагизма, гроб с прахом Александра Николаевича Островского подняли на руки и, осторожно спускаясь по деревянным ступенькам лестницы, ведущей к выходу, вынесли из церкви.
Это было в исходе третьего часа, когда небо окончательно прояснилось и показалось солнце.
Впереди шли певчие и духовенство. За ними — представители учреждений и общественных организаций с венками. За венками несли гроб, сопровождаемый родными и близкими друзьями. Шествие замыкали крестьяне 42.
В церковной ограде, около южной стороны храма, саженях в восьми от алтаря, если стать к нему лицом, на площадке, обнесенной чугунной решеткой, рядом с могилой отца покойного была приготовлена новая, выложенная из кирпича могила-склеп. На дощатый помост могилы поставили серебристо-матовый гроб. Началось последнее молебствие, после которого духовенство удалилось.
К краю могилы подошел с венком в руках Н. А. Кропачев и начал простую, задушевную речь:
«Мир праху твоему и покой вечный, великий труженик-писатель, честный, бескорыстный общественный деятель, любвеобильный друг-человек! ...Горе, в котором мы оплакиваем тебя, это и общее, великое русское горе-злосчастье!..».
Кропачев говорил о том, что без ушедшего драматурга осиротели русская литература и театральная сцена, о великих его заслугах как воспитателя многих поколений простых людей и артистов:
«Из темного царства, из мрака невежества и заблуждений ты выводил людей на путь ясный, открытый... Созданною тобой драмой ты осветил их умы, смягчил сердца, вдохнул в них чувства человечности... Велик твой добрый гений! Велики твои заслуги для Русской земли!».
Он говорил о бессмертии произведений драматурга, которые будут просвещать и воспитывать новые и новые нарождающиеся поколения.
Речь Кропачева была прервана случившимся с ним обмороком, но он скоро пришел в себя и закончил ее следующими словами:
«Почивай же себе с миром и любовью, слава русской драматической сцены и всего дорогого тебе отечества! ...Свершилось твое предчувствие: закончен последний акт твоей жизненной драмы!» 43.
Вспоминая эти минуты, Кропачев впоследствии писал: «Нелегко было произносить эти слова над прахом того, кого я так беззаветна любил, кому был безгранично предан и с кем почти неразлучно проводил последние дни его жизни в Москве. Нас разделяли только ночи. Поэтому естественно было мое волнение. Подступившие к глазам слезы и к горлу рыдания душили меня...
Слова ли мои, мой ли убитый вид произвели на окружающих свое впечатление. Притаенные на время рыдания, безмолвный плач и всхлипывания снова вырвались наружу. Старшая дочь покойного, Мария Александровна, впала в обморок. Может, своими словами я облегчил и скорбную душу Михаила Николаевича. Он, по засвидетельствованию А. А. Майкова, очень плакал» 44.
И вот зашумела земля, сбрасываемая лопатами. Это было в 3 часа 15 минут.
Над могилой скоро вырос маленький плотный курган, тотчас же забросанный садовыми и полевыми цветами, зеленью. Водруженный на нем и покрытый венками простой деревянный крест имел на себе только краткую надпись: «Александр Николаевич Островский». Предполагалось, что все это на короткое время, до осени.
В метрическую книгу церкви погоста Бережки в этот день записали: «Июня второго помер, похоронен пятого числа, помещик усадьбы Щелыково, губернский секретарь Александр Николаевич Островский 63 лет, от разрыва сердца. Погребение совершили... на приходском кладбище».
Но находившиеся в то время на погосте Бережки, а также и мысленно присутствовавшие здесь многочисленные почитатели умершего хоронили не помещика и губернского секретаря, а великого писателя русской земли. Выражая их настроения, поэт С. Рыскин в посвященном Островскому стихотворении, напечатанном в «Московском листке» в этот день, писал:
Кому не дорог он?.. Кому и где не знаем?..
Кто с именем его в России не знаком?..
Не всей ли Русью мы венчали и венчаем
Его творения бессмертия венком?..
Покроет гроб его лавровыми венками,
Слезой их оросив, вся Русская страна!..
Века пройдут, сменяяся веками,
Но памяти о нем не сгладят времена! 45
В этот же день, то есть 5 июня, в «Русской газете» сообщалось, что все находившиеся в Петербургской думе единогласно приняли предложение М. И. Семевского: 1) выразить вставанием с мест уважение к памяти драматурга, 2) послать письмо с соболезнованием вдове покойного, 3) возложить на свежую могилу венок от Петербургского городского общественного управления.
По окончании погребения все присутствующие были приглашены в дом почтить память усопшего трапезою.
Поминальный обед начался в пятом часу. Мария Васильевна, сраженная несчастьем, не смогла быть и на этом обеде. Потребовалось долгое время, чтобы она пришла в себя. Через шесть недель, 15 июля, она писала Н. С. Петрову: «Смерть моего бесценного мужа так сразила меня, что я до сих пор еще не могу опомниться» 46.
На обед приглашали очень широко. «Когда,— вспоминает крестьянка села Твердово Е. П. Теплова,— поминок был по Александре Николаевиче, то всех накормили. Были наделаны большие дощанины (столы. — А. Р.), за ними и кормили всех крестьян...» 47.
Обед прошел грустно-молчаливо, в сознании тяжелой, невозвратной утраты. По окончании его все быстро разошлись и разъехались.
«Так скромно,— свидетельствовали «Московские ведомости»,— совершился акт погребения нашего маститого драматурга» 48.
Телеграммы и письма о выражении скорби и глубокого сочувствия по случаю неожиданной кончины А. Н. Островского продолжали поступать в адрес его жены и брата Михаила Николаевича и после похорон. Артисты харьковских театров б июня телеграфировали семье покойного, что ее тяжелую утрату разделяет «вся громадная Россия». Воронежская городская дума в заседании 9 июня, выслушав с глубокою скорбью весть о вечном упокоении незабвенного драматурга Александра Николаевича Островского, постановила «выразить семье Островского сердечное соболезнование в постигшем ее горе» 49. 17 июня Московская городская дума вынесла решение: на 20-й день со дня смерти драматурга заказать по нем панихиду; выразить соболезнование вдове Островского; возложить на могилу драматурга венок; открыть народную читальню его имени. 21 июня гласным С. В. Добровым, во исполнение постановления Московской думы от 17 июня, на могилу Островского был возложен лавровый венок с двумя белыми лентами с надписью на них: «Александру Николаевичу Островскому — Москва».
Примерно в это же время, в двадцатых числах, приготовлением и доставлением венка на щелыковскую могилу были заняты и артисты труппы Московского Малого театра. Члены Костромского общества любителей музыкального и драматического искусства, глубоко опечаленные неожиданной кончиной Островского, 6 июля писали Марии Васильевне, что они «просят... принять от лиц родного ему края выражение искреннего сочувствия и сердечной скорби Вашей. Заслуженная покойным бессмертная память лучшее утешение Вам и семейству Вашему». 16 июля, принося дань уважения покойному драматургу, артисты из Чердыни выражали «искреннее соболезнование по неизмеримой утрате и с чувством глубокой горести преклонялись перед памятью навеки уснувшего великого писателя» 50.
Ожесточенную борьбу прогрессивных и консервативных сил, сопровождавшую весь творческий путь А. Н. Островского, не приостановила и его кончина.
Вся прогрессивная общественность страны скорбела о невозвратимой утрате — смерти великого драматурга, одного из основных создателей национального репертуара 51.
В некрологе газеты «Новости» говорилось: «В Островском русская литература понесла такую утрату, которую невозможно на первых порах даже объять и оценить. В Островском умер великий, единственный у нас театральный авторитет, стяжавший общее признание сорокалетним, многосторонним опытом, глубоким художественным проникновением в тайны искусства и высоким критическим чутьем правды жизни на сцене.
В Островском умер творец русского истинно народного театра: В Островском умер, наконец, один из благотворнейших по своему влиянию русских общественных деятелей...» 52.
Характеризуя Островского как одного из ведущих создателей национальной драматургии, «Русский курьер» отмечал:
«Фонвизин, Грибоедов, Гоголь (последний, конечно, более всего) лишь пролагали путь «русской комедии», были, так сказать, предвестниками грядущего вслед за ними «отца ее», но не были сами отцами: они сказали первое слово, но не они развили его, сделали понятным, привили его к обществу» 53.
Указывая на крупную и еще ни в какой степени не оцененную критикой роль Островского в истории русской драматической литературы и сцены, харьковская газета «Южный край», отличавшаяся передовым направлением, спрашивала: «Но кому не известно, что более четверти столетия автор «Грозы» был чуть ли не единственный писатель, который давал тон и направление серьезному театральному репертуару и, так сказать, выносил его на своих плечах? Кому не известно, что драмы и комедии Островского вытеснили со сцены трескучие мелодрамы и бессмысленные фарсы и водевили, эту смесь французского с нижегородским, которая так долго дурманила публику и разменяла на мелкую монету столько истинно прекрасных артистических дарований? Кому не известно, что Островский был в нашей драматической литературе самым ярким выразителем и самым даровитым проводником художественных преданий, завещанных Гоголем, как автором «Ревизора» и «Женитьбы», и Пушкиным, как автором «Бориса Годунова» и «Русалки» 54.
Перекликаясь с газетой «Южный край», автор статьи, напечатанной в «Курском листке», утверждал, что Островский, продолжая лучшие традиции предшествовавшей ему отечественной драматургии, не только положил основание русскому театру, в широком смысле этого слова, но и «создал национальный русский театр», «указал путь драматургии нашего времени», выдвинул артистов нового типа: «вместо завывающих широкоплечих трагиков — на сцене появились актеры жизни, правды. Помпезный пафос сменился тонкою обрисовкой характеров, умением из отчетливо сотканных деталей создавать цельный, жизненный тип» 55.
Киевская газета «Заря» особо оттеняла речевое богатство и мастерство драматургии Островского 56.
Более или менее прогрессивные газеты, видя в Островском творца бессмертных произведений, крупного общественного деятеля, смелого преобразователя на посту начальника репертуара московских театров, характеризовали его и как замечательного человека. Они отмечали его крайнее добросердечие, его простоту в отношении с людьми, его исключительную благожелательность к начинающим писателям, его удивительную деликатность в отношениях с артистами.
Выражая чувства и мысли всей прогрессивной общественности, газета «Новости дня» заключила свою статью следующими словами: «Мир праху твоему, великий учитель, могучий и честный художник! Ты прожил жизнь свою не даром, и слава о тебе не умрет, пока на земле живет народ русский и звучит русская речь» 57.
Кончина Островского, вызвавшая глубокую скорбь всей прогрессивной общественностью, обрадовала представителей реакции. Свою враждебность к народному драматургу охранители тогдашнего социально-политического режима не могли скрыть даже и в дни его похорон.
Эта враждебность проявилась в самых разнообразных формах.
Так, например, сугубо консервативный журнал «Чтение для народа» и газета «Сельский вестник» игнорировали смерть Островского. Для них, пропагандировавших в народе идеи религии и самодержавия, Островский не являлся деятелем, заслуживающим горестного, сердечного отклика, доброго слова. В то время как журнал «Чтение для народа» обошел смерть Островского молчанием, газета «Петербургские ведомости», редактировавшаяся известным реакционным публицистом и романистом В. Авсеенко, выступила против покойного драматурга с кощунственным наветом. В день похорон писателя эта газета цинично провозгласила, что в его творчестве почти всегда преобладал «наблюдатель будничного быта и, так сказать, физиологической мелкоты и пошлости». И вследствие этого, при его «безраздельном царствовании на сцене», он якобы понизил и драму, и театр» 58.
Резко враждебные выступления махрово-консервативных кругов против Островского прозвучали не только в печати. Они громко раздались, например, с трибуны Московской думы. Когда гласный П. Н. Сальников внес предложение почтить память драматурга, то Д. В. Жадаев заявил о его отводе. Сей московский купец доказывал, что «Думе до похорон Островского нет никакого дела, и ей не следует расходовать деньги на чествование его памяти» 59.
Не случайно, что на похоронах Островского не было ни одного влиятельного официального лица ни из Петербурга, ни из Москвы, ни даже из Костромы. Костромской губернатор счел вполне достаточным прислать чиновника по особым поручениям.
Симптоматично, что надгробное слово произносил даже не Майков, управляющий московскими театрами, искушенный в приготовлении спичей и речей, а Н. А. Кропачев — человек не только не официальный, но и безвестный. Хорошо понимая свое несоответствие для произнесения речи на могиле Островского, Кропачев с обидой за драматурга сказал в своих воспоминаниях: «Да не мне бы и говорить было речь» 60.
Официальный Петербург многозначительно молчал, и это молчание сковывало уста Майкова. Не имея необходимого сигнала, он, как служебное лицо, не имел права произносить речь, которая завтра же становилась достоянием всей страны. А ведь министр императорского двора И. И. Воронцов-Дашков 2 июня прибыл в Москву. Вероятно, А. А. Майков был у него и, возможно, получил какие-то указания, обрекшие его на молчание.
Местные представители власти проявили особое усердие на похоронах драматурга лишь благодаря присутствию его высокопоставленного брата. Управляющий государственными имуществами Костромской и Ярославской губерний, разумеется, приехал не на поклонение писателю А. Н. Островскому, а на поклон к министру государственных имуществ М. Н. Островскому.
Благодаря стараниям консервативных кругов, отклики сочувствующей Островскому прогрессивной общественности по поводу его кончины оказались приглушенными, суженными, а ее намерения — неосуществленными. И похороны драматурга, в явном несоответствии с его колоссальной ролью в литературе и театре, прошли до чрезвычайности скромно.
В борьбе против передовой общественности, стремившейся превратить похороны Островского в событие общенационального значения, правящие реакционные круги использовали все свои явные и тайные рычаги, чтобы ограничить волну откликов на смерть великого драматурга, а затем и сорвать план перенесения праха Островского в Москву. И они этого добились.
Сообщая о похоронах Островского, все газеты, вслед за «Московским листком», указывали на то, что щелыковская могила — «временное упокоение его праха» 61.
Театральный критик С. В. Васильев-Флеров, излагая причины, по которым похороны Островского прошли до чрезвычайности скромно (растерянность семьи, летний разъезд артистов и писателей, позднее сообщение), высказал твердую надежду, что «Москва еще почтит прах Островского, когда он будет привезен сюда для предания земле рядом с прахом Писемского» 62.
Однако ни в сентябре, ни в октябре 1886 года прах Островского не привезли в Москву. И не по вине его родных. Будучи обличителем дворянско-буржуазного режима, выразителем демократической идейности, Островский не пользовался расположением тогда господствовавших социальных кругов. По правильному выражению М.И. Писарева, дирекция императорских театров творила против него до самого последнего дня «подлые мерзости» 63.
После физической смерти Островского властвующие общественные круги старались предать забвению и его духовное наследство. Главную роль в этом походе против наследия великого национального драматурга играл И. А. Всеволожский — директор императорских театров. Этот бюрократ, чуждый русскому искусству, ненавидевший его, был отвратен и как личность.
Островский не обманывался в отрицательной его оценке. А.С. Суворин вспоминает, что за год до смерти драматурга он был у него, говорили о театре и, естественно, о Всеволожском. Александр Николаевич «начал ужасно нападать на Потехина и Всеволожского. Я сказал несколько слов в защиту последнего,— в том смысле, что он добрый человек, Александр Николаевич рассвирепел и, отодвинув ящик у стола, вынул оттуда карточку Всеволожского и, показывая ее мне, сказал: «Видите эти глаза. Это оловянные глаза. Такие глаза бывают только у злых людей. Это злой и мстительный человек при всей его ничтожности и бесхарактерности» 64.
Обстановка, сложившаяся к осени 1886 года, когда предполагалось совершить перенесение праха Островского из Щелыкова в Москву, ни в какой мере не благоприятствовала осуществлению последней воли драматурга. Усиливавшаяся социально-политическая реакция властвовавших кругов всемерно содействовала противникам Островского, всячески умалявшим его роль в развитии отечественного искусства, в особенности же драматургии и театра.
Сочувствующие драматургу социальные круги оказались бессильными что-либо сделать для перемещения его праха в Москву. Семья Островского, не имея официальной поддержки, принуждена была молчаливо отступить.
Вот почему прогрессивная общественность помянула драматурга в полугодие со дня его кончины только панихидами, открытием в Москве, по постановлению Городской думы, бесплатной народной читальни и лекциями проф. Незеленова в Петербурге.
Но при этом, разрешая на Арбате в Москве народную читальню в память А.Н. Островского, самодержавная власть проявила максимальную осторожность и предусмотрительность. Получив ходатайство городского головы об открытии народной читальни, московский генерал-губернатор обратился к старшему инспектору по делам печати с запросом, «не встречается ли со стороны инспекторского надзора по делам печати в Москве каких-либо препятствий» 65.
Не найдя препятствий, читальню разрешили, но с условием ее подчинения «непосредственному надзору инспекции по делам печати в Москве и чтобы о лице, имеющем занять должность заведующего ныне открываемой читальни, было своевременно доведено до сведения генерал-губернатора» 66. К исполнению обязанностей заведующей этой читальней девица Барановская была допущена только после того, как канцелярия московского обер-полицмейстера уведомила, «что домашняя учительница, Александра Ивановна Барановская, нравственных качеств одобрительных и к делам политического характера в Москве не привлекалась» 67.
Профессор А. И. Незеленов, отдавая дань памяти Островского, 24 октября начал серию лекций о его творчестве 68. Касаясь холодности, с которой было встречено известие о смерти драматурга, он объяснил это явление охватившей общество той поры гнетущей апатией ко всему окружающему 69.
Театральный критик С. В. Васильев-Флеров, выражавший в июне твердую надежду на перенесение праха Островского в Москву, примирился с тем, что могила Островского останется в Щелыкове. И в декабре, по поводу литографического издания рисунка «Могила А. Н. Островского», заявил: «Могила последнего успокоения наиболее народного из русских драматургических писателей не могла найти себе более поэтической, более народной обстановки, как это тихое кладбище. Это удивительная картина, дающая удивительное настроение. Мир праху великого нашего писателя» 70.
Встретив первые пьесы Островского цензурным запретом и полицейским окриком, уволив его как неблагонадежного из Коммерческого суда, противодействуя всеми средствами и способами дальнейшей его творческой деятельности, властвующая клика добилась, что прах его был оставлен в глухом лесном углу. Но этого оказалось мало. Явно спеша и не соблюдая даже элементарного такта, Всеволожский рьяно принялся вытравливать все начинания Островского в области театральных преобразований. Распоряжения, отданные Островским, отменялись, заключенные им контракты расторгались. Проявляя свойственную ему мелкую мстительность, Всеволожский возглавил поход против всех артистов и чиновников, связанных с Островским дружескими или деловыми отношениями. Особенно тяжело приходилось ближайшим друзьям Островского.
П. А. Стрепетова, теснимая и гонимая Всеволожским и его кликой, кровью сердца писала 16 ноября 1888 года Н. С. Петрову: «Неужели можно все творить, что захочется, с человеком, у которого ничего нет, кроме чести!» 71/ Прошло немного более года, и она, обращаясь за помощью к Петрову, со скорбью произносит: «Если бы Вы знали, как эта глухая борьба со злобой убивает здоровье» 72.
В 1889 году сняли с поста управляющего московскими императорскими театрами А. А. Майкова, рекомендованного на эту должность А. Н. Островским.
Вспоминая расправу театральной дирекции с лицами, поощряемыми или вновь принятыми на службу Островским, Кропачев писал: «...вскоре после упразднения нового управления, одних из них — деловитых чиновников, обративших на себя особое внимание Александра Николаевича — оставили за штатом, а других уволили по истечении контрактного срока» 73.
О том же свидетельствовали и другие современники драматурга. «По кончине Островского,— писал артист Д. И. Мухин,— в некоторых артистах поселилось убеждение, что все пользовавшиеся его расположением, в случае оставления службы управляющим театрами А. А. Майковым, непременно пострадают от уцелевших начальников. Действительно, так и случилось со многими» 74.
В 1895 году, делясь своими горестями с Н. Я. Соловьевым, М. И. Писарев писал: «Живу я, друг любезный, скверно. Так скверно, что и говорить не хочется. После смерти А. Н. Островского Всеволожский всю свою ненависть перенес на людей близких покойному и его друзей, из оных [неразб.] не последним был аз многогрешный. Ну и поплатился же я за эту дружбу! Как-нибудь при свидании расскажу, а теперь, право, мутит, и без того тошно...» 75.
Но в дальнейшей борьбе реакционных сил против драматургии Островского и его принципов сценического искусства победителем оказалось все же направление, возглавляемое не Всеволожским, а Островским.