Развиватели
ПОСВЯЩАЕТСЯ
[От составителя]
На обороте титульного листа указано: «Отдельный оттиск из ежемесячных приложений журнала «Звезда». Дозволено цензурою. С.-Петербург, 14 Июня 1903 г.». В анонсах журнала «Звезда» на 1903 год этот роман не значится (см. «Природа и Люди», Спб., № 4, 28.11.1902, с. 67). («Природа и Люди» был журналом Сойкина, который с 1893 г. несколько лет был редактором-издателем и «Звезды», но в 1903 г. ее редактором был уже А.И. Осипов [Википедия]). В рецензии З. [А.Зайцев?] («Природа и Люди», № 13, 29.01.1904, с. 212) о книге сказано: «...роман, рисующий быт и характерные сцены из жизни раскольников верхнего Поволжья. На этом фоне завязывается интрига, темою для которой послужило «развитие» приезжею в городок на этюды художественною богемою жены местного купца, красавицы Фени. Все типы схвачены очень бойко, в особенности московский меценат из фабрикантов и его приятель художник. Сцены староверских словопрений прямо живут. Роман читается с неослабевающим интересом». Спустя полвека с лишним о «Развивателях» напомнила С. Пророкова в книге «Левитан» (М., Молодая гвардия, 1960, серия «Жизнь замечательных людей», с. 104-108). Отозвавшись о романе как о пасквиле, Пророкова тем не менее позаимствовала оттуда ряд деталей для своего рассказа и, что еще важнее, сделала достоянием общественности то, что раньше обсуждалось за пределами Плёса лишь в узких кругах, а именно — что Львовский в романе — это Левитан, Хрустальникова — это подруга художника Кувшинникова, Зимин — это Савва Морозов[1], Полушкин — купец Грошев, а его жена — Анна Александровна. С «пасквилем» Пророкова, на мой взгляд, явно переборщила, у Полилова Левитан отнюдь не душа интриги,хотя, конечно, и не просто «невольный свидетель этой истории», каким хочет видеть его Пророкова. Во всяком случае я скорее поверю Полилову, чем Пророковой, тем более, что последняя сама же сообщает: «Северцев-Полилов был знаком с Левитаном, виделся с ним в Плёсе» (ук. соч., с. 106).
[1] Позднее Г.В. Панченко было установлено, что это младший брат Саввы Морозова – Сергей Тимофеевич Морозов (http://www.plyos.org/stat/razvivateli-01.html) (Прим. публ.).
Гораздо уважительнее к «Развивателям» и их автору краевед П.И. Моисеев в книге «История города Плес. Город-крепость». «Четвертая поездка Левитана на Волгу состоялась летом 1890 года. По свидетельству писателя Г. Т. Северцева-Полилова, встречавшегося с Левитаном в Плесе, это лето художник прожил в доме, принадлежавшем Философову [в романе — Мудрецов. — Е.Ш.]. Сейчас о существовании здания напоминает лишь небольшая липовая аллея на берегу Волги, напротив дома отдыха Всероссийского театрального общества.
<...> Неоднократно приезжал из Петербурга в Плёс писатель Г.Т. — Северцев-Полилов. Он останавливался в доме своего родственника Петрова — владельца небольшого отделочного предприятия (теперь это главный корпус дома отдыха Всероссийского театрального общества). Хорошее знакомство с жизнью обитателей Плёса помогло писателю в небольшом романе «Развиватели» красочно изобразить быт этого своеобразного городка». (Цит. по: http://www.vokrugsveta.msk.ru/cntnt/ples/istoriya_g.html).
И, наконец, совсем оригинально пишет о «Развивателях» (приводя пространную цитату и даже заимствуя название для одной из главок) А.Д. Ковалев во втором издании книги «Яковлевские ткачи» (Ярославль, 1992, с. 23-25):
«Пройдет не так уж много времени, и Крымов станет в Яковлевском вторым по богатству человеком <...>. В центре села поставит роскошный дом. Жить будет скрытно, всякой огласки бояться пуще огня.
В 1893 году [так. — Е.Ш.] в Санкт-Петербурге вышел роман
Г. Северцева-Полилова «Развиватели» — о местных, в основном плёсских, купцах и фабрикантах. Много лет ездил гостить в Плес к купцу Петрову автор этого романа, и неудивительно, что местную жизнь знал хорошо.
Когда роман прочитали в Плесе и Яковлевском, то без труда узнали в каждом герое его прототипа: в главном герое — Полушкине — плесского купца Грошева, в фабриканте Е.С. Китайкине — Е.С. Крымова и т.д. А связь между Полушкиным и Китайкиным была такова: Крымов выдал за Грошева свою приемную дочь, которая, не выдержав грубости и хамства мужа, атмосферы купеческой среды, пыталась бежать, но была поймана и возвращена домой. Перелистаем страницы романа, относящиеся к описанию Яковлевского (в романе село Горстенево) и характеристике Крымова — Китайкина.
Герой романа Полушкин едет на тарантасе из Плеса в Горстенево. Разбитая дорога, замершие по сторонам безлюдные деревни. По утверждению одного из купцов, здесь живут лентяи, работать не охочи, а потому весь этот край разоренный.
Сломанные земские мосты, несмотря на лето, околицы закрыты, и ватаги деревенских ребят бросаются всей оравой открывать ворота с надеждой — не бросят ли баре в пыль медную денежку.
[Далее следует большая цитата из конца XVI и начала XVII глав романа — описание Горстеневского (Яковлевского), дома Китайкина (Крымова) и его самого. — Е.Ш.]
Даже из этого отрывка видно, как автор двояко относится к Китайкину: с одной стороны, он тот «развиватель», который дал своим бедным землякам «верный и хороший заработок», с другой — замершие безлюдные деревни, в которые только на ночь возвращаются рабочие с фабрик Китайкина. Роскошь внутри дома и непролазная грязь снаружи, достаток в семье фабриканта и нищенская жизнь вокруг — вот те видимые «плоды развивательства».
<...> Наследники Грошева и Крымова не хотели, чтобы были опубликованы подробности их жизни. Поэтому они скупали все экземпляры книги, которые могли достать. Специально посланные люди выкрадывали роман из публичных библиотек, и все добытые экземпляры сжигались в кочегарке крымовской фабрики. И сейчас даже такие библиотеки, как московская публичная имени Ленина и ленинградская имени Салтыкова-Щедрина не имеют у себя ни одного экземпляра романа «Развиватели».
Теперь этот пробел будет заполнен.
[Е.Б. Шиховцев, 2009 г.]
ГЛАВА I.
День, полный возрождающихся сил весны, догорал. Солнце мирно склонялось к закату, не по-зимнему прощаясь на долгую беспросветную ночь, но словно говоря: «до скорого свидания». Резко выделялся левый берег Волги, весь залитый фиолетовыми лучами заката, и сумрачно темнели холмы правого. Река тихо катилась в своем ложе. Кругом ни звука, ни шороха. Раннее открытие навигации не позволило волжской флотилии сразу привести себя в порядок. Только «Самолет» да кое-какие пароходы из купеческих бороздили еще свободные после ледохода от нефтяных пятен воды Волги. Смелые «мартыны»* да стрекотуньи ласточки одни нарушали вечерний покой, пронзительно крича и всколыхивая острым крылом водную гладь.
* Чайки-рыболовы (Даль).
Поздний апрель дышал ароматом полей. Отдохнувшая за зимнюю спячку мать-земля выделяла пар под живительными лучами солнца. Природа проснулась, но еще не совсем. Она щурясь глядела на постаревший на целый год мир и готовилась приниматься за свою бодрую творческую работу.
На правом берегу Волги красиво раскинулся по холмам и уступам заштатный городок. Основанный еще в XV столетии, он пережил свое цветущее время, расцвет своей торговой деятельности. Железнодорожные пути отрезали его от центров, гегемония перешла к другим городам и местечкам. Городок умирал, медленно угасая в тине мелких провинциальных интересов. Только летом, благодаря водному пути — Волге, он оживлялся на короткое время; пароходы свистя бежали вниз и вверх по реке, точно отголоском донося в этот забытый уголок новости и события остального мира. Но с первыми льдинами, показавшимися сверху, городок разобщался с центрами и снова погружался в долгую зимнюю спячку, до первых теплых лучей солнца — до весны. Благодаря исключительному живописному положению, прилив в городок художественной богемы, ищущей матерьяла для этюдов и эскизов, замечался с каждым летом все более и более. Зонтики художников белели и вдоль усыпанного мелким булыжником берега, и сквозь частые кустарники орешины и жимолости, всползавшие по холмам от самой реки. Первые дни теплого мая привлекали сюда жрецов искусства на летнюю работу, а темные вечера сумрачного августа гнали их в столицы, в их постоянные студии и школы.
Никого из них еще не было в излюбленном ими летнем приюте искусства в этот мирный апрельский вечер.
В небольшом садике на взгорье, отделенном от Волги красиво извивающейся книзу проезжей дорогою, на скамейке, окутанной темноватой, еле распускающейся зеленью громадного розового куста, сидели мужчина и женщина.
Первый, средних лет брюнет с сильно заметною сединою в волосах и в бороде, с крупным носом, часто поднимался со скамьи, обнаруживая свой высокий рост, нервно подходил к палисаду, выходящему на дорогу, и, снова возвращаясь, оживленно говорил своей собеседнице:
— Посмотри, Рая, как это красиво, как все это великолепно ! — указывая ей при этом на величественно струившуюся реку, на тонущее в фиолетовых волнах заката дневное светило и на картину чутко просыпающейся природы.
Небольшие, поставленные над выдающимися немного скулами, глаза говорившего как-то искрились, лицо озарялось улыбкой. Видно было, что все его радует, что его восхищение неподдельно.
Молодая, сравнительно с ним, женщина мало обнаруживала любопытства, она, лениво прищуриваясь, смотрела на указанную ей картину и равнодушно повторяла:
— Очень красиво, Витя! — хотя было заметно, что она говорит совершенно машинально и думы ее витают где-то далеко отсюда.
Мужчина, не замечая этого или не желая обращать внимания, продолжал восторгаться красотами природы, в то время как небольшая, полная фигура его собеседницы, с направленным вдаль взглядом, была точно погружена в нирвану.
— Ты что же, заснула? — прозвучал снова голос брюнета.
Молодая женщина вздрогнула и недовольно прошептала:
— Фу, как ты меня испугал, Витя, я действительно задумалась и забылась. Что-то стало прохладно, не идти ли уж в комнаты, ведь еще апрель, а не май!
С этими словами она поднялась со скамейки и пошла к веранде, вслед за нею зашагал и ее собеседник. Из-под скамейки, где они сидели, выполз ульмский дог* и неохотно поплелся следом.
* По сведениям из Интернета, порода формально выведена в 1863 году, а в 1878 году переименована в немецкого дога, но известна картина «Ульмский дог» И.К. Мерка 1705 года (http://www.openspace.ru/literature/projects/73/deta ils/638/).
Виктор Семенович Перегудов лет двенадцать проживал в этом городке. Страстный любитель патриархальной свободы, не стесненной узкими рамками столичной жизни, он переселился сюда с женою, Раисой Владимировной, через три года после своего брака. Небольшой химический завод, устроенный здесь Перегудовым, шел довольно хорошо, дохода с него вполне хватало на их скромную провинциальную жизнь. Детей у них не было, и они жили безбедно в своем домике над Волгой.
Раиса Владимировна, купеческая дочь из столицы, моложе своего сорокапятилетнего супруга лет на четырнадцать, вначале радовалась переезду сюда. Сутолока столичной жизни и ей надоела.
Переселение Перегудовых в городок совершилось весною, когда здесь действительно, после пыльной столицы, все глядело раем, все дышало покоем. Но умчалось лето, поблекли краски умирающей природы, заглохла жизнь на реке, и молодая женщина, в первый раз оторванная так далеко от родных, сразу почувствовала себя, точно ее опустили куда- то глубоко на мягкую тину речного ложа. Все кругом опустело, все смолкло, жизнь замерла до будущей весны.
Отсутствие мужа, чуть не все полдня находящегося на заводе, крайне ограниченный круг знакомых, к тому же чуждый ей по своим воззрениям, взглядам и развитию, — заставили молодую женщину скучать и тоскливо целыми часами проводить время в ничего неделании, прижавшись в уголке на диване, в ожидании возвращения мужа с завода.
Раиса Владимировна старалась сократить свое одиночество пением, игрою на рояле, писанием писем родным, но и это все ей наконец надоело. Интерес сосредоточился на одном только хозяйстве, хотя последнее не могло занять всего свободного времени, и одуряющая тоска, спутница всех медвежьих углов нашей родины, вполне овладела молодою женщиною.
Она жила одними мечтами и воспоминаниями. Часто ее мысли переносились в блестящий водоворот столичной жизни. Ей грезились вечера в родительском доме, первые, весело прожитые годы замужества, когда ее Витя еще не был таким поклонником провинциального покоя. У них был свой небольшой, но хорошо подобранный круг знакомых, она часто выезжала в театры и концерты, летом жила на даче в Павловске. Правда, в то время Раиса Владимировна чувствовала усталость за три года беспрерывного ряда удовольствий и как-то невольно стремилась на лоно природы. Она никогда до тех пор не выезжала из столицы, и ее представления о провинции и ее жизни были крайне смутны. Молодая женщина, недурненькая собою, принужденная обстоятельствами жить в глухом городке, к чему она еще недавно так стремилась, теперь только поняла, как трудно и скучно ей, привыкшей к столичной суете и оживлению, зимовать в этом отрезанном от мира уголке.
Тоскливо тянулись дни длинной, слезливой осени, впервые проведенной Перегудовой в городке; зима, несмотря на раннюю темноту и морозы, понравилась ей больше. Прогулки с мужем в санях к соседям, морозный, бодрящий воздух, блестящая скатерть снежного покрова, разостланная над застывшею Волгою и лугами ее левого берега, поскрипыванье полозьев, — все эти новые для Раисы Владимировны картины и впечатления заставили ее отчасти позабыть неприглядную физиономию минувшей осени. Она чувствовала себя веселее и бодрее.
Частые отлучки мужа на завод, куда она от нечего делать ежедневно прогуливалась, заставили молодую женщину заинтересоваться заводскою деятельностью и помогать мужу.
Занятие было найдено, и первая зима быстро промелькнула незаметно для Перегудовых. Ранним летом к ним приехали погостить родственники, скучать было некогда. Раиса Владимировна сживалась с провинциальною тишью. Годы шли, и однообразие жизни опять начало ее томить, занятия на заводе ей опротивели. Она снова проводила целые дни, ничего не делая, тоскливо ожидая какой-либо перемены в этом размеренном, медленно ползущем жизненном прозябании. С первым дуновением весны, с первыми ласковыми лучами солнышка, Перегудова вся оживала, мысли летели куда-то далеко-далеко. Она, точно случайно перезимовавшая на холодном севере пичужка, рвалась туда, на юг, к солнцу, к теплому морю. Ее не манила столица, с ее шумом, с родными, все это осталось где-то позади, молодая женщина душою стремилась к не виданному ею краю — к югу. Проходила весна, наступало лето, Раиса Владимировна забывала о своем стремлении, о своем желании и снова погружалась в хлопотливую деятельность провинциальной хозяйки. Двенадцать лет она была уже замужем, но семья не увеличилась — детей не было.
Это обстоятельство еще более заставляло грустить Перегудову и по-прежнему стремиться мыслями умчаться куда- нибудь из этой провинциальной тины.
Сам Перегудов, может быть, и замечал нервное состояние жены, но не подавал вида, что это ему известно; он жил своею собственною жизнью, интересами своего завода и наблюдениями над природою, которую очень любил.
ГЛАВА II.
Стало темнеть, сумерки быстро окутывали серою дымкою окрестности, когда супруги, поднявшись по лестнице, через веранду вошли в дом. Миниатюрные комнаты были аккуратно прибраны, на всем лежала печать порядка, столь любимого самими Перегудовыми. Здесь было еще темнее, чем в саду. Старинная, кафельная печь белела в первой комнате — кабинете, прямо против входной двери. Перегудов зажег свечу, комната озарилась слабым светом, на потолке заиграли тени. Тяжелая, обитая кожею мебель ютилась вдоль стен. В центре стоял громадный диван. У окна вплотную приткнулся большой письменный стол, уставленный в замечательном порядке всевозможными письменными принадлежностями и фотографическими карточками в ореховых рамках. На лежанке, выдавшейся от печи, стоял большой штоф с деревянным маслом и лежали свертки светильни.
Перегудов, не дозволявший прислуге заправлять перед иконами лампады, сейчас же занялся сам этим делом, истово крестясь и совершая поклоны. Раиса Владимировна прямо из прихожей прошла в кухню сделать распоряжение к ужину. Точно сговорившись между собою — настолько знали они привычки друг друга — супруги сошлись через полчаса в столовой, приветливо освещенной висячею лампою. Несмотря на отсутствие гостей, внешность накрытого к ужину стола поражала своим порядком и аккуратностью. Хотя хозяева мало пили вина, перед каждым из них тянулся ряд разнообразных рюмок и фужеров. Это было прихотью самого Перегудова, любившего обстановку. Раису Владимировну вначале смешила излишне наставленная посуда, она пробовала изменить этот порядок, но педантичный супруг неизменно напоминал об этом прислуге.
Теплая атмосфера комнат после прохладного вечера в саду изменила настроение Раисы Владимировны. Она как будто отрешилась на время от своих дум.
Перегудов протянул жене свою пустую тарелку. Еще недавно неохотно отвечавшая на вопросы мужа, молодая женщина почувствовала желание с ним говорить.
— Ты знаешь, пока мы сидели с тобою в саду, приходил Петр Афанасьевич, а Поля, предполагая, что мы ушли гулять, отказала ему.
Жест неудовольствия со стороны Виктора Семеновича явно показал, что это ему неприятно.
— Как же это можно, Рая, сколько я раз повторяю, Поля должна, прежде чем говорить «нет дома», посмотреть, убедиться в том. Мне крайне неловко перед Архангельским, — человек в кои веки зашел и отказ.
Перегудов покачал головой.
— Я завтра к ним зайду и извинюсь, — поспешила успокоить его жена, отставляя пустую тарелку. — Сила Парфентьевич присылал тоже спросить, будем ли мы дома?
— И ему тоже Поля брякнула, что нас нет дома?
— Да, — утвердительно ответила Перегудова.
— Не люблю я браниться, но готов назвать ее дурой, — вышел из себя Виктор Семенович.
— И у них завтра побываю, — успокаивала мужа молодая женщина.
Неудовольствие на прислугу как-то невольно снова сближало супругов, отсутствие матерьяла для разговоров заставляло их иногда молчать целыми часами. Каждый погружался в свои думы и мысли, но теперь тема была найдена. Аккуратному до щепетильности Перегудову было не по себе, если он знал, что вышло какое-либо недоразумение, и хотя здесь вина была прислуги, а не его, он все же не мог успокоиться.
— Ты непременно сходи завтра к Полушкиным, — говорил он жене, — иначе могут подумать, что мы ими гнушаемся.
Полушкины были новожены* . Молодой зажиточный купец-раскольник женился несколько месяцев тому назад на бедной девушке, воспитаннице одного из ближних к городу фабрикантов-миллионеров.
* Вероятно, здесь в значении — молодожены, хотя есть и другое значение: «Одна из групп федосеевского согласия в беспоповском течении старообрядчества. Сформировалась в конце XVIII в. Главная особенность новоженов — признание церковных браков». (Д. Таевский. История религии. Цит. по: religion.babr.ru/.chr/east/prav/star/bpop/.fed_nz.htm)
Перегудов никогда не вмешивался в дела совести и веры других, хотя сам был очень набожен. И он боялся, что отказ прислуги поймут как его нежелание поддерживать знакомство только в виду того, что браки у раскольников не освящены церковным обрядом.
— Я это все улажу, — проговорила Раиса Владимировна, вставая из-за стола.
— Рая, мне необходимо сходить на завод, посмотреть, как работает ночная смена. У нас сегодня перегонка серной кислоты, — предупредил жену Перегудов, — я скоро вернусь.
Перегудова осталась дома. Она оделась потеплее и снова вышла в сад. Стало еще свежее. Спустившиеся весенние сумерки нерешительно волновались, борясь с наступающей ночью. На востоке небо было светлее, чем где-либо. Чувствовалось, что закатившееся еще недавно дневное светило уже совершило свой мировой обход и через час-другой снова зальет природу своими живительными лучами.
Линия кустов вдоль Волги смутно темнела на водяном просторе реки.
У Раисы Владимировны невольно вырвалось тихое восклицание, она усиленно дышала прохладою тихого вечера. Откуда-то пахнуло бальзамической волной молодой березовой листвы. В соседнем саду, отделенном от перегудовского рвом, несмотря на позднее время, шумели на ветвях деревьев многочисленные грачи. Задремавшая на минуту чуткая весенняя жизнь снова подготовлялась к денной работе.
Перегудова, поеживая плечи, остановилась у палисада. Давно уже пропала на извилистой дороге, ведущей к заводу, фигура ее мужа, но она все еще смотрела в ту сторону. Мысли снова унесли ее далеко отсюда.
— Эге, Раиса Владимировна, поздненько гуляете, — услышала она чей-то голос почти за спиной, вздрогнула и обернулась. Перед ней стояла мужская фигура за палисадом.
— Это вы, Сила Парфентьевич? — скорее угадала, чем узнала Полушкина молодая женщина, — мне Поля говорила, что вы давеча посылали к нам...
— Присылали-с, это верно. Феничка оченно повидаться с вами хотела, да вас дома не было.
— Это все глупая Полька перепутала, мы с Витей в саду сидели; я должна перед вами извиниться, Сила Парфентьич.
— Ничего-с, что ж, все может случиться, — миролюбиво говорил Полушкин, высокого роста молодой шатен, с большою бородою. Одет он был в обыкновенный купеческий «спинжак» и фуражку; на ногах блестели голенищи высоких сапог. Говорил он легким, певучим тенорком, злоупотребляя частицею «с».
— Откуда идете, Сила Парфентьевич?
Купец махнул рукою.
— С беседы-с.
— Так поздно?
— Позатянули. Все ваши церковники виноваты, больно пространно разговаривают, особливо Федос Александров. Как это заладит доказывать, так и пойдет, и пойдет. Нечего говорить, — голова парень, мастер спорить — все знает, в сражениях бывал, а все ж наших начетчиков не переговоришь. У нас крепко — по-старинному, что дуб, раз клин попал — не вышибешь. Так-то-с, глубокопочитаемая Раиса Владимировна, — закончил Полушкин и обмахнул лицо снятой фуражкой.
Перегудова молчала, ей было неловко что-либо возразить молодому раскольнику.
— Приходите завтра к нам с женою, — прервала она наступившее молчание.
— Как не придти, не преминуем-с побывать у вас. Феничке оченно нужно с вами повидаться. Дело, сказывает, до вас имеет.
— Очень рада, очень рада.
— А теперь прощения просим, к домам нужно, затомил нас Федос-от, — и Полушкин, снова сняв картуз, галантно раскланялся с собеседницей и пошел вниз по дороге.
В саду все дышало сыростью. Раиса Владимировна не долго оставалась на воздухе. Скоро она уже лежала в постели, приятно потягиваясь под одеялом от охватившей ее теплоты.
Вернувшийся с завода Перегудов застал ее уже спящею.
ГЛАВА III.
На другой день около полудня жена Полушкина зашла одна к Перегудовым. Мужу было некогда идти с нею. Полушкин, небольшой купец-бакалейщик, женился на Фене по любви, расчет в этом браке не имел места. В одну из своих поездок в уезд за получкой, Сила Парфентьевич на заводе богача Китайкина встретил свою будущую жену. Дочь вдовы побирушки, изо дня в день пьяной, Феню приютил Китайкин в своей семье, растил и воспитывал наравне с своими дочерьми. Молодому бакалейщику приглянулась статная, красивая, кровь с молоком девушка. Зачастил он ездить на завод, все разные причины находил, то получка кой с кого из рабочих имелась, то товару нового предложить покупателям необходимо. Китайкин смотрел, посмеиваясь, на все его ухищрения, да как-то раз, когда Сила опять заговорил о получках, о товаре, дружелюбно хлопнул его по плечу и сказал:
— Ой, замечаю я, парень, что ни за какими получками, да не за товаром ты у нас бывать-то повадился. Меня ведь, старого, не проведешь, говори прямо.
Замялся было Полушкин, покраснел.
— Не финти, Сила Парфентьич, все хорошо сам вижу; Феня тебе приглянулась; так, что ли?
— Да что там скрывать, Евтихий Сазоныч, — как-то решительно проговорил Сила, — то есть, ни день, ни ночь нет мне от нее покою. Стоит передо мною, как живая. Умом точно помутился от Федосьи Антиповны. Или она, или век бобылем останусь! И Полушкин рванулся со стула, на котором сидел, точно боясь ответа Китайкина, и намереваясь уйти.
Серьезно посмотрел на него богатый фабрикант, сгреб ладонью свою, с сильною проседью, бороду и на минуту задумался.
— Ин будет так, по-твоему, парень, — проговорил он медленно, точно взвешивая каждое слово, — спроси Феню-то, коли люб ты ей — я не прочь, поженитесь.
Такое внезапное решение Китайкина обрадовало и вместе с тем изумило Силу, — он не ожидал его и почти уверен был встретить отказ.
— Приданое справлю хорошее, из моего дому не выпущу голою, — тем же тоном продолжал фабрикант. — Денег, не осуди, не дам. Може, когда нужда тебе уж очень приключится, толкнись ко мне, не откажу тогда. Сам знаю, парень ты работящий, не пустельга какая.
Спрошенная Феня немного раздумывала; выйти замуж за человека со средствами, молодого, самостоятельного, ей и не снилось. Любви к нему она особой не чувствовала, да и отвращения не было.
— Будет это он меня нежить да холить, — мечталось девушке, — купчихой заживу. Может быть, и Китайкины когда-нибудь мне поклонятся, — проснулась в ней невольная зависть к дочерям приютившего ее богача.
У побирушки, ее матери никто и не спрашивал. Феня вышла замуж за Полушкина. Признать это настоящим законным браком было нельзя, венчанья в церкви, записи в церковных книгах совершено не было. Погнусили что-то девицы в моленной, почитал по книге уставщик, и все было окончено. С законной стороны брака не существовало, но тем не менее все в городке признали его.
— Смотри, Силушка, — наставительно сказал Китайкин молодому, когда все поезжане* разъезжались по домам, — не выпущай вожжей из рук-то. Федосья молода, ты характером-то слабенек, а она ишь какая, Бог с ней, красивая, точно лебедь белая, да вальяжная. Голубь, голубь, да и пристращай ко времени.
* Участники «свадебного поезда» (Ушаков).
Молча слушал Сила слова Китайкина. Едва ли он их и понял, — мысли его витали около Фени, около его молодой жены, к которой он рвался всем своим существом, всеми помыслами.
— Так помни, Сила! — еще раз сказал ему тесть нареченный и уехал.
Прошло с полгода, как Феня стала женою Полушкина, но между ними не произошло ни малейшей ссоры, ни одно облачко не затемнило их жизнь.
— Как я рада, Феничка, — встретила Перегудова молодую у калитки своего садика, — что вы ко мне завернули.
Полушкина конфузливо поздоровалась с Раисой Владимировной.
Назвать ее хорошенькою было бы мало. Это действительно был тип великорусской красоты, — высокая, стройная, скорее шатенка, чем темная блондинка, она весело глядела своими темно-голубыми глазами из-под густых «соболиных» бровей. Мясистый нос Фени нисколько не портил крупного овала ее бело-розового лица. Руки и ноги были немного велики, но это вполне гармонировало с ее крупным ростом. Одета она была с некоторыми претензиями на моду. Шерстяное сиреневое платье сидело на ней недурно, голову ее украшала небольшая фетровая шляпа, с нелепым желтым цветком сбоку. Легкая пелерина из драпа песочного цвета дополняла костюм. Глядя на нее, трудно было подумать, что она до девятилетнего возраста побиралась с своею матерью, косматая, плохо одетая, босая. В настоящее время ее не стыдно было бы пригласить в любую гостиную. Из уличной нищей девчонки вышла красавица-купчиха.
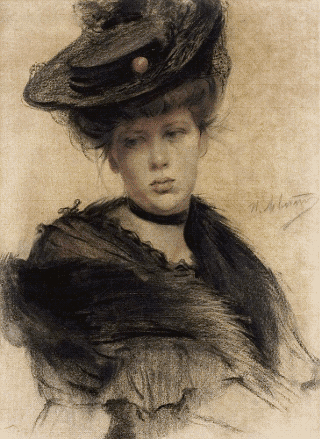
Обе женщины вошли в сад.
— А я тут копалась в парниках с цветочными выводками, — говорила Перегудова, показывая свои запачканные в земле руки, — страсть люблю цветы.
— И я тоже, — подтвердила Феня, и почему-то потупилась.
— Сила Парфентьевич говорил мне, Феничка, что вам нужно было переговорить со мною по делу? — ласково спросила Перегудова гостью.
— Да, да, дорогая Раиса Владимировна, слезная моя к вам просьба, научите меня делать искусственные цветы, вы их так хорошо работаете.
— Охотно. Мне это составит удовольствие.
Полушкина, услышав о ее согласии, вся вспыхнула.
Ее желание исполнилось.
— Спасибо, спасибо вам большое, Раиса Владимировна, — благодарила она Перегудову. — Сколько вы с меня за ученье возьмете?
Голос ее звучал не сильно, но мягко.
— Что вы, Феничка! Какая тут плата, я и так с вами займусь. Хотите, с завтрашнего дня и начнемте.
— С наслаждением. Нужно что-нибудь купить?
— Пока нечего, у меня все есть, а после я вам скажу.
— Как Силушка-то будет вам благодарен!
На дорожке сада показалась фигура Виктора Семеновича. С ним шел пожилой, худощавый крестьянин. Небольшая седоватая борода окаймляла его загорелое лицо, проницательные, по выражению «скрозь землю видящие» глаза пытливо устремились на сидящих женщин. Это был Федос Алексеев, бывший раскольничий начетчик, в настоящее время помощник местного миссионера.
— Мир вам на доброй беседе, — нараспев поздоровался он.
— Редкий гость, Федос, садись, очень рада тебя видеть, — проговорила Раиса Владимировна, подавая ему руку.
— И вы, здравствуйте, — обратился Федос к Полушкиной.
Перегудов вторично извинился перед ней за вчерашнюю ошибку.
— Что это за ошибка, добрейший Виктор Семенович, — запел бывший начетчик, — пустячки одни. Вот они-то, — и Федос неопределенно развел рукою, больше ошибок-то творят, да каких еще, — от православныя кафолическия церкви отщепились, мечутся по сторонам, истинно, как слепые! — и Федос искоса взглянул на Полушкину, — ничего-то у них нет, а тоже «мы, дескать, неотставшие-то истинные православные, а не вы».
Феня покраснела как кумач; потупя глаза, еле сдерживаясь, она поспешно встала и начала прощаться с хозяевами.
Перегудову, видимо, была неприятна эта сцена. Он в душе бранил себя, что привел Федоса в сад. Раиса Владимировна понимала неудобство присутствия миссионера, его нетерпимость к раскольникам, и старалась смягчить неприятное впечатление у молодой Полушкиной. Она взяла ее рукою за талию и вместе с нею вышла из сада.
— Приходите завтра, непременно приходите, — шепнула она гостье, прощаясь с нею у ворот.
Феня обещала.
— Видно, не по носу табак, — усмехнулся Федос, — не любят они, когда правду скажешь.
— Слушай, Федос Алексеевич, — нерешительно произнес Перегудов, — я тебя очень уважаю за твои стойкие убеждения, только в другой раз не начинай, пожалуйста, этой распри у меня. Я сам знаю, что они не правы, да ведь разве жена ответственна за верования мужа?
Федос с изумлением слушал говорившего.
— Не только что за него, а и за себя! — ответил бывший начетчик хозяину. — Разве она сама из раскольничьей семьи? Мать-то ейная кто? Наша церковная, хрещеная, а кто сосмутьянил дочку-то в раскол? Китайкин! Он сам, не кто иной! Прельстил, улещил девчонку перейти, да потом за своего же раскольника и замуж выдал. Тьфу, мерзость одна!
И Федос сердито сплюнул.
Виктор Семенович молчал, справедливость слов Федоса была очевидна. Желая переменить разговор, он начал расспрашивать гостя о вчерашней беседе с раскольниками.
Федос оживился и медленным, убедительным голосом, ежеминутно вплетая в свою речь тексты из священного писания и сравнения, начал рассказывать.
ГЛАВА IV.
На другой день Полушкина пришла к Раисе Владимировне на первый урок. Немного стесняясь вчерашней сцены с Федосом, она молча исполняла то, что ей показывала Перегудова. Последняя, не желая напоминать своей новой ученице о вчерашнем, тоже большею частью молчала, ограничиваясь только необходимыми замечаниями. Молодая женщина оказалась очень понятливою и скоро применилась к работе. Уроки следовали без перерыва, и ученица, и учительница прилежно занимались ежедневно. Через две недели Феня настолько подвинулась в этом деле, что сама могла даже сделать небольшой букет полевых цветов, который с понятною гордостью показала своему супругу.
— Восторг один, да и только! — похвалил Сила Парфентьевич ее работу, — благодарить, очень благодарить должны вы, Феничка, Раису Владимировну, без нее никогда бы вам не обмозговать этого-с.
И счастливый успехами жены, Полушкин сам полетел благодарить Перегудову.
Перевалил уже за первую половину май. В беседке Перегудовых обе молодые женщины прилежно занимались цветами, изредка посматривая на мирно струившуюся перед их глазами Волгу и бегущие по ней пароходы. Прогудела внушительно сирена подходящего к пристани парохода.
— «Товарищ» сверху прибежал, — прислушиваясь к пароходному свистку, проговорила Полушкина, — полдень должон быть.
— Ишь мы как заработались, — лениво потягиваясь, сказала Раиса Владимировна, — и время не заметили; скоро Витя с завода вернется обедать.
И обе женщины снова погрузились в кропотливую работу цветочниц, пока шаги на дорожке сада не прервали ее.
— Вот и Витя, — заметила Перегудова, складывая цветы. Но, вместо ее мужа, на пороге беседки показалась незнакомая фигура молодого человека.
— Если я не ошибаюсь, вы хозяйка этого дома? — спросил он, снимая мягкую шляпу.
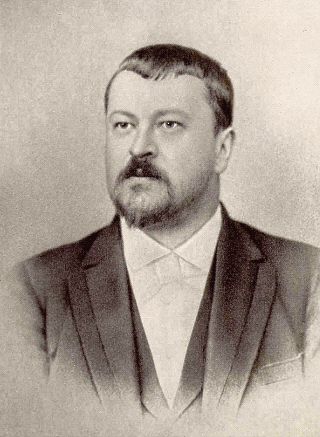
* С.Т Морозов в 1890 году был 28-летним директором отцовской мануфактуры, выпускником Кембриджа, женатым несколько лет на 3. Г. Зиминой. «Его избранница была совершенно не похожа на покорных, наивных купеческих дочек, с которыми знакомили Савву родители. Это была сильная, обаятельная, страстная и тонко чувствующая женщина с острым умом. <...> Получить приглашение на прием от Зинаиды Григорьевны почитали за честь самые высокопоставленные лица города. Однако сам Морозов на этих приемах появлялся редко и чувствовал себя лишним. Тяжеловесный и неуклюжий, он не мог органично вписаться в высшее общество. Через несколько лет такой жизни Морозов постепенно охладел к своей супруге и не одобрял ее чрезмерно роскошного образа жизни» (http://www.biografii.ru/biogr_dop/morozov_s_t/morozov_s_t.php).
Раиса Владимировна, изумленная его внезапным появлением, молча наклонила голову.
— Простите меня, что я явился к вам, — продолжал посетитель, молодой темноватый блондин среднего роста, — мне и моим товарищам указали на ваш дом, говоря, что у вас сдается квартира.
— Это ошибка, — вышла из молчания Перегудова, — квартира действительно отдается, но рядом, вот в этом большом каменном доме.
Она указала на сильно уже тронутый временем и непогодами старый барский особняк, отделенный от их сада глубоким, но узким рвом, усаженным сплошь кустарником.
Молодой человек сконфуженно пробормотал извинение и хотел уже уйти, как взгляд его случайно упал на Полушкину, наблюдавшую за незнакомцем. Он вздрогнул и пытливо, пристально посмотрел еще раз на Феничку; затем торопливо исчез из беседки, шепча еле слышно:
— Мадонна!
Обе женщины слышали это слово. Перегудова промолчала, а Феня его не поняла, хотя взгляд, кинутый на нее блондином, страшно ее смутил.
— Кто бы это мог быть? — прошептала хозяйка. — Вероятно, одна из ранних летних пташек-художников.
— Красивый какой он, — наивно заметила ученица.
— Вам, Феничка, понравился?
— Ну, что вы, Раиса Владимировна! — поспешно возразила Полушкина.
В беседку вошел Перегудов.
— Я сейчас в воротах встретил какого-то господина, он был здесь?
Раиса Владимировна поспешила рассказать мужу о посетителе.
— Там его две дамы и мужчина ожидали; по всему заметно, художники, — подтвердил ее догадку Виктор Семенович.
— Эге! Да Феничка и в самом деле мастерицей стала, — польстил он Полушкиной, — а еще скромничает.
— Скромнице-то молодой человек, что сейчас приходил, очень понравился, — шутила Перегудова.
— Ай, ай, ай! Неужели вы такая ветреная, Феничка?
— Это все Раиса Владимировна выдумывает, — сконфуженно уронила молодая.
Разговор принял другое направление.
Через невысокий палисад было видно, как приезжие осматривали старый дом. Перегудов указал на это жене.
— Взяли квартиру, должно быть, — сказал заводчик.
Вечером Виктор Семенович узнал, что дом был снят на лето вновь прибывшими. Сквозь пыльные стекла его окон заблестел приветливый огонек лампы.
Проходивший домой из лавки Полушкин рассказал стоящей по обыкновенно у палисада Перегудовой, что новые их соседи много купили в его лавке товару. Торговец был очень доволен. Он уже узнал, кто они и их фамилию.
— Тот, помоложе, что к вам забегал-то, сын московского богатея Зимина*, поди, — знаете? Примазался к живописцам, ниверситет кончил, а теперь норовит, как бы рисовать научиться. А другой, постарше, черноватый такой, — Львовский. Художник из жидков, с ними пара бабочек. Одна на манер Львовского жены, другая — ее приятельница. Курьезный народ, — покупают не торгуясь, ужотко я им цену-то понакину!
— Надолго они сюда приехали?
— Да норовят должно быть до Спажинок** прожить, а кто их знает, — народ шалый, не сурьезный.
* Выводя Морозова под именем Зимина, Полилов не мог не знать о его родстве через жену с Зимиными, поскольку все эти фамилии были на слуху в деловом мире, где он вращался (так, после Всероссийской выставки 1896 года мануфактуры и Морозова, и Зимина, и Крымова («Китайкина») были отмечены наградами — см. отчеты в газете «Свет», Спб., за сентябрь 1896 года).
** Спажинки (спожинки) — пост перед днем Успения (15 августа) (Б. Эйхенбаум. Цит. по: http://www.rvb.ru/leskov/02comm/005.htm).
Приезд новых лиц в медвежий угол обрадовал тоскующую Перегудову. С их появлением, сюда вторглась частица той столичной жизни и атмосферы, от которой она совсем уже отвыкла, но по которой часто скучала в своем невольном одиночестве.
Хотя художественная богема каждое лето наезжала в городок, но никогда художники не жили так близко от Перегудовых, как нынче. Дом Мудрецова, в котором они поселились, уже несколько лет пустовал, после отъезда его владельца в Петербург. Еще второй этаж мог служить для жилья, но верхний и нижний были в невозможном положении. Штукатурка со стен обрушилась и лежала длинною кучею вдоль улицы. Неудобства полуразрушенного жилища искупались превосходным видом из его окон на Волгу и на левый ее берег. На самом берегу реки, под сенью старых тополей, ютилась покривившаяся на бок деревянная беседка, чуть ли не ровесница особняку. За домом, поднимаясь постепенно в гору, тянулся заглохший сад вплоть до самого кладбища. Узенький, в две доски, мостик через овраг упирался одним концом в перегудовский забор, а другим выходил прямо в сад Мудрецова, представлявший в настоящее время ровный скат, покрытый зеленой травою со множеством цветов.
Внутри дома тоже все было запущено и грязно. Паркет тонул под толстым слоем пыли. На деревянной лестнице, с вычурными старомодными балясинами, не все ступеньки были благонадежны, что и оправдалось в первый же день переезда прибывших. Лепные потолки комнат, излишняя роскошь богатого барства, сохранили местами следы позолоты и остатки рисунка. При переезде сюда в город Перегудовых, в доме еще жили, но уже не сам владелец; вскоре жилец выехал, и дом опустел. В городке дом был одним из лучших и, благодаря своему прекрасному местоположению, заслуживал, чтобы в нем жили. Сведения, переданные Полушкиным, оказались верными. С известным пейзажистом Львовским приехал Зимин, второй сын известного московского фабриканта-мануфактуриста. Перегудов был знаком с последним, и, на этом основании, Раиса Владимировна хотела завязать знакомство и с его сыном.
Ее немного смущали дамы, приехавшие вместе с Зиминым, но одна из них оказалась тоже небезызвестной жанристкой Хрусталевой, а другая — ее ученицей и поклонницей, бесцветною барышнею Мосс.
* Если у этой барышни (которую автор впоследствии называет порой Моос) и был прототип, то он остался мне неизвестным. Прототип Хрустальниковой (здесь она единственный раз названа Хрусталевой) — Софья Кувшинникова.

http://valeryanna.livejournal.com/10548.html
* Отношения Левитана и Кувшинниковой Полилов рисует сдержанно. Откровеннее они предстают у Чехова в «Попрыгунье» (1892), которую уж точно современники воспринимали как публичный скандал (это делает более понятным посвящение «Развивателей» Чехову). В описываемое Полиловым лето эти отношения уже прошли свой зенит, но еще не клонились к разрыву, который произошел в июле 1894 года, когда Левитан влюбился в Анну Турчанинову, сверстницу Кувшинниковой. Кувшинникова пережила и Левитана и Чехова и умерла почти точно так, как в «Попрыгунье» умирает ее муж: заразившись тифом от одинокой художницы, за которой она ухаживала по доброте душевной. (См.: Евграф Кончин. «Меня вся Москва обвиняет в пасквиле». Софья Кувшинникова в рассказе Чехова — и в действительности. «Культура», М., № 41 (7249), 26 октября — 1 ноября 2000 г.) Впрочем, в некрологе в «Русском Слове» сообщено иное: «Вчера похоронили художницу С.П. Кувшинникову. <...> Смерть ее явилась неожиданностью для окружающих: покойная гостила у своих знакомых в имении по моск.-каз. жел. д. и там заболела дизентерией, отчего и умерла. Отпевание и погребение совершено в Скорбященском монастыре. На гроб возложено много венков». («Русское Слово» 3 сентября (21 августа) 1907 года. Цит. по С.Сокуренко — http://sokurs.livejournal.com/125203.html).

Плёс у Полилова назван «городком». Вряд ли писатель знал, что Кувшинникова сделала такую надпись на своей фотографии: «Дорогому И. Левитану на память последнего счастливого лета (1892) в Городке. С. Кувшинникова» (сведения с сайта http://www.greatwomen.com.ua/2008/05/10/sofya-petrovna-kuvshinnikova/).
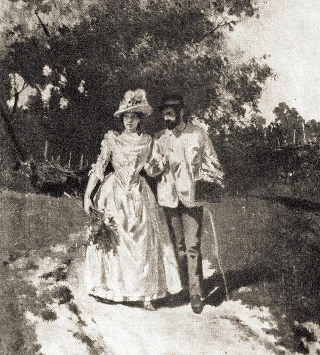
http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number=141&crubric_id=1001730&rubric_id=1001729&pub_id=391331
ГЛАВА V.
Розы в саду Перегудовых начинали распускаться. Темная зелень кустов покрылась розовою сетью. Весь сад дышал их сладким, немного приторным ароматом. Налетевший ветер устилал дорожки густым покрывалом из розовых лепестков; днем цветы меньше пахли, прохлада вечера усиливала их аромат, и от него почти болела голова. Широкой волной несся он повсюду. Сад Перегудовых, благодаря хлопотам Раисы Владимировны, являлся одной из достопримечательностей городка.
Как-то под вечер она сидела на своей любимой скамейке у беседки, когда в небольшую калитку, ведущую на мостик через ров, постучали. Молодая женщина вздрогнула. Теплый конец дня, мягкий воздух мая, аромат роз — все это расположило ее к покою, к вдумчивости, к одиночеству. Мысли ее, по обыкновению, неслись куда-то далеко. Неожиданный стук вырвал ее из мира грез. Она подошла к забору и отперла щеколду, — у калитки стоял молодой Зимин.
— Второй раз позволяю себе вторгаться к вам так неожиданно и, добавлю, так непрошенно, простите!
С этими словами он вошел в сад и представился хозяйке.
— Очень рада с вами познакомиться, тем более, я и муж знаем вашего батюшку... Давыда Максимовича.
— Неужели? Вот неожиданная встреча, Раиса Владимировна, — кажется, не ошибаюсь.
— Да, меня зовут так, а вас?
— Наоборот, как отца, Максим Давыдович. Знаете, что вы сделали с нами со всеми, а в особенности с дамами?
И не дав Перегудовой что-либо ответить, Зимин быстро продолжал:
— Ваши чудные розы, их аромат не дают нам покою от зависти. Меня послали к вам парламентером с просьбою уделить три цветка...
— Только-то? — улыбнулась Раиса Владимировна, — рвите хотя все. Постойте, — я сейчас принесу ножницы, а то исколете все руки.
Но молодой человек уже не слушал. Он быстро начал срывать розы, и не прошло минуты, как на руке его показалась капля крови.
— Ага, не послушались, — насмешливо проговорила Перегудова, глядя на Зимина, усердно высасывавшего из большого пальца попавший туда шип от ветки, — ну, и кайтесь.
Зимин продолжал рвать цветы. Его большая фетровая шляпа была наполнена до краев.
— Мерси, — теперь довольно.
— Рвите еще, — предложила Перегудова, искоса глядя на Зимина, — осыплются.
— La rose, elle a vecu, се qu'ont les roses, l'espace d'un matin! — на хорошем французском языке продекламировал Максим Давыдович.
— Что же, будемте знакомы? — не то спрашивая, не то подтверждая, сказала Раиса Владимировна.
— Я и мои друзья несказанно будем счастливы, — быстро проговорил в ответ Зимин, — и сегодня же, с вашего позволения, все явимся засвидетельствовать вам наше почтение, если разрешите?
Перегудова улыбнулась.
— Вот пустяки, разрешу ли? Очень буду рада.
— В таком случае — до скорого свидания!
И молодой фабрикант, не одевая на голову шляпы, переполненной розами, раскланялся с хозяйкой и ушел той же дорогою, через овраг, из сада.
Раиса Владимировна долго прислушивалась к шагам ушедшего и следила за его красивой фигурой, взбирающейся по скату оврага, среди пестрого цветочного ковра.
Ее почему-то взволновало знакомство с молодым Зиминым; мягкий голос его долго звучал в ушах Перегудовой, чувство какого-то довольства, необъяснимой веселости, поднималось у ней в груди. Фантазии, уносившие ее далеко, стали группироваться около Зимина. Странное чувство овладевало молодою женщиною. Ей снова хотелось увидеть Зимина, и это желание отодвинуло на второй план все мысли, грезы и надежды, занимавшие ее еще так недавно. Полная одним этим желанием, она вошла в дом.
В этот же вечер состоялось знакомство Перегудовых с их новыми соседями.
Хрустальникова, худощавая брюнетка лет тридцати, крайне подвижная, произвела на супругов Перегудовых не особенно благоприятное впечатление. В особенности педантичный, строго размеренный Виктор Семенович недовольно ежился при каждой эксцентричной выходке соседки. Ее громкий, немного деланный смех выводил его из себя. Она быстро освоилась с новыми знакомыми и скоро начала называть Раису Владимировну «ma cher e» .
— Мы с вами сойдемся, bonne voisine, я враг всякого жеманства, условных приличий, заключающих жизнь в узкие рамки. Я люблю свободу всегда, во всем, — с легким пафосом сказала Хрустальникова, — если не верите, спросите его.
И она указала на Львовского.
— Совершенно верно, — поспешил подтвердить художник, сильный брюнет с мавританским типом лица. Его вьющиеся волосы непокорною прядью выбивались из-под темно-синего берета. — Надежда Петровна враг скрытности, невыясненных отношений и... цепей.
При последних словах он слегка скривил губы в улыбку и посмотрел на Хрустальникову.
— И вот мы, как завоеватели, ворвались в ваш сад и произвели в нем чувствительное опустошение, — попробовал скрасить резкость своих сожителей Зимин.
Пухлая, желтоватая физиономия Моос была чересчур бесцветна, чтобы на ней могло что-нибудь отразиться. Она только с благоговением смотрела на свою вдохновительницу Хрустальникову, стараясь не проронить ни одного ее слова.
— У вас хорошо здесь! — как-то довольно произнесла художница, — розы повсюду, точно купаешься в розовой ванне.
Польщенный похвалой, Перегудов довольно поддакивал.
— Теперь еще что! Вот придет июнь, ни одного листика зеленого не увидите. Все одни цветы.
Львовский посмотрел на хозяйку.
— У вас, как мне передавал мой приятель, есть еще розан... и, говорят, замечательный.
Раиса Владимировна, мало говорившая до сих пор, изумленно взглянула на художника.
— Все здесь в саду.
Львовский сухо засмеялся.
— Вы меня не поняли. Зимин видел у вас какую-то красавицу.
Перегудов недоумевающе посмотрел на жену.
— Блондинку... — решился напомнить Максим Давыдович.
— Каков злодей? Он успел даже ее рассмотреть! — шутливо воскликнула Хрустальникова.
— А! это Феничка, — сообразил хозяин, — Федосья Васильевна Полушкина.
— Это что же, жена или сестра того Полушкина, в лавке которого, на базаре, мы все забираем?
— Жена.
— Какая красавица! — не удержался от похвалы Зимин.
— У Максима Давыдовича хороший вкус, и мне очень было бы интересно взглянуть на нее, — с прежней слабою улыбкой вмешался в разговор Львовский.
— Она каждое утро у нас бывает. Приходите в это время, — увидите сами, — слегка недовольным тоном проговорила Перегудова.
— Красивая женщина, — подтвердил Виктор Семенович.
— Вы окончательно подстрекнули мое любопытство. Я завтра же постараюсь ее увидеть; мы, художники, поклонники красоты, смотреть, наслаждаться ею готовы без конца.
Зимин молчал. Перегудова незаметно на него поглядывала. Разговор, несмотря на усилие бойкой Хрустальниковой, плохо вязался.
— Если она действительно так хороша, я бы охотно написал с нее портрет, — сказал Львовский.
— Мадонна! — тихо, но восторженно пробормотал фабрикант.
Комичность его шепота рассеяла общую неловкость, и разговор понемногу оживился. Даже молчаливая Мосс приняла в нем участие.
— Ну, шабаш, дети! Для первого раза довольно, — авторитетно прервала говоривших художница и начала прощаться с хозяевами.
Проводивши гостей, Перегудов спросил жену:
— Как тебе понравились новые соседи?
Раиса Владимировна неопределенно проговорила:
— Не особенно. Только один Зимин прост, а эти-то хитры и... и...
— Насмешливы! — решил Виктор Семенович. — Не нашего поля ягоды.
Перегудова ничего ему не ответила, ей еще слышался голос фабриканта, чудилась стройная фигура молодого человека. Остальные лица были для нее как в тумане.
ГЛАВА VI.
— Ну, Сила, показывай нам свой лучший товар! — повелительным тоном говорила художница на другой день в лавке Полушкину, торопливо раскидывавшему перед ней свертки материи.
— Все для вас, сударыня, лучшее показываю. Выше товара, поди, и не бывает.
— Зачем врешь? — строго оборвала его Хрустальникова, — есть у тебя, да не показываешь его.
Купец изумленно взглянул на покупательницу.
— Прячешь его там, в комнатах позади...
— Все, Надежда Петровна, вынес, — право слово, все, — бормотал смущенный Полушкин.
— А жена-то твоя где, красавица?
Лицо Силы быстро преобразилось, он понял шутливый вопрос.
— A мне и невдомек, сударыня, что вы про нее спрашиваете. Сейчас вас с ней познакомлю, — и обернувшись к открытой из лавки двери, он крикнул:
— Феничка, Феня, пожалуйте сюда, господа желают с вами познакомиться.
Немного спустя красивая фигура молодой женщины появилась в рамке двери.
Зимин и Львовский, сопровождавшие Хрустальникову, так и впились глазами в молодую купчиху.
— Моя супруга-с, Федосья Васильевна, прошу любить да жаловать.
— Ай да Сила, какую красавицу подцепил, — пораженная красотой, шептала художница.
У Полушкина от удовольствия и гордости по лицу ползла самодовольная улыбка.
Спутники Хрустальниковой молча переглянулись между собой.
— Что ж, моя милая, — снова заговорила эксцентричная брюнетка, — милости просим к нам, вот мои молодцы портретик ваш оборудуют, — подделываясь под народный язык, закончила она.
— Как они-с, как Сила Парфентьевич разрешат, — несмело промолвила Феня.
Полушкин быстро заговорил, точно сорвавшись.
— Кроме удовольствия и благодарности — ничего опричь не могу выразить.
— Сейчас видно, что ты человек умственный, — тем же, слегка насмешливым тоном, заметила Надежда Петровна.
Новая похвала маслом разлилась по душе купца.
— Мы, хоша и маленькие люди, — преувеличенно скромно сказал Полушкин, — а все ж обхождение понимаем.
— Значит, решено, вы к нам, Федосья Васильевна, придете.
— Всенепременно, раз Сила Парфентьевич разрешил, когда позволите.
— Ну, когда, господа, вы можете начать писать ее портрет? — обратилась Хрустальникова к Львовскому и Зимину.
— Да хоть сегодня! — последовал восторженный ответ Зимина.
— Нет-с, как же можно? — замахал руками хозяин, — и вас это сейчас обеспокоит, да и Феничке-с нужно попринарядиться...
— Я бы посоветовал, — тихо вмешался Львовский, — писать портрет с Федосьи Васильевны среди природы, ну, хотя бы в перегудовском саду.
— Вы правы. Розы послужат превосходным фоном для ее головки, — согласилась художница, — это будет эффектно.
Оба супруга с недоумением посматривали на говоривших, тогда как Зимин, не спускавший глаз с красавицы, заметил:
— Я думаю, было бы красивее в поле, среди васильков.
— Где вы их теперь найдете? — резко перебила Хрустальникова, и снова обратилась к Фене. — Ждем вас завтра в перегудовском саду утром, знаете, где он?
— Виктора Семеновича дом-то не знать! — громко проговорил Сила Парфентьевич. — Приятели мы с ними, — почитай, каждый день видимся.
— Ах, я совсем об этом и позабыла.
И компания художников отправилась за разрешением к Перегудовым.
Раиса Владимировна была одновременно изумлена таким скорым согласием упрямого раскольника, и в то же время ей было приятно, что художники избрали ее сад местом своей студии.
Несмотря на антипатию, зародившуюся в ней к Хрустальниковой, она охотно согласилась переносить ее присутствие, сознавая, что Зимин ежедневно будет также бывать в их саду.
Возвращаясь из лавки Полушкина, Львовский откровенно высказывал свое мнение о Фене своим товарищам.
— Какой ты счастливчик, Макс, вечно что-нибудь выищешь интересное! Ведь за такую модель я деньги готов заплатить.
— Благодари меня, Марк, — без меня никогда бы тебе ее и не видеть, — сказала брюнетка.
— Верно, верно, Марк Самуилович, без нее бы это вам не удалось, благодарите ее, — пропищала лимфатичная Мосс.
— Только помните, Марк, — мрачно блеснув глазами, снова проговорила Хрустальникова, — не увлекитесь этой купчихой. Вы знаете хорошо меня и мой характер, — не пожалею ни вас, ни ее...
Львовский значительно взглянул на говорившую и улыбнулся.
— Не ревнуйте, не бойтесь за меня, я на нее смотрю только как на превосходную модель для работы, все же остальное предоставляю ему, — указал он на Зимина. — Он миллионер, может все себе позволить, а я только художник.
Фабрикант покраснел.
— У меня тоже нет ничего дурного в мыслях.
— Ну, то-то, смотрите оба... — погрозила им пальцем Хрустальникова. И они начали спускаться к Волге. Легкий костюм ее, красноватого цвета, скорее переходивший в розовый, с большим вырезом ворота, подхваченный ярко-красной лентой, кончающейся напереди большим бантом, свободно сидел на ней, тем не менее, гибкая фигура художницы не теряла изящества. Темные волосы, небрежно закрученные жгутом, были заколоты сзади шпильками. Эксцентричная белая шляпа с широкими полями, надетая немного на бок, открывала небольшой овал ее лица с матовою кожей, покрытой легким золотистым пушком. Это придавало ей вид южанки, хотя она была природная москвичка. Глубоко сидящие глаза Надежды Петровны были не велики, но множество энергии, огня таилось в них. Они говорили о твердой воле их владелицы. Вообще, наружность Хрустальниковой была не из обыкновенных.
Жена доктора старше ее значительно, она, выходя за него замуж, выговорила себе полную свободу и уже третье лето уезжала с художником Львовским на студии, возвращаясь осенью в Москву к мужу. Подобная эксцентричность жены нисколько не волновала ее супруга. Он так же ласково встречал ее, когда она возвращалась из своих летних скитаний, точно они расстались только накануне. Отсутствие детей еще более оформило странность их отношений. Жизнь сейчас же входила в свое русло. Никаких упреков со стороны супруга не слышала художница. Это она ценила, и в периоды их сожительства доктор ни в чем не мог на нее пожаловаться. С первыми весенними лучами солнца, в ней снова просыпалась ее бродячая кровь богемы, снова она начинала стремиться к отлету со своим летним товарищем Львовским.
— Я завтра уезжаю, — говорила она мужу.
— Прекрасно! — следовал спокойный ответ супруга.
И отъезд из Москвы этой пары, так странно соединенной, совершался. Нынешним летом их дуэт превратился в квартет, — в него вошли Зимин и Мосс.
ГЛАВА VII.
Максим Давыдович, второй сын фабриканта миллионера, был ярым поклонником таланта Львовского; он для него даже выстроил в Москве великолепное ателье. Зимин представлял один из тех типов меценатов из купечества, которых за последнее время развелось много на Руси.
Окончив университет, молодой фабрикант не последовал примеру своего старшего брата, энергично помогавшего отцу в управлении заводами. Ему показалось, что его призвание — живопись. Подобная мысль родилась у него после нескольких диллетантски исполненных им эскизов. Одобрительные отзывы льстивых ценителей усилили в нем уверенность в своем таланте к этому роду искусства, и двадцатишестилетний миллионер быстро сошелся с выдающимися представителями живописи, одним из которых и был Львовский. Последний, быстро выдвинувшийся, благодаря своей талантливости, из рядов посредственности, которыми так богато за последнее время наше искусство, оказался действительно полезным для богатого диллетанта, работавшего под его руководством. Несмотря на свои довольно небрежные отношения к занятиям, на известное самомнение богача, Зимин сделал небольшие успехи, и мог кое-что недурно скопировать, хотя до самостоятельного творчества было еще далеко. Свои успехи Максим Давыдович отчасти приписал стараниям и таланту Львовского, и скоро стал считать его чуть ли не первым русским художником. Это-то и подтолкнуло его построить своему учителю и в то же время приятелю великолепное здание для студии, снабдив его всем необходимым.
Старый Зимин не препятствовал желаниям сына, — хвастливое меценатство и его задело. Мысль, что в лице Максима Давыдовича, тратившего деньги для известного Львовского, окружается как бы ореолом и его имя — была ему приятна. Отсутствие участия сына в делах завода его не беспокоило, он знал, что и без этого обороты не только не сокращаются, но с каждым годом еще увеличиваются, и что рано или поздно эта игра в «художество» надоест молодому Зимину, и он вернется к отцовской деятельности. Последняя формация детей московских миллионеров-фабрикантов, точно заразившись один от другого, занялась до поры до времени различными родами искусства. Именитые купеческие имена фигурируют en toutes lettres и на сценических подмостках и в концертных залах, красуются как подписи авторов к картинам на выставках, а за последнее время владельцы их подвизаются даже и на цирковой арене в качестве атлетов и клоунов. Старые обычаи Кит Китычей, их удовольствия в кутежах, широком разгуле, дебоширстве, одним словом, вся бесшабашность русской натуры сменилась в их детях стремлением фигурировать перед толпой, показать свои таланты. Правда, за редкими исключениями это только временное увлечение, и под личиной скоро испеченного артиста скрывается тот же самый Кит Китыч, выжидающий только времени, когда ему можно будет снова развернуться вовсю «на манер тятеньки».
Максим Давыдович пока был далек еще от чего-либо подобного, но было уже заметно, что кроме его любви к живописи, его манила и широкая бесконтрольная и безалаберная жизнь артистической богемы.
Он охотно согласился на предложение Львовского провести лето в городке для студий и этюдов на лоне природы.
По характеру Зимин был так называемый «добрый малый», «особыми принципами» и воззрениями не отличался. Его жизнь текла, как река по ранее намеченному ложу. Университетское образование как-то «прошло по нем», мало изменив его внутренний мир; это был тот же старик Зимин, только в более мягкой форме, облагороженный воспитанием, теми обрывками знаний, которые он успел почерпнуть в университете, а главное в заграничных путешествиях, часто им совершаемых по желанию отца. Эстетичность, классические образы красоты у молодого Зимина как-то невольно сливались только с восторженностью молодости, имевшей в себе простое влечение к женскому красивому телу и живописному пейзажу. В денежных средствах Зимин не имел недостатка, и жизнь широко раскрывала свои объятия молодому человеку.
Явною противоположностью ему являлся его приятель Львовский. Сын тоже далеко не бедного родителя, еврей по происхождению, Марк Самуйлович, еще будучи в гимназии, проявил недюжинные способности к рисованию. Окончив гимназический курс, он с упорным постоянством, отчасти вопреки желанию отца, видевшего в единственном сыне своего наследника по торговле, поступил в академию художеств и настолько блестяще окончил ее, что совет профессоров решил послать его на казенный счет в страну искусств — Италию.
Умный старик Львовский понял теперь всю выгоду карьеры сына и уже не пытался уговаривать его, как это он раньше делал, посвятить себя торговле. Марк быстро зашагал по ступеням искусства. Присланные им из-за границы работы сразу обратили внимание публики и прессы, — патент на талантливость был им завоеван. С возвращением Львовского на родину, известность его продолжала распространяться, его картины охотно раскупались любителями-меценатами, часть даже попала в музеи. Но больше всего его прославила фантазия «У мирной пристани». Со дня появления этой картины на выставке, она стала ее гвоздем, и об ее авторе начали на все лады говорить в газетах. Молодому художнику пели дифирамбы и курили фимиам. В это время он перенес свою мастерскую в Москву, где в скором времени миллионер Зимин и устроил ему роскошное ателье.
Красавец собою, скорее похожий на потомка мавров, чем на семита, с волнистыми, иссиня черными волосами, тридцатилетний художник энергично глядел своими искристыми глубокими глазами. Постоянно, даже во время работ, корректно, но без артистических преувеличений одетый, с коротко остриженной бородой, Марк Самуйлович резко выделялся среди кучки его товарищей москвичей.
Немного гортанный выговор художника, мягко, но уверенно звучавший голос, твердый жест его руки, красивые линии всей небольшой, сухощавой фигуры — все ясно говорило о присутствии в Львовском сильной воли, уверенности в самом себе, в своем таланте и в достижении намеченной им конечной цели.
ГЛАВА VIII.
Полуденное солнце заливало лучами перегудовский сад, бросая на дорожки узорчатые тени от розовых кустов и заставляя летник* устало склонять головки от томящего зноя. Однако, несмотря на жар, сеанс состоялся. Феня сидела на садовой скамейке, прислоненной к кусту. Розы в беспорядке свешивались над нею, окружая ее красивую головку точно ореолом. Бутоны красиво выглядывали из темной зелени. Полураспустившиеся цветы смотрели смело на солнце, ласкающее их расцвет. Роскошно раскинувшие свои чашечки зрелые розы в сладостной лени доживали свое короткое существование, изредка роняя отцветающие лепестки. Несколько лепестков взлетело на белокурые волосы и светлое платье Фени. Не привыкшая позировать, она немного утомилась от принужденной неподвижности и жары, но оба художника, усердно ее зачерчивавшие — Львовский углем на полотне, а Зимин карандашом в альбоме, не обратили внимания на неудобство позы Полушкиной.
* Собирательное название однолетних (незимующих) садовых растений.
— Знаете, господа, — заметила им Раиса Владимировна, сидевшая поодаль на скамье с Хрустальниковой и наблюдавшая за работой художников, — нужно дать отдохнуть Феничке, — вы ее так совсем замучите....
Львовский при первом ее слове понял, что сеанс длился чересчур долго. Он спокойно положил уголь в ящик, обтер платком руки и подошел к молодой купчихе.
— Извините нас, пожалуйста, Федосья Васильевна, мы заработались, и совсем забыли, что заставлять вас сидеть неподвижно в одном положении прямо безбожно.
Зимин, в свою очередь, поспешил извиниться.
Хрустальникова подошла к мольберту и опытными глазами художницы улавливала сходство контуров, зачерченных углем, с оригиналом.
— Максим Давыдович, покажите ваш альбом, — обратилась к Зимину Перегудова.
В беседке, куда вслед за тем перешли Перегудова и Зимин, было прохладно. Вся увитая диким виноградом, свисшим даже тяжелою портьерою над одною стороною входа, она озарялась зеленоватым светом. Здесь царила полутемнота. Золото солнца ярким контрастом блестело на песке дорожек, видимых сквозь отверстие входа.
— Как здесь хорошо, прохладно, — проговорил молодой фабрикант, опускаясь на табуретку.
Раиса Владимировна села с ним рядом на другую.
— Да, у нас здесь в жаркую погоду рай, — поспешила она ответом.
— Не только здесь. Весь ваш уголок глядит раем... — заметил Зимин.
— Вам понравился наш садик?
— Кому же он не понравится, в особенности при такой любезной хозяйке.
Перегудову приятно польстило замечание собеседника.
— Красиво и поэтично в вашем саду, — снова проговорил Зимин, а я поклонник красоты во всех ее проявлениях.
— Что вы скажете в таком случае о Фене, — порывисто спросила Перегудова, нетерпеливо ожидая ответа, — ведь она... очень красива?
Зимин немного смутился.
— Да, Федосью Васильевну можно назвать красавицею, но...
Это «но» заставило вздрогнуть насторожившуюся Перегудову и жадно ждать окончания начатой фразы.
— Но она мало развита, почти совсем необразованна, насколько я мог заметить, а это много вредит впечатлению, — нерешительно сказал Максим Давыдович. — Бога ради, простите, что я так смело отзываюсь о вашей знакомой.
— Вам не в чем передо мною извиняться, — весело проговорила хозяйка, — я очень люблю Феничку, но, к сожалению, должна согласиться с вами. Женщина даже изумительно красивая теряет много, если она не получила воспитания и образования; винить Феню нельзя, это не ее вина, впрочем, она счастлива со своим мужем и без этого.
— Вы думаете?
— Уверена! Кругозор ее очень невелик, желания очень скромны, муж имеет средства, по-своему балует ее...
Они незаметно отклонились от Полушкиной и перешли на искусство. В лице Перегудовой Зимин встретил крайне внимательную слушательницу, хотя и не обладающую знанием, но ловко умеющую обходить все вопросы, мало ей понятные, и отвечать впопад.
Разговор их принимал все более оживленный характер. Интерес Зимина к молодой женщине усиливался, ее бойкость, смелость воззрений его поражала.
В свою очередь беседа, завязавшаяся между тремя лицами, оставшимися в саду, велась тоже в оживленной форме. Хрустальникова, любопытная как большинство женщин, ловко выспрашивала о житье-бытье молодой Полушкиной. Вначале немного робкая, Феня, при вкрадчиво-любезных расспросах Надежды Петровны, оживилась и, краснея, отвечала ей.
Львовский, сосредоточенно нахмурив брови, прислушивался к их разговору.
— Дяденька-с, окромя как грамоте да немного рихметики, ничему иному меня не учили, оттого я такая дикая и осталась, — медленно произнося слова, признавалась Полушкина.
— И неужели вам никогда не приходило желание узнать более, чем вы знали, обогатить свой ум новыми впечатлениями, знаниями?..
Феничка не совсем ясно понимала, о чем ее спрашивают, она снова робко ушла в свою раковинку, но тем не менее жадно прислушивалась к чуждым речам, имевшим для нее прелесть новизны.
— Бедная, вы моя, бедная, — аффектированно проговорила Надежда Петровна. — Марк, нам необходимо позаботиться об ее развитии.
Львовский странно взглянул на говорившую, серьезно посмотрел на свою красивую модель, пожал плечами и как- то неопределенно пробормотал:
— Разумеется, разумеется.
— Какой вы... тюлень! — недовольно сказала Хрустальникова и снова обратилась к Фене.
— Если вы желаете, я готова вам передать все мои знания, — тем же приподнятым тоном продолжала Надежда Петровна, — вам необходимо развиваться, расширить ваш умственный кругозор, иначе вы, с вашей красотой, заглохнете в этом медвежьем углу.
Феня внимательно слушала говорившую, прерывая изредка словами благодарности. По-видимому, подобная проповедь его сожительницы заставила соскучиться художника, он быстро подошел к беседке и, не входя в нее, громко спросил:
— Что ж, будем сегодня еще писать, Макс, или до завтра оставим?
Зимин появился на пороге.
— Мое мнение, что на сегодня довольно. Как вы думаете, Надежда Петровна? — крикнул он Хрустальниковой, оживленно беседовавшей с Феней.
— Правда, лучше завтра, Федосья Васильевна устала.
— Что вы, что вы, — пробовала возражать Полушкина, — я готова сидеть хоть целый день, а завтра я не могу придти, мы едем с мужем к дяденьке.
— Оставим тогда до послезавтра, — серьезно заметил Львовский, на этом и согласились.
Сеанс не возобновлялся, и скоро Львовский с Хрустальниковой вышли из сада, Феня тоже стала прощаться с Раисой Владимировной и Зиминым.
— Да и мне уже пора, — сказал молодой человек, — завтра, я надеюсь, мы возобновим наш крайне интересный разговор об этике и красоте, я зайду к вам, — проговорил он, прощаясь с Перегудовой.
— Я очень буду рада, приходите, — просто ответила она и почему-то покраснела.
Феня мало поняла из их разговора, она быстро вышла из сада. Вскоре вслед за нею ушел и Максим Давыдович.
Перегудова была довольна результатами дня, — в ее провинциальном прозябании явился интерес. Разговор ее с Зиминым заставил усиленно биться ее сердце. Молодая женщина заметила, что и он с своей стороны ею заинтересован.
Долго после их ухода она сидела в беседке, припоминая и прослеживая мыслями все, что они говорили.
Необычный разговор встревожил Полушкину. Возвращаясь домой, она вздрагивала и пугливо озиралась по сторонам.
Новые воззрения, переданные ей вскользь Хрустальниковой, противоречили косности взглядов той среды, в которой она находилась с малолетства. Она терялась в догадках, разность воззрений ее пугала. Она стояла на перекрестке, не зная, что ей предпринять. В ней начали просыпаться сомнения.
ГЛАВА IX.
Воспользовавшись тем, что Полушкина не придет на сеанс, Львовский и Зимин переехали на челноке на другой берег Волги, и первый из них, расположившись на взгорье, начал писать лежащий на холмах правого берега городок. Красиво раскинувшись по зеленым оврагам, скатам и перелескам, он просился на полотно. Белые фасады его каменных строений весело смотрели в мирно струившуюся под ними реку. Холмы, на которых лежал город, придавали оригинальность пейзажу; колокольни церквей, ютящихся в логах и низинах, показывали только золотые кресты своих куполов из-за зелени муравы, тогда как другие, построенные на вершинах, высоко уходили в небо. Контраст был поразительный. Точно так же и благовесть низко лежащих храмов гудел глухо, скрадываемый стеною соседних холмов, звон же колоколов верхних церквей далеко разносился по реке, полям, отдаваясь в сосновом бору, щеткою синевшем на другом берегу.
Сегодня было воскресенье, обедня в церквах только что отошла, и веселый трезвон широкою волною, смягченный полосою Волги, гармонично несся из городка, навевая какое-то жизнерадостное настроение.
Зимин не работал. Одетый в чечунчовый* костюм, он полулежал на песке, недалеко от работавшего товарища и небрежно проглядывал желтую книжку. Заметно было, что мысли его не здесь.
* Чесучовый.
— Марк, а Марк, — лениво протянул он.
Художник, не отходя от мольберта, обернулся. Его серьезное лицо смотрело вопросительно.
— Что тебе, Макс?
— У меня не выходит из головы эта лавочница. Какая красота!
— В этом я с тобою согласен и, как художник прибавлю, что для позировки трудно найти головку более красивую и изящную. Она мне послужит материалом для одной жанровой картины, которую я задумал.
— Ну, а как женщина, — нравится она тебе?
Львовский нерешительно сдвинул свой синий берет на затылок и сквозь зубы проговорил:
— Не-ет! Этот тип не в моем вкусе. Ты знаешь, я отыскиваю блеклые краски, люблю увядающую природу более чем тогда, когда она только оживает или в полном расцвете. Женщин я тоже предпочитаю, когда они уже немного fanees!* — И с этими словами он снова взял в руки муштабель** и кисть.
* Поблекли (франц.).
** Палочка, для упорки руки с кистью живописца (Даль).
— Извращенный вкус, — пробормотал Зимин, — я, напротив того, люблю эти чисто русские лица, длинные белокурые косы, эти глаза, смотрящие как-то наивно недоумевающе, эти мягкие черты, удел которых в недалеком будущем расплыться, эту присущую блондинкам лень...
Художник, не оборачиваясь, проговорил:
— Сейчас заметно, что ты сам российский человек, да еще из именитого московского купечества. Ваш идеал женщины — это чтобы она была толста, сентиментальна, пожалуй, даже глупа и ленива! Как вы сами еще сладко спите, в редких случаях только еле-еле открываете глаза и изумленно поглядываете, не приступая еще к настоящему делу, так и женщин ищете для себя таких же ленивых.
Зимин слушал, не прерывая его иронической речи, и когда он кончил, вяло произнес:
— Пожалуй, ты и прав. Но что же делать, мне Полушкина очень нравится.
— Что делать? Для энергичного человека подобного вопроса не существует, но тебе, пожалуй, я отвечу. Ты слышал, что говорила вчера Надежда Петровна?
— Нет. Когда вы разговаривали, я сидел в беседке с Перегудовой.
— А эта тебе нравится?
Зимин лениво потянулся.
— Немножко.
— Вот ты каков, и та, и эта! Но не в том дело. Если ты действительно интересуешься Полушкиной, попробуй начать ее развивать, сделай ее равной себе, а уж после и думай о дальнейшем.
— Ты прав, — оживился молодой человек, — это необходимо. С завтрашнего же дня начну.
— В Хрустальниковой ты найдешь деятельную помощницу, она еще раньше тебя об этом подумала, ей жаль эту простодушную красотку.
— Что же, за это Надежде Петровне нужно только сказать спасибо.
Трезвон в городке окончился, к берегу плыли паромы и лодки с народом, возвращавшимся из церквей домой в слободу.
Пестрая кучка ярко разодетых женщин и мужчин, выйдя на берег, цветными лентами потянулась по тропинкам к слободе.
— Мир вам, господа, — услышали певучий привет художники, и перед ними показалась сухощавая фигура Федоса, поднимавшегося в гору.
Он с любопытством взглянул на эскиз Львовского.
— Очень сходственно, — также нараспев пробормотал бывший начетчик, — совсем как вылитый.
Зимин знал немного Федоса, но Львовскому он был совсем незнаком, и художник с нескрываемым изумлением посмотрел на него.
— Вот этот господин мне незнаком, — смело проговорил миссионер, протягивая руку, — позвольте познакомиться.
Львовский сказал свое имя.
— Так-с, по видимости, из живописцев будете. Что ж, каждый свое ремесло справляет. А я когда-то в солдатах служил, в гвардии, в Павловском полку, в раскол совратился, «соблазнен бех», а теперь снова в единой православной кафолической церкви состою и за нее ежечасно борюсь, духовно сражаюсь, — твердо и уверенно закончил Федос.
Художник заинтересовался миссионером.
— Не могу ли я присутствовать на ваших беседах и словопрениях? — спросил он.
— За честь сочту, господин, только затруднительно для вас будет, долгонько длятся наши беседы-то. Иной раз начнем с утра, а почитай, далеко за полночь все еще не можем окончить.
— Неужели так долго? Да вы и проголодаться успеете.
— Чего тут проголодаться, милейший господин. Я когда на прения иду, так и об еде позабываю, токмо одно писание и помню.
— Ну, уж я бы голодный не стал бы беседовать! — подхватил Зимин.
— И голода в эту минуту не чувствуешь. Творец Небесный сам помогает, Господь Бог кормит душу! Вот придете к нам на беседу, я вам подробно разъясню, если в чем сомневаетесь.
— А можно будет?
— Говорю, приходите, заранее повещу, а пока просим прощенья.
И старик, поклонившись обоим молодым людям, начал взбираться по тропинке к своему дому, видневшемуся среди кустов орешника.
— Ах, я грешник, — снова услышали его голос художники, — совсем было забыл, не хотите ли, господа, чайку испить, сейчас жена самовар поставит?
На его приглашение они отозвались отсутствием времени и начали собирать вещи, чтобы попасть к завтраку домой. Зимин, сложив мольберт и холст, взял ящик с красками и пошел следом за Львовским.
Скоро они уже плыли на челноке на другую сторону Волги.
— Какая сила воли у этого старика, — изумлялся Марк, — вот такой, кого хочет убедит. Гору с места сдвинет своим убеждением.
— Да ты его хорошенько еще не знаешь, — возразил Зимин.
— С двух слов человек виден, — уверенно решил художник, — один тон разговора мне это говорит.
— Вот, если бы у меня был такой характер! — с сожалением прошептал Максим Давыдович.
— Если бы, да кабы! — насмешливо заметил Львовский.
Челнок, скрипя, врезался в прибрежный песок, молодые люди выскочили из него и, забрав вещи, зашагали к дому Мудрецова.
ГЛАВА X.
Дождь, крупный, летний дождь, поливший на другой день во время сеанса, загнал всю компанию в комнаты перегудовского дома. Художников смочило порядочно, пока они убирали мольберт и краски. Дамы отделались сравнительно легко.
— Ай, ай, вы промокли, господа? — заботливо спросила Раиса Владимировна, — я сейчас вам принесу сухое платье.
И немного спустя Львовский и Зимин сидели в коломенковых* пиджаках хозяина.
* Из коломянки, прочной и мягкой льняной ткани (Ожегов).
— Точно ряженые у нас в Москве на святках, — пошутила Хрустальникова, — в особенности вы, Марк.
— Я не знаю, зачем беспокоилась Раиса Владимировна, — заметил Зимин, — летний дождь ненадолго: сейчас солнышко выйдет и нас обсушит.
Львовский пытливо взглянул на хмурившееся небо.
— Ну, едва ли погода скоро разгуляется, смотри вон там, как заволокло, — указал он товарищу рукою.
— Во всяком случае, перестанет дождь или нет, мы не будем стеснять хозяйку, — решительно сказала художница, — попросим снабдить нас зонтиками и смело пойдем домой.
— Вы меня ничем не беспокоите, я рада, напротив того, гостям.
— Ну, идемте, дети, идемте, — скомандовала Надежда Петровна, не слушая Перегудову, — крупный дождь перестал. Вы с нами, милая Федосья Васильевна?
Феня не знала, что ей отвечать, за нее поспешила сказать хозяйка.
— Нет, нет, ее я во всяком случае не отпущу.
Хрустальникова изумленно взглянула на говорившую.
— В таком случае, мы идем одни, — решила она и стала прощаться.
Зимин по-видимому был не расположен уходить, он отыскивал какую-нибудь причину, чтобы остаться.
— Вы идите вперед, а я еще немного посижу, поболтаю с дамами.
Надежда Петровна иронически прищурилась и посмотрела на фабриканта.
— Наше войско еще сократилось, может быть и вы хотите остаться? — бросила она небрежно художнику. Превосходно изучивши ее характер и заметивши тревожное настроение глаз, Марк Самуилович не захотел домашней сцены и молча последовал за Надеждой Петровной и Мосс.
Из окна кабинета видно было, как поднимались они в гору; ноги их скользили по глинистому скату и, несмотря на поддержку Львовского, Хрустальникова чуть было не скатилась в ров.
— И чего убежали, — укоризненно заметила Перегудова, — я только что хотела собирать чай, а они ушли.
— Выпить бы чайку действительно не дурно, — машинально заметил Зимин, не переставая смотреть на Полушкину.
— Я сейчас велю поставить самовар.
Раиса Владимировна вышла из комнаты; ей было почему-то неприятно оставлять Феню с Зиминым вдвоем.
— Как жаль, что вы не пошли к нам, Федосья Васильевна, — порешил воспользоваться уходом хозяйки фабрикант и завязать разговор.
— Почему же жаль? — последовал робкий вопрос Фени.
— Вам, наверно, интересно было бы посмотреть картины и этюды, а их Марк Самуилович много написал.
Феня нерешительно проговорила:
— Я приду в другой раз.
Согласие молодой женщины невольно обрадовало Максима Давыдовича.
— Я буду очень рад, но когда же вас ждать, завтра?
— Как-нибудь беспременно заверну.
— Приходите завтра, да, да? — нетерпеливо спрашивал Зимин.
— Хорошо, — чуть слышно прошептала Полушкина и потупилась.
Дверь в кабинет скрипнула, в комнату вошла Перегудова.
— Я велела собрать чай на веранде, дождик прошел, какой аромат несется из сада. Пойдемте.
Все вышли на веранду.
Раиса Владимировна была права. Запах роз после дождя стал сильнее. Густою волною врывался он на веранду, слегка кружа голову. Освеженная дождем зелень сада казалась обновившеюся. Крупные капли влаги, медленно скатываясь по листьям, тяжело со звоном падали на песок дорожек. Потемневшая Волга ровной полосой отделялась от прибрежных кустов.
Грачи в мудрецовском саду, стихнувшие во время дождя, снова начали оглашать окрестности своим надоедливым криком.
— Какая у вас благодать, — тихо промолвил Зимин, в котором под впечатлением картины проснулись инстинкты художника.
— Расчудесно! — подтвердила Полушкина. Это «расчудесно» неприятным диссонансом резнуло Зимина. Ему пришел на память вчерашний разговор с Львовским по поводу неразвитости Фени, и он, во что бы то ни стало, решил поспешить заняться ее перевоспитанием.
— Вы читаете что-нибудь, Федосья Васильевна?
— Зимой, когда нечего делать, читаю. Вот Раиса Владимировна мне и книжки дает.
— Она любит читать что-нибудь страшное, — улыбнулась хозяйка, — я ей давала Эдгара Поэ, рассказы Загоскина...
Очередь усмехнуться пришла теперь Зимину.
— Загоскин уж очень устарел, мало ли теперь есть интересных новинок.
— Ах, дайте мне, пожалуйста, — оживилась Феня, — я очень буду вам благодарна.
— Вот когда придете к нам, я вам и отберу несколько книжек.
Перегудова с изумлением взглянула на обоих.
— Да, да, мы решили с Федосьей Васильевной, завтра, чтобы ей не мучиться на солнопеке, писать ее портрет у нас в комнатах. Свету там масса и не жарко, — придумал быстро объяснение фабрикант.
— А фон, а цветы?.. — нетерпеливо спросила Раиса Владимировна.
— Это летом можно написать, тем более, что поза зачерчена, положение уловлено.
Недовольная гримаска мелькнула на лице хозяйки. В своем саду она имела полную возможность быть все время на сеансе, приходить же для этого в чужую квартиру было не совсем удобно. Подобная постановка вопроса ее сердила, она мысленно искала иного исхода, но ничего не могла придумать.
— А если Сила Парфентич не разрешить Феничке приходить к вам? — мелькнула у ней мысль, которую она сейчас и высказала.
— И что вы, Раиса Владимировна, что вы! — возразила Полушкина, — со стороны Силушки препятствия не будет, он оченно был доволен, что с меня рисуют портрет.
Последняя надежда не пустить Феню к художникам исчезла у Перегудовой, она нервно налила чай, передала чашки гостям и как-то странно проговорила:
— Что ж, я рада за вас...
Она насилу могла совладать с собой.
Ни Зимин, ни Феня ничего не заметили.
Художник, обрадованный согласием молодой женщины, мысленно составлял программу ее развития, в то время как Полушкина, несмотря на высказанную ею уверенность, что муж отпустит ее завтра к Хрустальниковой, боялась, что он не разрешит этого.
— Завтра мы ждем вас к нам, непременно, — повторял Зимин Фене, прощаясь с дамами.
Феня не особенно решительно кивнула ему головой, а Перегудова сухо с ним попрощалась.
Максим Давыдович забыл пригласить ее на завтра.
ГЛАВА XI.
— Итак, мы сегодня принимаемся за великое дело развития женщины, до сих пор не видавшей света! — не без пафоса сказала Хрустальникова, когда Зимин сообщил ей о сегодняшнем появлении Полушкиной у них в доме.
Надежда Петровна была одета сегодня еще эффектнее, чем предшествующие два дня. Широкий капот из чечунчи*, весь плиссированный, перехватывался у пояса широкой черной бархатной лентой, плечи были открыты, волосы слегка гофрированные, с левой стороны небрежно сдерживала желтая лента в тон капота, на ногах были одеты желтые чувяки** из тонкой кожи.
* Чесучи — шелковой ткани особого сорта, желтовато-песочного цвета (Ушаков).
** Мягкие туфли без каблуков (Ушаков).
Утренний кофе еще не был убран, когда был решен план действий. Львовский предложил сразу не запугивать молодую купчиху, а вести все постепенно, понемногу знакомя ее с новыми воззрениями.
Громадная комната мудрецовского дома очень годилась для художественной студии. Масса света, воздуха давали возможность работать и во время дурной погоды. Оригинальный вкус Львовского, отчасти и Хрустальниковой, сказался в их незатейливой, но изящной обстановке. Окна были наискось завешаны деревенскими ручниками*, сшитыми вместе. Вокруг длинного стола, помещавшегося в первой комнате посредине, стояли простые, сделанные из лозняка, стулья и кресла. В углах комнаты и местами вдоль задней стены на подставках были размещены различные горшки, поддоники**, корчаги*** из простой глины. Львовский, проходя через базар, увидел горшечника, привезшего их целый воз, накупил и, с помощью Надежды Петровны, расставил их в артистическом беспорядке в зале. Комната самого художника была вся обвешена эскизами и этюдами, прикрепленными прямо к обоям без подрамников. Нужно было изумляться, когда успел он их все написать, хотя, несмотря на поспешность, в каждой вещи проглядывал талант.
* То же, что рушник — вышитое полотенце.
** Подставка под горшок.
*** Большой сосуд, часто в форме бочонка или амфоры.
Надежда Петровна занимала комнату по другую сторону корридора, и ее окна выходили прямо в сад. Здесь было отведено живописи гораздо меньше места, но разнообразный выбор костюмов, развешанных по стенам, поражал. Эксцентрично, но в то же самое время красиво и к лицу одеться было неизменною задачею Хрустальниковой. Рядом с нею, в небольшой комнатке помещалась ее поклонница Моос, заведовавшая всем хозяйством. Зимину была отведена комната тоже на улицу, рядом с Львовским, и богатый молодой человек устроился там с известным комфортом.
Ветхая веранда, составлявшая продолжение деревянной крутой лестницы, выходила на Волгу, отделенную от дома только проезжею дорогою.
В назначенный час для сеанса, оба художника, высунувшись из окон второго этажа, нетерпеливо смотрели на дорогу. Опоздав не более десяти минут, Полушкина явилась в вчерашнем костюме, раскрасневшись от скорой ходьбы.
— Я сегодня опоздала, но вина не моя, а Силушки. Ему куда-то нужно было ехать по делу, вместо себя он меня посадил в лавку, — недовольно закончила Полушкина.
— Это ничего не значит, мы очень рады вас видеть, — любезно встретил гостью Львовский.
— Неужели вы довольны подобной жизнью? — прямо начала свой натиск Надежда Петровна, несмотря на качанье головы Зиминым.
Феня с нескрываемым любопытством взглянула на нее.
— А то чего же еще мне надобно? Муж хорош, дела у меня немного, молода, здорова...
— И ничего другого вам не нужно! А внутренний ваш мир, самосознание, разве оно не требует чего-либо иного? Разве ваши мысли только и ограничены этим горизонтом, стремлений у вас не существует? — все сильнее и сильнее говорила Хрустальникова. — У вас все это имеется, но спит, крепко спит, и мы, — указывая на себя и художников, повторила Надежда Петровна, — мы призваны пробудить вашу внутреннюю жизнь, открыть вам новый мир, мир до сих пор вам чуждый, незнаемый.
Феня не то с испугом, не то с любопытством слушала непонятную для нее речь Хрустальниковой.
— Скажите, — снова спросила ее та, — хотите вы совершенствоваться в деле своего развития?
Полушкина, испуганная ее оживленным монологом, молчала.
— Не горячитесь, Надежда Петровна, — вкрадчиво вмешался Львовский, — мы все это постепенно объясним Федосье Васильевне, а теперь приступим к портрету, нужно помнить, что солнце может переменить положение, а нам необходимо работать при том же освещении, как начали.
И художник стал усаживать Полушкину в прежнюю позу.
— Сидите, не стесняя себя, — пояснял он модели, — это не фотография. Для нас главное — уловить общее впечатление и тоны.
Несколько минут чувствовалось неловкое молчание. Его прервал Зимин, уронив альбом, в который он по прежнему зачерчивал фигуру Полушкиной. От неожиданности женщины вздрогнули.
— Итак, Федосья Васильевна, вы любите читать что- нибудь страшное, это мне передал мой приятель, — сказал Львовский, не переставая работать.
Феня была рада выйти из неловкого положения, в которое ее поставила хозяйка.
— Люблю, даже очень.
— Превосходно, я вам сегодня дам интересную книгу, как один англичанин знал секрет превращаться из маленького в большого и наоборот, один раз он был добрым, другой — злым.
— Вы шутите, Марк Самуилович, — недоверчиво спросила Феня, — я так мало знаю, что надо мною немудрено потешаться.
— Нет, не шучу. Это происходило, по словам романиста, в действительности.
— Вот, когда вы будете нас слушаться, — вмешалась в разговор Хрустальникова, — мы вам все объясним и поможем.
— Я не знаю, как Сила Парфеныч позволит.
— А для чего его спрашивать? Когда придете сюда на сеанс, мы тут и будем вам все объяснять.
— Если так, отчего же, — я согласна.
— Глядите немножечко прямее, — мягко заметил Львовский.
Феня села по указанию художника.
— Мерси, довольно теперь, — снова сказал Львовский, — мне главное нужен был эффект оборота головы.
Работа продолжалась.
— Феничка, вы здесь? — послышался голос Перегудовой с улицы.
Полушкина подбежала к окну.
— Здесь! Здравствуйте, Раиса Владимировна, а что?
— Нет, ничего, я думала, что сеанс уже окончился и мы с вами пойдем погулять.
— Это вы, наша bonne voisine?* — проговорила Хрустальникова, тоже подбегая к окну, — что же вы стоите на солнце, входите к нам сюда.
* Соседушка (франц.).
В другой раз Перегудова ни за что бы не вошла, но сегодня она охотно согласилась, — ее тянуло поговорить с молодым Зиминым.
— Не помешаю?
— Вот еще какие новости! — отозвался сам Львовский, — милости просим, — и отложив кисти и палитру в сторону, он поднялся с табуретки, на которой сидел, чтобы приветствовать вошедшую.
— Они смеются надо мною, Раиса Владимировна, — пошутила Полушкина.
— Нисколько, я ей только предлагаю книжку о мистере Хайкинсе.
— Я читала, очень интересно, — подтвердила Перегудова.
Разговор сделался общим. Львовский снова взялся за кисть, но, продолжая работать, перекидывался мелкими замечаниями с Хрустальниковой. Надежда Петровна ни на минуту не отклонялась от своей мысли развивать Феню, и уже теперь сразу перешла в разговорах с нею на какой-то докторальный тон.
Раиса Владимировна не замечала его. Она, точно очарованная присутствием Зимина, прислушивалась к каждой сказанной им фразе, стараясь придать ей особое значение. По окончании сеанса, художники придумали отправиться всею компанией в лес искать грибы, но против этого предложения восстала Хрустальникова, предполагавшая после завтрака идти вместе с Марком Самуиловичем писать этюды в противоположный конец города, на старое кладбище.
— В другой раз еще успеем, — заметила Перегудова, — грибы только еще начинаются.
— Вот вам, Федосья Васильевна, «Приключение м-ра Хайкинса»*, — сказал Зимин, передавая молодой женщине тоненькую книжку, — а это вот еще возьмите, я думаю, вам понравится.
* Судя по пересказу сюжета книжки на предыдущей странице, это «Странная история доктора Джикиля и мистера Хайда». Соч. Р. Л. Стивенсона. Спб., А. С. Суворин, 1888, 8, 147 с.
— «Обрыв», — прочитала Феня громко название, — вероятно, что-нибудь интересное, спасибо. Я вам верну скоро эти книги.
— У нас много, Федосья Васильевна, только берите, — покровительственно прибавила художница, прощаясь.
Полушкина и Перегудова стали подниматься в гору.
— Завтра утром мы вас ждем, — услышали они за собою голос молодого фабриканта.
К кому относилось это приглашение, трудно было решить, но они обе приняли его на свой счет.
ГЛАВА XII.
Писание портрета Полушкиной продолжалось почти ежедневно. Чтобы долее видеть молодую женщину, Зимин упросил Львовского работать возможно медленнее.
Теперь обыкновенно сеанс прерывался расспросами Хрустальниковой и Зимина у Фени о прочитанных ею книгах, как она понимала по-своему характеры героев романа или повести, причем оба импровизованные ментора указывали ей ее ошибки в оценке того или другого произведения. Иногда возникали даже споры. Дело развития молодой купчихи двигалось довольно успешно. Прошло не более двух недель с первого посещения ею дома Мудрецова, а уж нельзя было сравнить ту робкую мало развитую Феню с теперешней. Кругозор ее расширился, она начала понимать косность той среды, куда закинула ее судьба. Нелепые воззрения мужа, превратные толки близких ему раскольников невольно заставили Феню все больше и больше интересоваться тем лучом света, который так случайно проник в ее жизнь. Перегудова часто, но не постоянно посещала эти сеансы, принявшие за последнее время характер бесед. Раису Владимировну интересовало быстрое усвоение Феней всего слышанного и объясненного. В то же время Максим Давыдович, обращавшийся с нею крайне предупредительно, служил немаловажною причиною, привлекавшею Перегудову к соседям. В прочитанном «Обрыве» Феня очень плохо, скорее совсем не поняла первую часть, где мечтатель Райский тщетно старается найти свое истинное призвание.
— И чего он бедный все хлопочет, — по-своему объясняла Полушкина нервность и разочарования гончаровского героя, — деньги есть, сидел бы себе и наслаждался.
Но далеко не такое мнение сложилось у ней, когда она прочла второй том. История увлечения Райского Верою и неразделенная любовь заставила ее задуматься и пожалеть героя. Волохов против ожидания не произвел на нее дурного впечатления, она хорошо поняла его сильный характер и смело высказалась за него, обвиняя Веру в ее несчастии.
Но больше всего ей понравилась бабушка, Феня не уставала хвалить действия старухи, находя их вполне справедливыми.
Эта своеобразная, но характерная оценка романа поражала артистическую богему; видя успехи своей ученицы, они с удвоенными силами продолжали ее развивать.
Частые отлучки жены из дома, а главное из лавки, где она раньше постоянно заменяла мужа в его отсутствие, не могли понравиться Силе Парфенычу. Он изумился, что портрет так долго пишется.
— Должно быть, оченно старательно вы портрет Федосьи Васильевны рисуете, — с изысканною вежливостью заметил он как-то Львовскому, когда тот зашел к нему в лавку, — очень уж долго.
— Что ж делать, — неопределенно развел руками художник, — долго, но зато хорошо.
— Помилуйте, Марк Самуйлович, я в этом и не сомневаюсь, — поспешил ответить хозяин, боясь обидеть постоянных покупателей, уже не один десяток рублей доставивших ему, — мы очень рады-с, только извиняемся, что уж очень утруждаем.
Художник невольно усмехнулся готовности продавца ради своих выгод говорить не то, что он думает.
— Книжечки ей также изволит давать, Надежда Петровна, — вкрадчиво продолжал Полушкин, — так это, по моему мнению, напрасно, портит глаза только Федосья Васильевна, чуть не до свету со свечкою сидит. Я уж иной раз семь снов перевижу, а она только что еще спать укладывается. Экономию-с не наблюдает, целую свечку сжигает за вечер, а ноне три копейки на фунт подорожали, — пошутил Сила Парфеныч и осклабился.
— Ну, это убыток еще не большой, — добродушно произнес Львовский.
В лавку зашел мимоходом Перегудов.
— Мое почтение, Марк Самуйлович, — поспешил сказать заводчик, — Сила Парфеныч, здравствуйте. А я по делу к вам. Говорят, в воскресенье, после обедни у вас опять собеседование назначено...
— Это все ваш Федос не может угомониться, — с неудовольствием процедил сквозь зубы хозяин, свертывая машинально раскиданный на прилавке кусок материи, — кажется, чего человеку нужно, получает от казны пенсию. Сидел бы себе стар человек дома, нет, все спорить лезет!
— Разве опять у вас беседа? — вмешался в разговор художник.
— Вот, сами слышите, Виктор Семенович говорит.
— А где же она будет происходить?
— Вероятно, у Кострецова на дому, — сказал молчавший Перегудов, — тут недалеко, в слободке за речкою.
— Знаю, знаю, — утвердительно кивнул головой Львовский, — это около кладбища, где я этюды пишу, небольшой домик, рядом с часовней. Придти туда можно?
Полушкин нерешительно взглянул на говорившего; пускать на собеседование чужих людей, в особенности, когда противником являлся Федос, не входило в расчеты их согласия.
— Да вам там неинтересно будет. Говорят, спорят без конца.
— Нет, идите, это напротив, очень интересно, — заметил Виктор Семенович, большой любитель теологических споров.
— Я охотно приду, да, вероятно, и Максим не откажется, мы уже об этом просили Федоса Алексеевича.
— Что же, коли вы не прочь полюбопытствовать да поскучать, милости просим на беседу, — проговорил Сила Парфеныч, хотя по тону его приглашения незаметно было, что это для него приятно.
Перегудов с Львовским, распрощавшись с хозяином, вышли из лавки.
— Вы домой? — спросил Львовский.
— Да, туда.
— Ну, и я с вами.
Они оба пошли по нижней улице.
— Чудак этот Полушкин, — промолвил Перегудов, — не хочет, чтобы посторонние слышали, как они теряют под ногами почву при объяснениях Федоса.
— Неужели он действительно такой знаток?
— Сами увидите, у него есть самое важное — полная уверенность в самом себе и в правоте своей защиты.
— Это главное для успеха. Я замечаю на себе: без этой уверенности в своих силах ни одна картина не будет иметь той притягательной силы, которую у нас называют присутствием таланта. Я же, с моей точки зрения, считаю подобное увлечение толпы — известным гипнозом, — иначе, уверенностью художника в самом себе, в своих силах, что несомненно выражается и в картине.
Перегудову такое толкование было ново и, не имея близкого знакомства с внутреннею стороною творчества, он только молча слушал своего собеседника.
Вскоре они дошли до калитки перегудовского дома и распрощались, художник стал спускаться к своей квартире.
ГЛАВА XIII.
— Что-то наши соседи полюбили Феню, — сказал Перегудов, входя в беседку, где сидела Раиса Владимировна, — чуть утро, она уж у них, да поди целый день там и бывает, чтобы не вышло чего дурного.
— Не думаю, Витя, — спокойно ответила Перегудова. — Чудаки, эксцентрики они страшные, но на что-либо дурное не пойдут. Просто Фене там весело, она берет у них книги, читает, заметно развивается...
— В этом беда еще не велика, а потом...
— Что потом? Скоро и лету конец, уедут и художники в Москву, целую зиму успеет Феня со своим Силой Парфенычем насидеться.
Недовольная улыбка промелькнула по лицу Перегудова.
— Слушая тебя, можно подумать, что и ты предпочитаешь их общество времяпровождению со мной.
Раиса Владимировна немного смутилась.
— Какой ты странный, — сейчас же применять все к себе. Мы с тобой сколько лет уже женаты, а Феня же еще молода, света не видела, все ее интересует, скоро ли ее муж-то свозит хотя бы в Москву! Сиди, сиди себе да посиживай в нашем городишке долгую зиму, и выглянуть даже некуда. Ну, и рада, что есть с кем поболтать, хоть душу-то отвести немного.
— А ты не думаешь, что она увлечется Зиминым? — сумрачно спросил муж.
— Ни в каком случае! — как-то победно поспешила возразить молодая женщина.
Она продолжала предполагать, что молодой фабрикант увлечен ею, и что частые посещения дома Мудрецова Феней являются только желанием художников иметь для своих студий красивую модель.
— Ого, как ты храбро его защищаешь, — шутливо проговорил Виктор Семенович, — можно подумать, что ты сама в него влюблена.
Раиса Владимировна опустила голову, чтобы скрыть невольный румянец, выступивший на ее щеках.
— Я думаю, время обедать, готово ли? — спросил Перегудов.
Раиса Владимировна воспользовалась возможностью уйти, чтобы скрыть свое смущение. В беседке остался один Перегудов, старательно обрывавший засохшие листья дикого винограда.
В калитку забора кто-то постучал. Хозяин пошел отпереть ее. Пришедший оказался Зиминым. Художник был, по- видимому, изумлен встречею с Перегудовым.
— Я забежал к вам с просьбою разрешить сегодня после завтрака писать портрет Федосьи Васильевны здесь, у вас в саду.
— Мне очень приятно. Ну, что, как у вас с ним, двигается вперед?
— Почти совсем готов, теперь необходимо отделать детали и фон. И Львовский просил вашего позволения явиться сюда заниматься.
— Пожалуйста, пожалуйста, а Федосья Васильевна у вас?
— У нас, у нас. Что за прелестная женщина, не говоря уже о выдающейся красоте ее, какая мягкость характера. О, из нее при другом воспитании мог бы выйти передовой человек.
— Может быть, и выйдет, — заметил иронически Перегудов, — ведь вы все ее развиваете*, как я слышал.
* Стоит отметить, что ключевое слово появляется впервые почти строго в конце первой трети, а «выходит на публику» здесь, почти ровно в середине романа.
Зимину стало неловко от его тона.
— Это так, пустяки, — попробовал он увильнуть от расспросов.
— Знаете что, господа, развивайте вы ее там как хотите, но не заставляйте презирать ту среду, из которой она произошла и в которой теперь живет. В противном случае это будет ее гибелью.
— А зачем это делать. Федосья Васильевна не маленькая, сама знает что ей нужно.
Разговор был нарушен приходом Раисы Владимировны и прислуги, накрывавшей стол для обеда в беседке.
— Максим Давыдович, — вся расцветшая от прихода Зимина, приветствовала его хозяйка, — какими судьбами вы сюда попали? Я только что к вам после обеда собиралась.
Зимин объяснил цель своего прихода.
— Оставайтесь с нами обедать, — проговорил хозяин. Фабрикант согласился.
После обеда в саду Перегудовых снова появилась семья художников. Портрет, действительно, был почти готов, оставалось дописать только аксессуары. Львовский, усадив Полушкину у того же куста, где она сидела в первый день работы, начал усиленно работать. Куст розанов все еще продолжал роскошно цвести, несмотря на две недели промежутка. Виктор Семенович давно не видел Фени, и желал лично проверить, действительно ли жена права, что Полушкина неузнаваема.
— А мы с вами, Феничка, довольно долго не виделись, — проговорил Перегудов.
Вместо обычного робкого подтверждения, какое он ожидал услышать от молодой женщины, Феня засмеялась и, смотря прямо ему в лицо, ответила:
— Неужели долго, а мне казалось, что я как будто недавно с вами виделась.
— Вот что значит интересные знакомые, — вы и время не замечаете.
— Действительно, эти пятнадцать дней мне много принесли пользы, — твердо отпарировала Феня, — знакомство с такими людьми как они, — и она указала на присутствующих, — чрезвычайно мне дорого и приятно.
— Ну, вы это уже слишком, — послышалось замечание Хрустальниковой, — нам не менее приятно проводить время с такою очаровательною особою, как вы.
— Обмен вежливостей, кажется, окончен и я могу спокойно удалиться, — пошутил Перегудов и с этими словами ушел на завод.
Раиса Владимировна и Зимин сидели немного подальше от других, под яблонью.
— Вы еще не скоро думаете уезжать отсюда, — спросила Перегудова своего собеседника.
— Вероятно, еще долго будем вам надоедать.
— Вы так думаете? — кокетливо посматривая на Зимина, произнесла Раиса Владимировна, — я могу на это заметить, что подобное надоедание для меня только удовольствие.
Молодой человек был польщен.
— Знаете что, Раиса Владимировна, редко мне приходилось так скоро сходиться с людьми, как с вами и вашим мужем. Замечательное радушие ваше ко всем нам... ко мне... — еще тише проговорил Максим Давыдович.
— Ну, что же дальше, говорите дальше, — нетерпеливо перебила его хозяйка.
— Все это заставляет меня принести вам мою искреннюю благодарность за них и за себя лично.
— И только?
Зимин вопросительно взглянул на говорившую.
Раиса Владимировна громко рассмеялась, ее смех заставил обратить на себя внимание работающих.
— Чему это вы радуетесь? — крикнула им Хрустальникова.
— А это так, пустое, Максим Давыдович смешную вещь рассказал.
— Как мне понять ваш вопрос, Раиса Владимировна? — чуть слышно спросил Зимин.
Перегудова на минуту задумалась.
— Никак! — крайне фальшиво прозвучал ее ответ.
— Нет, вы скажите все-таки...
— Только не сейчас, не сегодня.
Молодая женщина поднялась со скамейки и направилась в дом.
— Так и не ответите мне, что вы этим думали сказать? — услышала она за собой голос Зимина.
— После, может быть.
Заинтересованный ее намеками, Зимин подошел к Львовскому, не отрывавшемуся от работы.
— Что, брат Макс, флиртуешь? — тихо спросил художник приятеля.
— Сам не понимаю.
— Ах, ты младенец, младенец!
— Что это вы там секретничаете? — кричала им Хрустальникова.
— Пустяки. Макс спрашивает про освещение фона.
— Темнее, как можно темнее, это будет эффектнее.
— На сегодня, я думаю, довольно, — сказал Львовский Полушкиной.
Феня оставила свою неловкую позу.
ГЛАВА XIV.
Портрет нужно было во всяком случае окончить. Это стало для всех очевидно. Сила Парфеныч опять спросил о нем, встретившись с Зиминым на базаре, и, хотя вопрос его был очень вежлив, тем не менее, в нем слышалось настойчивое желанье увидеть портрет жены. В свою очередь, расспросов не избежала и Феня. Возвратясь как-то домой под вечер из лавки, Сила Парфеныч встретил ее вопросом:
— Ну, а патретик ваш, Федосья Васильевна, готов ли, наконец? Каждый день вы к господам художникам ходите, чуть ли не целый день там бываете, а толку все еще никакого нет.
Нетерпение Полушкина заставило ускорить отделку портрета и, спустя еще два дня, Силу Парфеныча пригласили в мудрецовский дом, чтобы взглянуть на законченную работу.
Львовский, с присущей ему артистичностью, сумел поставить его так, чтобы падающий на портрет свет буквально оживлял его. Казалось, что написанная на полотне красавица живет, — сходство было поразительное.
Полушкин был прямо изумлен портретом. Он долго молча стоял перед ним, затем несколько раз обошел вокруг него, точно предполагая, что в нем скрыта какая-то особенная сила.
— Вот, право, не думал! Как живая! Ай да молодец, Марк Самуйлович! Не даром так долго и писал! Что и говорить, дело мастера, боится! — бормотал купец, продолжая всматриваться в каждую черточку изображения.
Вдруг у него блеснула мысль, что за подобную работу художник запросит с него дорогую цену. Неприятная перспектива платить деньги заставила расчетливого купца задуматься.
— А что, Марк Самуйлович, какую же цену назначите? — нерешительно спросил он художника.
Львовский улыбнулся, — он чутьем отгадал подкладку этого вопроса и успокоительным тоном отвечал:
— Как есть ничего.
Силу даже пошатнуло в сторону от такого ответа, ничего подобного он не ожидал.
— А краски, а полотно, масло? Они ведь что-нибудь стоят, — с сознанием, что ему неудобно брать портрет даром, нерешительно заметил купец.
— Всему этому цена грош, работа главное, — уверенно произнес художник.
— Нечего и говорить, работа первый сорт. Спасибо коли так, — быстро обсудив и поняв выгодность такого подарка, сказал Полушкин, — заходите в лавку-то, сосчитаемся.
Снова пришлось улыбнуться художнику. Его смешила оценка его работы и предполагаемая смешная сторона этого расчета.
— Сейчас возьмете портрет? — спросил он Силу.
— Отчего же не взять. По дороге занесу к столяру. Рамку закажу самую лучшую.
— Эх, ты, Сила, — вмешалась Хрустальникова, — ничего ты не смыслишь. Не здесь рамку-то нужно заказать, а из Москвы выписать. Понял?
— Это для нас все едино — выпишем. Прощенья просим, нужно к торговле поспешать, без меня там, как без головы. Идемте, Федосья Васильевна.
— Нет, жену-то здесь оставь, — резко проговорила художница, — мы с нее другой портрет пишем, для себя.
Полушкин, в виду подарка, не решился возражать что- либо и отправился домой один. Феня была довольна.
Ее стремления, помыслы за последнее время все летели сюда. Дремавшие силы ее внутреннего мира пробуждались только больше и больше. Здесь она жила, там — дома, у мужа — она прозябала. Так куколка бабочки долго закрыта от внешнего света, но час настал, и из куколки вылетает бабочка, празднуя свою свободу, блестя разноцветными крыльями, стремясь к живительному солнцу. Сознание, что Сила Парфеныч ей не пара, пробуждалось в ней все сильнее, тупая боль бессилия, сознание безвыходности положения мучили ее страшно. При всей своей сдержанности и деликатности, художники не раз посмеивались над ее мужем. В ее присутствии этот насмешливый тон страшно задевал ее самолюбие. Она страдала не за него, но за себя, как связанная с этим человеком. Делиться своими мыслями, невольными обидами, — ей было не с кем, исключая Раисы Владимировны, но откровенничать с нею она боялась, зная, что ее слова она передаст своему мужу, а тот, в свою очередь, при случае, может сказать их и Силе. Любви к мужу она никогда не питала, теперь же и та крохотная доля симпатии, которая приобретается привычкой и временем, исчезла. Она стремилась схватить как можно больше знаний, урегулировать свои взгляды, расширить умственный кругозор. Что из этого выйдет, не будут ли ей тесны жизненные рамки, в которые она себя довольно опрометчиво поставила — она не думала.
— Ну, кажется, уговорили теперь вашего мужа, что вы сюда к нам ходите только для того, чтобы служить нам моделью, — заметила Надежда Петровна, когда Полушкин, тщательно держа портрет в руках перед собою, ушел домой.
— Едва ли это нам удалось, — сомнительно сказал Львовский, — Силе Парфенычу хотя и приятно было, что я с него ничего не взял за портрет, тем не менее, мой отказ взять плату и назначить цену изумили его. Он вероятно, как и все подобные ему люди, будет отыскивать причины такого поступка.
— Что же он может найти? Ничего! — резко проговорила художница.
— Ну, не скажите, — вмешался в разговор Зимин, — если нечего найти, то можно придумать, это почти всегда бывает, когда люди не знают, чем объяснить известный факт.
— А, ну его, пускай придумывает, — решительно проговорила сама виновница этого разговора, Феня, — мне все равно, — и махнула рукой.
— Вон вы какая храбрая, — изумился Львовский, переглядываясь с Хрустальниковой.
— Ваша правда, нечего больше об этом толковать, вопрос весь исчерпан, — решил фабрикант, — будем ли сегодня еще работать?
Львовский лениво потянулся.
— Вот еще что выдумал, довольно на сегодня. Жарко.
— Тогда знаете что, пойдемте в наш сад, туда повыше, около пруда под березами. Возьмем с собою ковры, самовар, будем пить чай, там не жарко, — предложила Хрустальникова.
— Превосходная идея, идемте, — согласился художник.
Не прошло и получаса, как вся компания сидела на траве, недалеко от кладбища. Крест церкви блестел среди зелени деревьев. Время близилось к четырем часам. Конец июля стоял жаркий. Под деревьями было немного прохладнее. Из рощи на горе слышно было, как терпеливый дятел долбит где-то дерево. Равномерное постукивание его клюва, точно часовой маятник, располагало к дремоте. Какое-то настроение сонливости и лени обуяло всех присутствующих. Пока разогревался самовар, все разбрелись по этому уголку сада. Львовский лежал навзничь на ковре, около него сидела Хрустальникова и что-то ему тихо, но настойчиво повторяла, хотя художник только отрицательно кивал в ответ головой. Моос сосредоточенно наблюдала за самоваром, а Зимин с Феней спустились к пруду и оживленно разговаривали.
— Вы говорите, Максим Давыдович, чтобы я работала в этом направлении, развивалась! Да разве это возможно у нас здесь? Дичь у нас одна, непроглядная дичь, вечная дрема! — энергично проговорила Феня на его слова, что ей необходимо заниматься. — Вы все вот скоро уедете от нас, останусь я с своим Силою Парфенычем, и что же? Снова потянутся бесконечные дни сиденья в лавочке, разговоры о том, сколько нужно прикупить товара, какие цены на сахар и — больше ничего!
— А вольно же вам не бросить все это, эту трясину, да не уехать с нами в Москву.
Феня вопросительно взглянула на говорившего.
— А на какие деньги-то? Разве мой муж даст мне на подобные катанья денег — никогда!
— Деньги! Вас только это и задерживает здесь? Сколько только вам нужно, возьмите у меня, будут они у вас — вы мне вернете, не будут — ничего не скажу.
Полушкина вся вспыхнула.
— Денег брать я у вас не думаю, но, если когда-нибудь понадобится мне ваша помощь, — охотно к ней прибегну. Спасибо говорю вперед.
И Феня протянула руку фабриканту.
— И за то спасибо. Для вас я готов все сделать, — это помните.
— Помню и снова благодарю.
— Идите чай пить, — кричала Моос, — самовар готов.
Зимин вздрогнул от ее резкого крика. Ему было неприятно прерывать разговор с молодой женщиной. Он нехотя поднялся с травы и вместе с Феней пошел к ковру, на котором уже дымился самовар.
— Так помните, — тихо повторил он на ухо Полушкиной и крепко пожал ей руку.
Феня отвечала на его рукопожатие. Зимину стало вдруг так приятно, точно сочувствие и благодарность Полушкиной составляли все счастье его жизни.
На колокольне кладбищенской церкви ударили в колокол к вечерне. Звуки плыли вдоль широкой просеки прямо к реке. При первом ударе меди присмирели даже грачи. Диссонансом прозвучал пискливый свисток буксира на Волге. За береговыми кустами не видно было его самого, хотя шум колес доносился до слуха сидящих вокруг самовара. В душе у Зимина было светло
ГЛАВА XV.
Наступило воскресенье. Федос, в свою очередь, «не приминул», как он писал в записке, уведомить о беседе художников. Возможность сделать некоторые наблюдения, воспользоваться типами, очень интересовала Львовского. Максим Давыдович шел больше для компании. Обещался придти и Перегудов.
Беседа была назначена сейчас после обедни.
«Приходите поране, — писал бывший начетчик, — все вам будет яснее и понятнее». Вследствие этого, художники отправились в слободу еще до окончания церковной службы в городских церквах. Несмотря на раннее время, — было только восемь часов утра, — на улице слободки толпился народ. Видимо, многие из них были духовные борцы, приготовившиеся сразиться с Федосом. У некоторых выглядывали из узелков книги. В самом помещении тоже уже находилось несколько человек, расставлявших табуреты и лавки.
Ровно с последним ударом на колокольне собора, свидетельствующим об окончании церковной службы, по дороге в город показалась телега, нагруженная книгами. Рядом с нею шагал сам бывший начетчик, приодевшийся сегодня немного почище.
Тихое перешептыванье между стоящими перед домом сектантами не могло служить Федосу добрым знаком. Он молча окинул присутствующих глазами; заметив стоящих в стороне ото всех художников и Перегудова, присоединившегося также к ним, Федос поклонился им. Все движения его были медленны, лишены суетливости. Даже взор его, обыкновенно бодрый — потух.
— Ну, заснул, что ли, Федос, — подтрунивала над ним молодежь, — мы уж думали, струсил и не придешь.
— Не нужно было этого думать, — спокойно, но твердо ответил Федос и начал снимать с телеги свой багаж. — Успеете еще передо мною повиниться.
Он вошел в дом, с трудом таща кипу церковных книг. Вслед за ним вошли и художники.
Довольно обширная комната, еще недавно пустая — быстро наполнилась народом. Сесть не было места. Перегудов с художниками поместились у одного из окон. Это место выбрал Львовский, чтобы удобнее наблюдать, скрываясь в тени.
— Ты только, Макс, взгляни, — тихо сказал он Зимину, указывая глазами на стоящих стеною оппонентов Федоса, — какое богатство типов!
Действительно, разнообразие физиономий, фигур в этой толпе было замечательное. Начиная со степенного, высокого седого старика, всего высохшего от радений, с необычайно длинною бородою, спрятанною им за ворот кафтана, и кончая жизнерадостным полным блондином, на которого обычные многочисленные «метания», вероятно, мало повлияли, судя по его излишней полноте, — все глядели на Федоса предубежденными глазами. Для них он был в настоящее время ренегат, когда-то один из столпов и «адамантов» древнего благочестия, но, прельщенный лестью никониан и превратившийся в его жестокого врага, очень опасного, — он был начетчиком, знающим прекрасно все способы и уловки их защиты.
Точно загипнотизированный, стоял несколько мгновений Федос под неприязненными взглядами своих противников. Затем, не глядя на них, тихим опущенным голосом он предложил пропеть или прочесть молитву.
— Царю Небесный... — робко начали несколько голосов, и молитва была спета.
Снова воцарилось молчание.
— Ну, что же, кто хочет побеседовать, — выходите, — обратился Федос к защитникам древнего благочестия.
В толпе начались переговоры, кому говорить, сперва еле слышные, но вскоре перешедшие чуть не в спор.
Сухощавый старик-начетчик не хотел начинать первым, предпочитая оставаться в резерве и, когда беседа начнется, поддержать своего борца. После долгих переговоров, в продолжение которых Федос сидел молча у стола, опустив глаза в книгу, из толпы выпихнули черноватого, пожилого мужчину с серьгою в правом ухе.
— Вот, вот, он зачнет, — послышались голоса.
— Портной из Толпыгина, — шепнул Перегудов Зимину.
Федос поднял голову, посмотрел на стоящего перед ним портного и степенно указывая на табуретку против себя, промолвил:
— Садись, Василий Семеныч, — о чем беседовать будешь?
Портной, по-видимому, приготовился к этому вопросу и быстро выпалил:
— После Никона у вас нет благодати священства. Не признаем ваших иереев.
Федос снова окинул взглядом противника.
— Прежде всего — не Никон, а Патриарх Никон, — заметил он строго, — а затем, брат мой, позволь тебе сказать, что в правильной кафолической церкви благодать священства, как до Патриарха Никона, так равно и после него продолжает преемственно от Святых апостолов передаваться и доныне. Вот у вас, отщепенцев от православной церкви, ни ее, ни иереев нет.
— Как нет? — возразил портной, — а Австрийская, Белокриницкая иерархия.
— Св. Ефрем Сирин говорит: «кто отлучится от церкви, того постигнет Иудино давление». Какое же возможно преемство благодати священства от иереев, отлученных от церкви, раз они обречены Иудину давлению?
Бойкий портной не нашелся ответом. Он молча кусал губы. К нему на помощь поспешил небольшого роста рыжеватый старичок, местный торговец, в длинном кафтане, с бесчисленными сборками на спине.
— Да, но ведь у нас в Белой Кринице был и не отлученный митрополит Амвросий, — смело вступил он в спор с Федосом.
— Отлично, но кого же рукоположил он в иереи и во епископа? Тех же самых отлученных православной церковью попов. Да и сам Амвросий бежал от своей греческой паствы, сманенный вашими деньгами, — он беглый иерарх! — все увереннее звучали возражения Федоса.
— А что такое ваш священник? — насмешливо спросил старообрядец, переменяя тему собеседования.
Бывший начетчик выпрямился, оперся левой ладонью о стол и быстро ответил:
— Ангел Господень, по словам Златоуста!
Иронические замечания между старообрядцами, в ожидании ответа Федоса, сейчас же смолкли.
— Василий Великий говорит: «Священник земной ангел — небесный человек! — снова зазвенел уверенный голос бывшего начетчика. — Патриарх Иосиф в книге Кириллиной, на листе 76-м, говорит: «Якоже Христос никогда не умре, так и иерейство его по чину Мелхисидекову не престанет!» — и дальше на 78-й: «еретицы те, им же иерейства и жертвы Христовой несть потребы».
Рыжеватый старичок, видя неудачу своего нового вопроса, снова вернулся к «благодати».
— Благодать Господня действовала и через ослицу Валаама и через первосвященника Каиафу! — быстро возражал Федос, — а австрийская иерархия ваша безблагодатна, она не от церкви и Бога, а от людей ведет свое преемство.
— А митрополит Амвросий? — нерешительно спросил старик.
— Он незаконно отделился от своего патриарха в 1846 году, вопреки 15 правилу двухкратного собора и основал Белокриницкую иерархию, вопреки 16-му правилу Антиохийского и 2-му правилу Сардикийского соборов.
Федос, не прибегая к помощи книг, отвечал своим противникам, поражая художников изумительною памятью и начитанностью, позволявшею ему отвечать на каждый вопрос не запинаясь, в то же время буквально побивая их их же оружием. Голос его окреп еще более, глаза сверкали, редкая бородка рассрепалась*, об усталости не было и помину.
* Неясно, опечатка это или неучтенный словарями диалектизм.
Время шло, часы сменялись часами, новые противники появлялись перед столом Федоса и снова исчезали. Невозможность спора с ним, отсутствие под ногами почвы чувствовались со стороны старообрядцев. Это еще больше их сердило и заставляло продолжать споры, изыскивая всевозможные уловки, чтобы поставить противника в тупик.
Но это было немыслимо, тем более, что среди всех собравшихся старообрядцев мало было знатоков писания и умеющих вести защиту своих догматов. С возрастающим все больше вниманием следил Львовский за Федосом, его вдохновенная речь, естественные, но красивые жесты рук, приковывали внимание художника. Он поделился своими впечатлениями с Максимом Давыдовичем.
— Непременно напишу его в виде ветхозаветного пророка. Как он великолепен в эти минуты!
— Я попробую зачертить его фигуру, — сказал Зимин и вытащил альбом.
— На вас обращают внимание, — заметил ему тихо Перегудов, но Зимин продолжал работать.
В комнате было нечем дышать, народ не расходился, любопытство не ослабевало.
Только что сухощавый седой начетчик отошел от стола, разбитый Федосом на всех пунктах теологического спора, как среди противников помощника миссионера послышался одобрительный говор.
— Вот и он, наконец! Теперь мы ему уж покажем. Ну, иди, зачинай.
И у стола показалась знакомая фигура Полушкина. Немного робея, он сделал несколько шагов вперед и остановился.
— Иди сюда, Сила Парфеныч, что ж ты робеешь, — строго обратился к нему Федос, — будем беседовать, чай, не впервые нам с тобой-то.
— Вот вы православными себя называете, а свет мира выбросили, во тьме ходите! — нараспев высоким голосом сказал Сила.
Федос с недоумением взглянул на говорившего. На стороне старообрядцев раздались одобрения Силе, сумевшему смутить самого Федоса.
— В чем дело-то, ты, брат, толком скажи, — переспросил последний.
— А в символе Веры-то, между словами «рожденна, не сотворенна» куда «аз» выкинули? — самодовольно спросил Полушкин.
Федос усмехнулся.
— А знаешь ли, что этот «аз» обозначает? — спросил он Силу.
— Аз есмь свет миру. А вот вы-то этот свет и выкинули! — во тьме остались.
— В темноте умственной вы ходите, а не мы, — уверенно промолвил миссионер, — плохо писание смыслите, а туда же, беретесь спорить! Не то значение имеет здесь «аз», как ты придумал, а просто отрицание, «рожденна, а не сотворенна», и для краткости этот «аз» выпущен, хотя смысл остается тот же.
Но Полушкина трудно было убедить этим. Не понимал ли он действительно смысла этого отрицания или же просто не хотел понять, с целью запутать Федоса, но он продолжал настаивать на своем, поддерживаемый одобрительными восклицаниями своих. Долго пробовал растолковать ему настоящей смысл Федос, но, видя бесплодность своих стараний, иронически заметил:
— Если уж тебя ничем не разуверишь, так слушай: выпустили мы по-твоему «аз»... А знаешь что значит «аз» — аз есть червь, а не человек, поношение человеков — вот «поношение» мы-то и выпустили, понял?
Ребячески растерянно посмотрел Полушкин на говорившего, не находя, что ему возразить. Старообрядцы тоже молчали. Они были побиты своим же толкованием.
Солнце стало ниже, время близилось к пяти часам. Новых спорщиков не находилось.
— Ну, на сегодня, пожалуй, и довольно, — произнес миссионер и начал складывать книги. Старообрядцы выходили из комнаты, Сила все еще стоял у стола.
— Ну, Сила Парфеныч, — заметил ему Федос, — горденек ты, брат мой, да Господь тебе согнёт выю. Когда-нибудь вспомнишь меня.
С этими словами начетчик вышел на улицу к ожидавшей его телеге и начал укладывать в нее книги.
Художники и Перегудов с любопытством на него глядели.
— Довольны ли вы нашей беседою, господа милостивые? — спросил их Федос, когда они вместе возвращались в город. — Господь благословил меня в сегодняшней словесной брани одолеть врагов.
Львовский с изумлением взглянул на говорившего. Вдохновенный пророк, мечущий громы, снова превратился в скромного крестьянина, бывшего солдата. Присутствующие расходились по домам.
— Теперь, вероятно, уж не скоро снова беседовать будете? — спросил Перегудов Федоса.
— Какое! На предбудущее воскресенье снова сами назначили, —усмехнулся последний, — сердиты, что ничего со мною сделать не могли. Вон, смотрите, Прокл Сидоров, плотник, — они его своим двухперстием уловили,—ко мне подошел: «вижу, говорит, Федос Алексеич, что облыжно они мне говорили, не справедлива их вера, буду снова в церковь ходить».
Перегонявшие их недавние враги Федоса сердито на него поглядывали.
— Ишь, съесть хотят! — пошутил бывший начетчик, — не дамся, сам зубаст.
Присутствующие засмеялись.
ГЛАВА XVI.
Во вторник были именины Китайкина; в Горстеньевское село, где находилась его фабрика и где сам он жил, собрался ехать Перегудов с женою, очень уважавший старика фабриканта. Собирался на именины к своему тестю названному и Полушкин с Феней. Но в день отъезда у Виктора Семеновича на заводе торопились закончить заказ одного химического продукта, при чем присутствие самого хозяина было необходимо. В свою очередь, жена Силы Парфеныча чувствовала себя не совсем здоровою и не могла ехать с ним вместе к Китайкину.
— Вот, Виктор Семеныч, дело-то как выходит, вам ехать нельзя, а у меня в тарантасике место пустое объявляется, — говорил Полушкин Перегудову, — отпустите со мною Раису Владимировну.
— Кроме большого спасиба ничего другого не могу сказать, — пожимая руку Силе, ответил заводчик, — жене необходимо поздравить Евтихия Созонтовича.
На другое утро, часов в семь, парный тарантас Полушкина уже стоял у ворот перегудовского дома, а Сила Парфеныч разговаривал с стоящей у окна Раисой Владимировной.
— Поторапливайтесь, сударыня, восьмой час, ведь дорога не ближняя, поди, — все двадцать верст наберешь. Раньше как к одиннадцати, а то и ко всему полдню не поспеем. Дождички прошли, кой-где в леску колеи заплыли, а там дальше дорогу чинят, даве Миней сказывал.
— Сейчас буду готова, Сила Парфеныч, вы бы в сад зашли...
— Куда тут! Лошадей не с кем оставить, да и время уйдет, уж вы там поспешайте.
— Феничка здорова? — снова спросила Перегудова, опуская оконную занавеску, чтобы одеваться.
— В вожделенном здравии коли бы были, в таком смысле со мною о се время в тарантасе сидели бы. Валяются еще в постельке, — отвечал лавочник.
— Бедная, — послышалось за занавеской.
Не прошло и четверти часа, как спутница Силы была готова, и тарантас, управляемый опытными руками Полушкина, стал медленно вползать на крутой косогор.
Пара сытых лошадок дружно тянула экипаж по крупному булыжнику неширокого подъема, обсаженного рядами елей и ольх. Наконец, путешественники поднялись на гору.
Перегудова оглянулась назад. Чудною панорамою раскинулся внизу городок. Чистенькие домики его то ютились по кручам, то прятались в узких, но глубоких оврагах. Кресты колоколен горели под лучами утреннего солнца. Волга, серебрясь и разделяя берега, вилась прихотливыми изгибами, обнаруживая, по обыкновению, к концу лета длинные отмели и зеленые островки. Дорога пошла ровнее. Колеса тарантаса катились без шума по немного грязной полевой колее. Миновали глиняные ямы, где брали ее для кирпичного завода; издалека приветствовали проезжих ветрянки широко вертящимися крыльями. Несмотря на конец июля, было жарко. Поля кое-где убирали, но только озимые посевы, — овсы еще начинали поспевать. Лен только отцветал, гармонично соприкасаясь своим зеленым ковром с белым, точно снежным полем, засаженным гречею. Слепни и овода садились на лошадей, тщетно отмахивавшихся хвостами.
В начале пути Полушкин, занятый довольно опасным подъемом, ничего не говорил с своею соседкою, он только почмокивал на лошадей. Но, миновав ветрянки, Сила Парфеныч спросил ее:
— Вы как в обрат думаете, в какое время?
— Да, вероятно, часов в шесть-семь...
— Дай Бог, чтобы в девять нас отпустили. Эх вы, милые, — вытягивая поочередно приставших лошадей, заметил Сила.
— Ну, что, портретом Фенички довольны?
Полушкин снял фуражку, как-то неопределенно почесал себе затылок.
— Н-да, можно сказать, с одной стороны — оченно...
— С одной! Какая же другая?
Сила снова на минуту задумался, точно что-то обдумывая.
— Как бы вам это выразить? Не подходит к нашему понятию, что Федосья Васильевна целые дни с господами художниками проводит.
У Раисы Владимировны вдруг зашевелилось какое-то недоброе чувство к Фене, и она нерешительно промолвила:
— Пожалуй, вы и правы, не для чего ей туда ходить; кончили портрет, ну, и довольно.
— Истинно так, — смутился Сила, ожидавший, что Перегудова вступится за Феню и разъяснит ему всю неправильность его взгляда. И теперь он сам попробовал оправдать поступок жены и свой собственный.
— Знаете, Марк Самуйлыч ни алтына не взяли за Феничкин портрет, а заместо этого просили меня разрешить снять с супруги еще второй снимок для себя. Что ж, я согласился.
— А, вот в чем дело! — точно обрадовавшись такому несложному разрешению вопроса, проговорила Перегудова. — Ну, вероятно, теперь это недолго продлится.
Разговаривавшие оба смолкли, и каждый погрузился в свои думы. Раиса Владимировна вспоминала о Зимине, и в голове ее просыпалась надежда, что он отдаст ей всегда предпочтение перед какой-то мало развитой женщиной.
Въехали в нечастый лесок. Масса грибов попадалась под самыми колесами экипажа. Солнце причудливыми пятнами ложилось на дорогу, пробиваясь чрез ветви деревьев. В лесу стояла тишина, нарушаемая только глухим стуком колес тарантаса. Где-то в глубине тоскливо тянула свою незатейливую песенку иволга.
— Ишь, какая благодать-то здесь, — нарушил молчание Сила и, взяв вожжи в левую руку, он снял фуражку и начал оттирать платком вспотевший лоб. — Ветерком обдувает и солнышко не печет.
Раиса Владимировна улыбнулась.
— Чему смеетесь, сударыня, — впрямь запрел. Однако, поспешать надобно. Ну, милые! — крикнул он на шедших шагом лошадей.
— А все же, Раиса Владимировна, не нравится мне это писанье, — вернулся к прежнему разговору лавочник, — как будто и жена-то стала меня с тех пор дичиться.
Перегудова знала причину этой перемены, но, не желая огорчать своего спутника, мягко заметила:
— Это вам только так кажется, просто намаетесь целый день в лавке, ну, все и не по вам.
Сила повеселел.
— А можа, и так. А вот скоро уедут господа-то писатели, тогда Федосья Васильевна опять к дому прилепится.
Миновали одиноко стоящую колокольню, церковь была построена дальше. За нею потянулись незатейливые постройки деревни. Кое-где тявкнули собаки, и скоро целая свора лохматых, тощих псов с лаем и гомоном побежала за тарантасом.
— У, проклятые! — крикнул Полушкин и вытянул ближайшую к колесу — кнутом; собака с визгом отбежала прочь.
— Самим есть нечего, а туда же, целые своры псов навели, — ворчал Сила, — сейчас видно церковников. Наши, которые по старой вере живут, побогаче.
— На фабрики да заводы мужики, вероятно, ушли, бабы одни остались, чем тут кормиться, — проговорила Перегудова.
— Лентяи! Работать не охочи. Весь край этот разоренный. Вот хотя бы помещики Щекачевы, — ничего у них не осталось, вон их хоромы-то стоят, — и Сила указал кнутовищем на сиротливо стоящую на холме полуразрушенную барскую усадьбу. — Вместо сада торчали редкие прутья ивы, каменная стенка упала, кирпичи валялись грудою возле.
— Бедняками стали, — меланхолически заметила Раиса Владимировна, — старшая дочка теперь у следователя бумаги пишет.
— А помните, еще недавно было время, когда к ним и не подойти, — не без злорадства сказал Сила, — сильно фордыбачили.
Земский мост оказался разрушенным, пришлось переезжать встречную речку вброд. Вода доходила до подножки тарантаса.
— Вы бы, сударыня, на сиденье ноги подобрали, неравно полохнет вода-то в кузов, ишь как глыбко, промочите! — заботился Полушкин.
Речку переехали благополучно. У другого берега Сила дал лошадям напиться. Уставшие животные жадно втягивали занузданными мордами воду.
— Ну, теперь уж недалечко и осталось, верст пять-шесть, не больше, — заметил Полушкин, понукая освежившихся лошадей.
Раису Владимировну укачала езда в тарантасе, и она мирно дремала на мягкой подушке сиденья.
Стало жарко. Душный день конца лета начал входить в свои права. Все чаще и чаще попадались навстречу поселки и деревни, мало чем отличавшиеся один от другого. Те же колодцы с длинными журавлями, те же полупрогнившие соломенные, изредка тесовые крыши на избах, лужи среди деревни, несмотря на летнюю пору, околицы, отворяемые целой оравой ребят, просивших медную деньгу за услугу — те же меланхолические коровы на выгоне, — перемены никакой.
За покатым пригорком вынырнули высокие трубы горстеневских фабрик, заалели и зазеленели железные кровли роскошных каменных домов горстеневских богатеев-фабрикантов. — Скоро тарантас, утопая по ступицу в черной грязи, потянулся по узкому переулку вдоль длинного деревянного забора, огораживающего громадный фруктовый сад горстеневского креза — Китайкина. Завернув на главную улицу села, Полушкин быстро вкатил в ворота роскошного палаццо фабриканта и остановился у подъезда. Из окон уже заметили приехавших, и на крыльцо вышли их встречать замужняя дочь хозяина с детьми. Усталую Раису Владимировну повели на дамскую половину, а Сила, передав лошадей кучеру, прошел в кабинет своего названного тестя.
ГЛАВА XVII.
Несмотря на сравнительно раннее время, — было около двенадцати часов, — дом Китайкина* кишел гостями.
* «Китайкин» — Евстафий Семенович Крымов (фамилию получил изначально как прозвище — после возвращения с Крымской кампании 1853-56 гг.). Родовая фамилия и год рождения неизвестны, умер в 1900 г. (фото и сведения — из фондов Приволжского краеведческого музея).
Оправившись от дороги, Раиса Владимировна вместе со старшей дочерью хозяина, Конкордией, прошла в гостиную.

Китайкин славился как один из полотняных фабрикантов, умеющих выбрать рисунки для своего товара. Эта способность дала ему возможность отделать внутреннюю обстановку своего дома не только богато, но и со вкусом. Светло-сиреневый шелк, затканный букетами блеклых цветов, которым отделана была вся гостиная, приятно гармонировал с высеребрянными люстрою, бра в виде грифов и остальными предметами электрического освещения. Широкие окна с толстыми зеркальными стеклами были затянуты дорогим шелковым тюлем, тоже бледно-сиреневого цвета, с фантастическими фигурами аистов и журавлей, затканных на нем суташью* ярко-красного цвета. Пожалуй, это было немного смело, но оригинально, и показывало, что фабрикант не чужд понимания силы пятна. Вся эта обстановка еще более выигрывала от контраста своей роскоши с грязью захудалой деревни, тянувшейся от самых окон палаццо.
* Суташ — тонкий плетеный шнурок, круглого или чаще плоского сечения, из цветных бумажных, шерстяных или шелковых нитей (Брокгауз-Ефрон).
При входе Перегудовой, сидевшие в комнате дамы привстали и поздоровались с нею. Кроме жен и дочерей соседних фабрикантов, тут же находились жена исправника из городка и семейство местного православного причта. Фабрикант, несмотря на то что был старообрядцем, охотно с ними дружил.
Китайкин, благообразный на вид, небольшого роста, полный старик, был одет в обыкновенную русскую сибирку серого цвета и сапоги с высокими голенищами. Почтение, с которым к нему относились окружающие, не было одним льстивым поклонением его капиталам, но известной долею уважения к человеку, несмотря на свое богатство, сумевшему остаться таким же простым и добрым хозяином к служащим и хорошим человеком к посторонним людям, каким он был и раньше.

Благотворительность, которую он делал в широких размерах, не различая в этом случае ни сект, ни верований, создала ему громкую популярность, распространившуюся далеко за пределами губернии.
Бывший крестьянин с помощью только своего ума, рук да преданной любящей жены, сумел превратиться из простого ткача во владельца двух крупных фабрик с большим количеством рабочих и дать, бедно жившим до сих пор своим землякам, верный и хороший заработок. Приветливое лицо Евтихия Созонтовича было обрамлено круглою седою бородою; говорил он мягко, но не нараспев.
— Милая моя Раиса Владимировна, — задушевно приветствовал именинник гостью, — какое вы мне удовольствие доставили, что приехали. А что же Виктор-то Семенович?
— Куда уж ему ездить! — засмеялась Перегудова, — у него минуты нет свободной, все на заводе копается.
— Прекрасное дело, Бог труды любит, — степенно произнес хозяин, — но если ему некогда ко мне приехать, я к нему сам заеду. Люблю я вашего мужа, Раиса Владимировна, люблю и браню...
— Браните! Это еще за что?
— А за то, что меня старика не слушает. Вместо своего дела-то, — что оно ему даст? Грош! — Шел бы ко мне, я охотно ему любое жалованье положил бы.
Перегудова улыбнулась.
— Вы правы, Евтихий Созонтович, благодарю вас от души, но с моим Витей трудно совладать. Поставит на своем.
— Знаю, знаю, матушка, тверденек муженек-то твой, да нехорошо это, право нехорошо.
Разговор прервался приходом Силы.
— Наше вам почтение — кланяясь всем сидящим в гостиной, сказал Полушкин.
— А ну-ка, зять мой названный, — спросил старик хозяин, — куда же ты дочку-то девал? Говори скорее.
Полушкин скорчил хитрую гримасу и таинственно проговорил на ухо Китайкину:
— Недомогают-с, не иначе, как...
— Ай да молодец наш Сила! — засмеялся фабрикант — право, молодец.
Дамы покраснели и начали перешептываться.
— Ну, что ж, потом приедет, — сказал хозяин и пригласил гостей в столовую.
— К полудню время-то приспело, а аппетит, поди, у всех разыгрался. Милости просим, гости дорогие, чем Бог послал.
Дамы, шелестя шелковыми платьями, точно павы поднялись со стульев и направились в столовую.
— Пусть идут, — прошептал старик Перегудовой, их там Конкордия угостит, а мне бы, голубушка, с вами словца два перемолвить надо бы. Пойдемте-ка в садик.
Перегудова немного изумилась подобному приглашению, но пошла за фабрикантом в сад.
— Видите, дорогая моя Раиса Владимировна, — начал Китайкин, когда они уселись на скамейке около дома под развесистой липой, — дело в том, что до меня дошли слухи, будто бы Феня-то наша неладно живет, взаместо чтобы дома быть, — все время к каким-то художникам ходит. Правда ли это, голубушка моя, скажи? — мягко спрашивал фабрикант Перегудову, незаметно переходя на «ты», — Сила-то, по торговле парень незаменимый, а доведись дело до бабы, совсем кисляй-кисляем станет. Скажи, голубка, по совести, по душе, не таи!
Что могла ответить на подобный вопрос Раиса Владимировна? В ее глазах близость Фени с художниками не имела ничего предосудительного, но высказать свое мнение прямо Китайкину она почему-то стеснялась.
— Как вам сказать, уважаемый Евтихий Созонтович, — немного запинаясь, начала молодая женщина, — ходит она действительно часто к художникам, но ведь этому есть причина...
— Какая же?
— Сам Сила Парфеныч разрешил написать ее портрет. Это сделали художники даром, ну, а теперь нужно же чем- либо их отблагодарить, — немного замялась Перегудова. — Просили они позволения у Силы Парфеныча написать еще второй портрет с его жены для себя.
— Что ж он, согласился? — поспешно спросил старик.
— Да, не был против этого, — уклончиво ответила Раиса Владимировна.
— Ну, не умен же он, я его дальновиднее считал!
— Вы не беспокойтесь, Евтихий Созонтович, я постоянно там с нею.
Фабрикант быстро преобразился.
— Вы, вы, голубушка, — и он схватил обе руки собеседницы, — так вот моя к вам искренняя просьба: смотрите за Феней построже. Ах, молода баба, молода, долго ли до греха, а в особенности при таком муже.
Слова эти произвели на Перегудову странное впечатление, где-то там далеко, в тайниках сердца, проснулась ревность. Ей стало вдруг скучно, и одновременно как-то досадно, что Феня осталась в городке, а там Зимин. Все это мрачно ее настроило.
— Спасибо вам за доверие, что будет — послежу, ни до чего дурного я не допущу вашу дочь названную.
— Люблю я ее, ах, как люблю, — со слезами на глазах заметил старик, — как свое родное дитятко. Побереги ее, голубушка, побереги. Ну, а теперь пойдемте закусить.
И они оба вошли снова в комнату.
Долго пировали у фабриканта гости; Перегудова не раз замечала подгулявшему немного Силе, что им пора уже возвращаться, иначе будет темно, но Полушкин только ворочал в ответ осоловелыми глазами и не собирался уезжать до тех пор, пока сам Китайкин, заметив неудобство возвращения поздно ночью через лес и необходимости переезжать вброд речки, не заставил Полушкина отправиться домой. Сильно охмелевшего Силу усадили в тарантас, где он сейчас же и заснул. Править взялась Раиса Владимировна. На предложение Китайкина дать кого-нибудь из его конюхов для этого, она отвечала отказом. Тарантас, управляемый опытными руками Перегудовой, покатил обратно в городок, увозя спящего Силу, тяжело припрыгивающего при каждом ухабе, и недовольно охающего при этом. Отдохнувшие кони бойко везли экипаж, торопясь вернуться в родное стойло.
Солнце уже село. Оставшийся после его ухода ярко-алый след постепенно бледнел, и скоро только узенькая красная полоска отделяла небо от земли в том месте, где скрылось на покой дневное светило. Но и она, наконец, погасла, и серые летние сумерки легкой дымкой стали заволакивать окрестности, придавая мирно лежащим полям какой-то таинственный характер.
ГЛАВА XVIII.
Перегудов не долго занимался на заводе, его присутствие не оказалось необходимым, перегонку пришлось отложить до другого дня, и Виктор Семенович очень жалел, что не поехал с женою к Китайкину.
— Не скоро вернутся. Пожалуй, не проехать ли и мне в самом деле к имениннику? — пришло ему на мысль, но он сейчас же отдумал, так как пока он доедет туда, будет уже поздно.
Дома ему, несмотря на свою любовь к домашней работе, не сиделось. Отсутствие жены, с которой он мог бы перекинуться парою-другой слов, его томило. Ему стало скучно, и, приказав кухарке приготовить часа через два самовар, Перегудов пошел побродить в лес, начинавшийся сейчас же за их домом и поднимавшийся прямо в гору. Но и там скоро надоело Виктору Семеновичу. Побродив немного в перелеске, полюбовавшись хорошо знакомым ему видом Волги, еще красивее раскинувшейся отсюда, чем из его сада, Перегудов, осторожно перепрыгивая через рытвинки, вырытые весеннею водою в красной глине горы, спустился к кладбищу и прилег на траву около густого орешника.
В лежащей ниже кладбищенской церкви мерно ударили в колокол к вечерне.
— Раз, два, — машинально считал заводчик глухие удары меди, скрадываемые кустами, — три! — произнес он и начал внимательно слушать полившийся густою волной благовест. Звуки надвигались на него, сразу обдавая его своею силою, свободно летали дальше к реке и исчезали где-то далеко, расплываясь на миллионы скорее чувствуемых, чем улавливаемых ухом дрожаний.
Звук меди, заглушивший вокруг Перегудова еще за минуту перед этим мирно звучавшие голоса леса и природы, настроил заводчика как-то мечтательно. Ему припомнилось все прожитое им время. Мысли Виктора Семеновича, мирно настроенные благовестом, быстро проносились мимо неприятных случаев, вырисовывая рельефно в его воображении только светлые минуты, только счастливые дни.
Вечно погруженный в работу, в хлопотах по заводу, Перегудов первый раз в жизни ощущал подобное настроение. Вначале оно казалось ему детски-смешным, но дальше и дальше он все больше и больше находил в нем удовольствие, все больше отдавался воспоминаниям, отдаляясь от жизненной прозы. Убаюканный колоколом, Перегудов начал дремать, сквозь сон ему послышались голоса. Невольно, совершенно не отдавая себе ни в чем отчета, он прислушался, — говорили две женщины и мужчина.
— Слушайтесь, Феничка, меня, — говорил женский голос, — я желаю вам добра, — вы пропадете, завянете, как вот этот цветок, если останетесь в этой трущобе.
Другой женский голос, по-видимому, принадлежавший Полушкиной, пробовал слабо возражать.
— Все это пустяки, моя дорогая. Здесь вы ничего не увидите, не узнаете, вечно будете торчать в лавке, слушать глупый разговор Силы Парфеныча, и в конце концов, сами превратитесь в толстую, ничем не интересующуюся купчиху, а там у нас, в Москве... — Да, в Москве, — нервно перебил мужчина, — там все будет для вас открыто. Вы можете смотреть и выбирать дорогу, которая вам по душе, которая вам больше всего нравится, к которой вы чувствуете призвание! — звонко, с юношеским задором и уверенностью, звенел мужской голос, вселяя невольно доверие к говорившему.
— А дорог для вас, моя дорогая, не мало, — снова сладко запела Хрустальникова (это была она), — с вашей красотой, фигурою, вам в любом театре найдется место. Насколько я за это время успела вас изучить, и в сценическом даровании вам нельзя отказать. Не хотите быть актрисою...
— Я займусь вашим воспитанием, — снова не вытерпел Зимин, видимо, волновавшийся разговором, — нужно вам учителей, профессоров, — все будут к вашим услугам, только учитесь, совершенствуйтесь. Верьте мне и Надежде Петровне, все мы устроим — все, все.
Полушкина молчала, но по усиленному ее дыханию Перегудов заметил, что она переживает тяжелую минуту, не зная, что ей предпринять, на что решиться. Заводчик осторожно поднял голову и посмотрел сквозь ветви орешника; пониже его, в ложбинке, сидели на траве обе женщины, а Зимин стоял возле, нервно роя землю концом своей палки. Сидевшая до сих пор с поникшей головою Полушкина, подняла ее и робко спросила, не обращаясь ни к кому в особенности:
— Но как же я уеду от мужа, ведь он меня не пустит.
Хрустальникова громко засмеялась.
— Как же он вас не отпустит, ведь вы не венчаны с ним?
— Все же, в моленной старицы пели над нами...
— Вы верите такому вздору! Пению каких-то старух? — опять горячо возразил Максим Давыдович.
Краска залила побледневшее от волнения лицо молодой женщины, она понимала, что ее замечание смешно и не может быть возражением.
— Нет, дитя мое, — покровительственным тоном проговорила художница, — все это пустяки, решайтесь смело и будемте говорить о деле.
Перегудов с нетерпением ждал ответа Фени.
Она не долго колебалась.
— Что же, я... я не против того, чтобы ехать с вами, но...
— Без всяких «но»! — резко оборвала ее Хрустальникова, — или ехать, или же прозябать здесь с вашим глупым Силою, — решайте.
Она знала прекрасно, что твердый тон окончательно заставит молодую женщину согласиться.
— Да, я еду с вами, — чуть слышно проговорила Полушкина, и снова бледность разлилась по ее лицу.
— Какая вы умница, — покровительственно ласково отозвалась на ее согласие Хрустальникова, но Феня ничего не ответила, ей было не до того в эту минуту.
— Помните, все, все, что вам необходимо, все вы будете иметь, — с оттенком удовлетворенного самолюбия сказал Зимин.
— Мы едем в будущее воскресенье, это будет 12-ое число... — заметила художница. — Для вас это очень удобно, у Силы в этот день опять собеседование. Нет сомнения, что оно окончится поздно. Пароход, на котором мы едем до Ярославля, идет в два часа дня. Соберите самое необходимое, хламу не берите с собою и приходите на Самолетскую пристань. Не так ли?
Полушкина ничего не отвечала, она была близка к обмороку. Обещание уехать от мужа с ними в Москву, так энергично от нее вырванное, сильно ее взволновало. Она не могла свыкнуться с мыслью, что теперь она будет совершенно свободна и должна сама думать о своем будущем и отыскивать свое призвание.
— Ну, теперь столковались, — решительно заметила Надежда Петровна, — пойдемте к Марку, нужно ему рассказать об этой новой победе света над тьмою.
Перегудов, не смотревший больше сквозь орешник, по шуму шагов и треску ветвей заключил, что разговаривавшие удалились.
— Боже мой, Боже мой, на что они подбили бедняжку Феню, — прошептал Виктор Семенович, — а она и не понимает что делает! Как это печально, как это горько!
И Перегудов задумался.
— Говорить об этом Силе Парфенычу не стоит, а также и Раисе. Первый не сообразит важности подобного намерения жены, а Раиса припишет мне, в своем ослеплении художниками, излишнюю подозрительность и своими расспросами испортит все дело. Не пойти ли мне самому переговорить сперва с ними, а потом с Феней, показать им всю ошибочность их проекта, убедить Феню остаться дома? Нет, и это ничему не поможет. Меня, как постороннего человека, ни те, ни другие не будут слушать, и я только могу напроситься на дерзость. Лучше всего предупредить Евтихия Созонтовича, только он может помочь в этом случае, ему Феня верит, как Богу. Напишу ему, еще время есть, и попрошу сюда приехать в воскресенье пораньше.
Волнуемый неожиданною новостью, так случайно им узнанной, Виктор Семенович начал спускаться к своему саду.
Раиса Владимировна ехала обратно далеко не с таким удовольствием, как на именины. Почти с полдороги стало совсем темно, дорога слилась с межою, и лошади только инстинктом не сбивались с колеи. В лесу ехать было еще затруднительнее. Узкая, лесная тропа, довольно извилистая, заставляла тарантас ежеминутно прыгать по пням и кочкам, рискуя сломать дрожину* или опрокинуть кузов. Ветви задевали проезжих по лицу, растрепали прическу Перегудовой и чуть не унесли ее шляпы.
* Дрогу.
К довершению бед, проезжая один из последних к городку частых перелесков, Перегудова услышала невдалеке резкий свист. Прекрасно сознавая, что никакой помощи от полупьяного Полушкина ей нельзя ожидать, Раиса Владимировна погнала что есть мочи лошадей, и только тогда успокоилась, когда колеса тарантаса застучали о булыжник городского спуска.
Виктор Семенович ее ждал, и зная, что жена проголодается за дальную дорогу, велел приготовить ужин, но Раисе Владимировне было не до еды. Поспешно рассказав мужу о своем злосчастном возвращении, она отправилась спать, чтобы успокоиться от пережитых ею неприятных минут. В свою очередь и сдержанному Перегудову было не по себе, подслушанная им сегодня тайна его беспокоила и тяготила, но спать он не мог и долго сидел на террасе, обдумывая как ему лучше поступить.
ГЛАВА XIX.
Придя домой из мудрецовского дома, Полушкина, не ожидая возвращения мужа из гостей, быстро улеглась спать. Новизна положения, предстоящая свобода, мечты о будущем, все это долго не давало ей заснуть. Мысли ее путались, она не верила самой себе, что дала слово уехать от мужа, что только еще одну неделю ей придется прожить в городке, ставшем ей окончательно ненавистным.
Также безучастно посмотрела она на Силу, введенного с трудом в комнату, хотя Полушкин почти никогда не бывал раньше пьяным в ее присутствии.
Тяжело свалившись на кровать, он сразу же заснул тяжелым сном пьяного, испуская ужасный храп. Феня отворила окно, выходившее на Волгу, и долго смотрела, вперив глаза в темное пространство. Немного прелый запах, признак приближающейся осени, несся от листвы тополей, тянущихся рядами около ограды. О чем она в эту минуту задумалась? Это было бы трудно отгадать, — чересчур быстро сменялись мысли одна за другою в голове молодой женщины. Таинственная тишина ночи, нарушаемая только храпом спящего Силы, подогревала фантазию. Ночь была темная. Тяжелым покровом она властно спустилась на землю.
Минутами Полушкина бранила себя за то, что она решилась на такой шаг, не посоветовавшись с своею приятельницею Раисою Владимировной. Ее давило это обстоятельство. Феня чувствовала, что будь в эту минуту около нее кто-либо, с кем бы она могла поделиться своим быстрым решением, она была бы счастлива, и, может быть, ее уверенность в необходимости поездки сильно была бы поколеблена. Но никого около нее не было, и приходилось самой взвешивать все за и против.
По поводу вырванного у ней сегодня решения ехать Полушкина много передумала за долгую бессонную ночь. Остаться в городке после того, как она уже чуть-чуть приподняла угол завесы, заслоняющей от ее взоров внешний мир, и заглянула туда, — было уже не в ее силах. Известная робость, привычки, усвоенные ею с того времени, как она вошла в семью Китайкина, неизвестность будущего, заглянуть куда смело она еще боялась, — невольно заставили ее отчасти раскаиваться в своем слове и боязливо оглядываться на тот берег, который она решилась так опрометчиво бросить, чтобы отдаться неверным волнам житейского моря.
Ни совета, ни поддержки в эту минуту у ней не было и приходилось выбирать самой что лучше, что дороже, — спокойная ли обеспеченная жизнь с мужем или же свобода и... неизвестность будущего.
Трудно решить, как долго продолжались бы ее колебания, если бы не один пустой факт вырешил вопрос окончательно. Утомленная бессонною ночью Феня отошла от открытого окна, у которого она сидела, положа руки под голову, и направилась к своей кровати. Неприятный, с каким-то присвистом храп мужа еще сильнее заставил ее почувствовать неприязнь к этому человеку, которого, еще недавно, как ей казалось, она любила. Она прозрела и не верила даже самой себе, что могла когда-либо полюбить Силу Парфеныча. Раскрасневшись, весь в поту, со всклокоченными волосами лежал Полушкин; алкоголь продолжал держать его в своих руках и Сила бессвязно произносил обрывки фраз и слова.
Молча прошла мимо него Феня, хотела было уже раздеваться и лечь спать, как вдруг мысль, что она останется в комнате с сделавшимся для нее ненавистным мужем, заставила ее переменить свое решение. Она захватила одеяло и снова уселась у окна на кресле, заперев его, хотя августовская ночь была тепла, и потемневшее небо, все усеянное звездами, уходило высоко-высоко, чаруя своими мягкими тонами и мириадами сверкавших звезд.
Где-то, в траве, защелкал неугомонный кузнечик, меланхолично прокрякала болотная курочка, нарушая ночную тишину. Обильная роса покрыла все за окном, даже в комнате чувствовалось ее присутствие. По нижней улице прозвучали шаги прохожих, звякнул где-то железный запор калитки, тявкнула недовольно собака, потом радостно завизжала, и все снова стихло.
Из-за густой стены леса, по ту сторону реки, медленно поднимался красный диск месяца. Засвистел низовый пароход*, но Полушкина уже ничего не слышала, она сладко спала в мягком кресле.
* С низовьев Волги.
ГЛАВА XX.
Беспокойную ночь проводил и Зимин. После чая, он вышел один гулять, несмотря на предложение Львовского идти вместе. Чудная ночь манила его пройтись. Почти тождественные с Полушкиной колебания мучили и его. Несмотря на свои юношески задорные речи, он понимал прекрасно, что положение Фени, одной в таком городе как Москва, без его поддержки, будет очень рискованным, да и его помощь в свою очередь могла быть приписана совершенно другим побуждениям, тем более, что сын известного богача-фабриканта всегда на виду у всех, его поступки и отношения к близким людям комментируются на всевозможные лады досужими кумушками, которых в Москве немало.
Занятый своими мыслями, Максим Давыдович не заметил, как поднялся в гору и остановился у перегудовского сада со стороны речки. Было уже поздно. Серебристая луна фантастически освещала сад, придавая теням от розовых кустов на дорожках гигантские очертания. Беседка, вся залитая луною, невольно заставила Зимина вспомнить о первой встрече с Феней, и пред его глазами до мельчайших подробностей предстала вся эта сцена. Молодой человек невольно вздрогнул и инстинктивно снова посмотрел на вход в беседку, точно ожидая, что оттуда появится фигура Перегудовой. Ночь казалась чутко настроенною, точно туго натянутая струна, ожидающая только легкого прикосновения, чтобы издать звук. Тишина захватывала и чаровала... Ни звука — ни шороха, даже легкий ветер не колыхнет трепетным листом осины. Точно в завороженном царстве, городок мирно спит, устав от долгого дня провинциального прозябания и дремы.
Минут пять постоял Зимин у перегудовского сада, бросив взгляд на темный ряд окон второго этажа, затем быстро повернулся, и медленно стал спускаться к мудрецовскому дому. Его шаги нарушили волшебное молчание ночи, звонким эхом отдались где-то в городском закоулке. Тявкнула в подворотне собачонка, пронесся резвый порыв ветра, разбудивший листья на кустах и заставлявший их пошептаться секунду-другую, чтобы снова умолкнуть до нового шаловливого нападения.
Зимин, вернувшись домой, не вошел в комнаты, а уселся на веранде и снова предался думам. Его мучила известного рода совестливость против молодой женщины, так быстро вверившей ему всю свою будущность. Он видел уже недовольное лицо отца, узнающего про его похождения на Волге. Старому Зимину неприятно будет узнать про них.
Отказать Фене и не брать ее с собою, Максим Давыдович считал себя не в праве, — теперь это уже было поздно, по его мнению.
С реки подуло свежим ветерком. Предрассветная роса белесоватым туманом облегла все его платье, он чувствовал сырость на теле, но голова горела и роса приятно освежала его пылающие щеки и лоб.
В комнатах послышались чьи-то шаги, из двери робко выглянула женская фигура в белом.
Зимин только что хотел ее окликнуть, как она первая заметила в углу терасы молодого человека, и чуть было не вскрикнула от испуга.
— Что вы, что вы! — шепотом проговорил Зимин, предполагая в вошедшей Хрустальникову, — это я... я.
— Ах, это вы, Максим Давыдович, — услышал он жеманный ответ Моос. Это была она. — Что вы так поздно здесь сидите?
— Любуюсь ночью, как и следует художнику.
— Ах, ночь божественная, — подтвердила Моос, — могу я с вами посидеть немного? Не спится что-то.
— Сделайте милость, — вдвоем веселее.
Моос мечтательно прислонилась к одному из столбов балкона; выцветшие зрачки ее глаз, бескровное лицо под лучами месяца производили впечатление лица утопленницы.
Несколько минут они оба сидели молча, каждый волнуемый своими мыслями, своими интересами.
— Итак, мы непременно едем в будущее воскресенье? — как-то нерешительно попыталась спросить Моос.
— Вероятно, — с неудовольствием ответил Зимин, — если... если одно дело удастся...
— Удастся, непременно удастся, — точно институтка хлопая в ладоши, громко сказала девушка.
— Разве вы знаете, какое?
— Превосходно! Вы ожидаете Полушкину.
Фабрикант не смог скрыть изумления.
— Откуда вы это знаете? — спросил он, стараясь быть спокойным.
— От Надежды Петровны... она мне все рассказала. Бедная Феня, как ей тяжело с этим мужиком! Я рада, что она едет с нами в Москву.
— Я еще не знаю, чему радоваться, — резко оборвал собеседницу Зимин.
Моос сконфузилась.
— Но вы... вы сами настаивали на ее отъезде отсюда, — заметила она робко.
Зимин не нашелся сразу, что ей на это ответить.
— Да, вы правы, — глухо произнес он, — это отчасти была и моя мысль, и теперь... теперь я начинаю колебаться, правильно ли я поступил в этом случае, у ней ведь муж...
— Ах, бросьте вы эти глупости, все эти условные предрассудки, — горячо вступилась Моос, — главную мысль вам подала Надежда Петровна, а она,—она не может ошибаться, она непогрешима, — с каким-то победно-восторженным взвизгиванием закончила ярая почитательница Хрустальниковой.
Сознание, что всю кашу заварила, действительно, художница, невольно облегчило упреки совести, мучившие молодого человека.
— Вы правы,—спокойно ответил он своей собеседнице, — это идея Надежды Петровны, она начала первая уговаривать Федосью Васильевну ехать в Москву.
— Ну, и прекрасно, значит это так нужно и иначе не должно быть, — уверенно проговорила Моос, поеживаясь плечами, — однако, знаете, холодновато, я иду спать, да и вам, я думаю, пора.
Зимин машинально встал со скамейки, и пошел вместе с девушкою в комнаты. Мысли его успокоились. Он в душе был рад такому простому разрешению мучивших его сомнений.
Где-то на задворках громко перекликались петухи, эти герольды утра; розовая полоска зари на востоке разгоралась все шире, все ярче... Ночной туман, окутывавший густыми клубами реку, все больше и больше светлел. На буксире, стоявшем на ночь, проснулась команда, запели лебедки, затрещала, зазвенела якорная цепь, вытаскиваемая из воды. На мачте потушили фонарь; заночевавшие у берега плотовщики с плотов-однорядок* развели огонек на берегу и кипятили воду.
* На однорядках, в отличие от «грузовиков», один слой бревен (www.krbaki.ru/content/kraeved-historu/vet_burlaki.html).
Все начинало стряхивать с себя тяжелое покрывало ночи, просыпаться, оживать. Слабо-слабо на горе зазвучал рожок пастуха, собиравшего скотину для выгона, жалобно плакалась жилейка в утреннем воздухе под опытными руками играющего. Всколыхнулись своими вершинами старые вязы, тополи и ольхи в мудрецовском саду, разбудив угомонившиеся на ночь стаи грачей, снова захлопотавших о денной злобе. Тоненький гудок на заводе Виктора Семеновича вскоре тоже присоединился к обыденному утреннему концерту. Ему начала вторить сирена бегущего сверху Зарубинского парохода*. Ударили в колокол в соборе, и разнородные звуки пробуждающейся жизни все скорее и поспешнее гнали улетающую ночь. Точно прорвав пурпурную завесу, выглянул, наконец, и царь природы — солнце, медленно поднимаясь на свой трон, — в голубое, беспредельное небо.
* М.П. Зарубин — известный волжский судовладелец (siava.ru/ forum/topic7399-1845.html).
ГЛАВА XXI.
Ничего не говоря жене, как он и решил раньше, Перегудов на другой день послал на фабрику к Китайкину письмо, в котором просил его непременно приехать в субботу вечером или в воскресенье утром по нужному и спешному делу, и стал ожидать его, зная, что Евтихий Созонтович непременно явится.
Замечательно сдержанный во всех своих словах и поступках, Виктор Семенович ни в чем не проговорился ни Раисе Владимировне, ни самому Полушкину. Одну минуту он было колебался, не предупредить ли ему последнего, но, зная прекрасно его характер, ничего не сказал, равно как и самой виновнице предполагаемого переполоха, хотя раза два она ему попалась навстречу, по дороге в мудрецовский дом.
На другой день после поездки на именины к Китайкину, Сила по обыкновению восседал в своей лавочке. Вчерашний кутеж оставил явные следы на его измятом лице и в мутном взгляде.
Проходя мимо его торговли, Виктор Семенович все же не мог удержаться, чтобы не сделать ему выговор.
— Хорош, хорош, — качая головой, укорял он лавочника, — в другой раз уже не поручу вам мою жену. Что было бы, если бы вы оба теперь валялись где-нибудь в канаве со сломаной рукой или ногой?
Сила озабоченно ерошил пятернею свои кудри, сознавая всю справедливость замечания и вместо ответа неопределенно-грустно сопел.
— Одно могу ответить, — чуть слышно говорил лавочник, — виноват, очень виноват перед вами и перед Раисой Владимировной.
— Ба, ба, кого вижу, сосед наш любезный, — вмешалась в разговор Хрустальникова, возвращавшаяся с базара. Моос несла за ней корзину с покупками. Сама художница вырядилась сегодня в широчайшее платье из ситца с невероятным рисунком, купленного ею здесь же в городке. Оно было сшито ради оригинальности и под впечатлением замечания Львовского, что в нем она походила бы на китаянку. Она и причесалась сегодня по-китайски.
Перегудова всего передернуло. Ему была крайне неприятна эта встреча после вчерашнего случайно им подслушанного разговора, но он сдержал себя и холодно поздоровался с Хрустальниковой.
— Что это сегодня с вами, Виктор Семенович, — с изумлением спросила художница, — вы чем-то недовольны?
Перегудов только что хотел ей ответить, как на помощь ему пришел Полушкин.
— На меня-с, на меня-с, Надежда Петровна, обижаются, — и он рассказал свое вчерашнее путешествие с Перегудовой, скрывая некоторые подробности.
— Ну, уж от тебя, Сила, я такой прыти никогда и не ожидала, — преувеличенно развела руками Хрустальникова.
Разговор сделался общим, но Перегудов быстро распрощался, не желая продолжать его. Ему казалось, что он больше не в силах выдержать и сейчас же выскажет всю правду, все, что так накипело у него на душе против этой женщины.
Раиса Владимировна почти всю неделю не видела Феню, которая умышленно ее избегала, боясь проговориться. Зимин только раз зашел к Перегудовым, и в неопределенных фразах намекнул, что, может быть, в следующее воскресенье часть компании уедет из городка. Действительно, после общего обсуждения, Львовский посоветовал уехать только одной Хрустальниковой с Феней, а остальные должны были остаться еще на некоторое время для отвлечения подозрений.
— Неужели вы так скоро нас покидаете, Максим Давыдович, — тихо спросила молодого фабриканта Раиса Владимировна, — мне будет очень скучно без вас.
Зимин улыбнулся.
— А вы думаете и мне приятно покидать ваш городок?.. Я оставляю здесь столько чудных воспоминаний...
У Перегудовой невольно забилось сердце.
— Это я вам потом все расскажу, — почувствовал какой-то прилив откровенности Зимин.
— А отчего же не сейчас? — нервно кинула ему молодая женщина.
— Нет, сейчас это невозможно, потом.
— Говорите, говорите сейчас.
Максим Давыдович невольно изумился такому любопытству.
— Не сердитесь на меня, Раиса Владимировна, но в настоящую минуту, повторяю, это невозможно.
Заинтересованная его словами, Перегудова хотела продолжать настаивать, но приход Федоса Алексеевича прервал их разговор.
— Ну, вот, господин милостивый, пожалуйте в это воскресенье опять к нам на собеседование, — стал приглашать Зимина бывший начетчик, — ноне интереснее прошлого будет, и народа поболе придет, да и бороться с ними мне охотнее, сказывают Сила-то Парфеныч из Керженца наставников выписал.
Но Зимину уже не до того было, он, вежливо поблагодарив Федоса и обещав придти на собеседование, отправился домой.
Наступило воскресенье. Китайкин накануне не приехал. Ожидавший его с нетерпением Перегудов рассчитывал, что если фабриканта задержало что-либо непредвиденное на фабрике, то он сам лично пойдет на пристань, встретит там беглянку и постарается ее уговорить, раскрыв ей всю легкомысленность ее поступка. Но к последней мере прибегать не пришлось, Китайкин хотя немного попозже, но приехал и прямо в дом к Перегудовым.
— Что, дорогая моя, — обратился он к Раисе Владимировне, — напугал вас мой зятек-то глупый, не правда ли? Ужо я ему отпою, — говорил старик, уже знавший о неудачном возвращении своих гостей в городок.
Виктор Семенович заперся с Китайкиным в кабинет, к изумлению Перегудовой, не понимавшей, чему только приписать подобное совещание.
Когда оба мужчины вышли из кабинета, план их был решен окончательно. На старика Китайкина открытие, сделанное Перегудовым, произвело сильное впечатление. Сначала он не хотел этому верить, но когда Виктор Семенович объяснил подробно, — ему стало все ясно.
— Бедная женщина, — проговорил фабрикант, — она не понимает, куда завлечет ее эта пресловутая свобода! Однако, нужно торопиться, — сейчас уже первый в исходе, около половины второго Самолет с низу прибежит, теперь по высокой воде, пожалуй, чтобы и раньше не был. Идем, Виктор Семенович, — и они оба отправились на пристань.
Евтихий Созонтович был прав. Они еще спускались с горы, как снизу показался пароход. На пристани было много народу. Зоркие глаза старика сейчас же заметили за толпой, около стенки, пугливо прижавшуюся Феню. Вместо самой Хрустальниковой, в последнюю минуту не решившейся оставить Марка Самуиловича без себя в городке, с нею была Моос. Багаж Полушкиной весь состоял из небольшого чемоданчика.
Китайкин до причала парохода не хотел встречаться с Феней, но только что мостки были брошены на пристань, и колеса парохода перестали работать, он, поспешно протискиваясь между пассажирами, подошел к Полушкиной.
— Феня, Фенюшка дружок, — ласково окликнул старик молодую женщину, вздрогнувшую всем телом от неожиданности.
— Батюшка! — вскрикнула она и побледнела.
— Я к тебе, голубка, в гости приехал, ан смотрю, ни хозяина, ни хозяйки дома нет. Я уж надумал домой ехать, прокачусь на пароходе до Петровского, а там лошадки у меня постоянно свои стоят, живо и дома. Да ты не ко мне ли собралась погостить? Что ж, дочка моя милая, рад, рад буду тебе несказанно, поедем вместе. А вы, Виктор Семенович, упредите, пожалуйста, Силу Парфеныча, чтобы не беспокоился: тесть, мол, названную дочку к себе увез. Спасибо вам, голубчик, за услугу великое наперед скажу.
И старик поклонился низким поклоном.
Перегудов понял тактику Китайкина. Проводив пароход с уехавшими на нем Евтихием Созонтовичем, Феней и Моос, он, довольно улыбаясь, пошел по дороге к слободе, где Федос с раннего утра препирался с выписанным Силою староверским уставщиком.
Когда пароход отошел, Китайкин, не переменяя своего ласкового тона, спросил у Фени:
— А кто же это с тобою, дочка милая. Как будто я и не видел подобной личности в городке-то?
Полушкина медлила ответом, но Моос, слышавшая вопрос старика и помня строгий наказ своего идола Хрустальниковой помогать Фене, если ее будут преследовать, резко отвечала за нее:
— Моя фамилия Моос, и вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что Федосья Васильевна к вам едет. Мы едем с ней в Москву.
— Вот как, — неопределенно произнес Китайкин, гладя рукой бороду. — В Москву? А узнать позволите зачем?
Моос тем же тоном ответила:
— Это уж наше дело.
Китайкин поднял голову, строго взглянул на говорившую и твердо произнес:
— Да и мое во всяком случае. Слушай, Фенюшка, слушай неразумная. Сбили тебя эти болтуны да болтуньи! Скажи ты мне по чести, по совести, по сердцу — что тебе в Москве нужно?
Полушкина, сидевшая до сих пор молча, вместо ответа зарыдала.
— Говори, голубка, не бойся. Коли дело хорошее задумала, сам отпущу, сам благословлю.
Глотая слезы, стараясь все объяснить, рассказала Феня старику Китайкину — все свои сомнения, все желания.
— Ой, милая, неладное ты что-то задумала! — тихо сказал старик, когда молодая женщина окончила исповедь.
При этих словах Моос, желавшая во что бы то ни стало снова вмешаться в разговор, встрепенулась.
— Это ей знать, — ладное или неладное.
— Замолчи, пустая балаболка, — рассердился старик, и взяв Феню за руку, увел ее в каюту.
— Выслушай меня, Феничка! Не против я ученья, ой, не против. Сам на него деньги дам, только голубка моя, не с ними, не с этими людьми тебе ехать. Поедем сейчас ко мне, подумай, поговорим еще с тобой. С Силой опосля я потолкую, да тогда тебя к зиме-то не в Москву, а в Петербург и снарядим. Там у меня доверенный живет, — мы тебя к нему и устроим, а тем разом, може, и муж в Питер поедет. С ним ты не моги расходиться. Ежели в чем он и не подходить к тебе, — сама выбирала, помнишь. Я не насиловал.
Истомившейся за всю неделю ожиданиями Фене была дорога неожиданная ласка вместо строгого выговора и порицания. Она согрела ее сердце, которое под влиянием постоянных насмешек Хрустальниковой над ее мужем и всей ее средой, невольно начало ожесточаться. Улеглись и тревожные мысли, тщетно искавшие исхода из сомнений.
Моос не в силах была препятствовать влиянию Евтихия Созонтовича, но когда пароход остановился у Петровского, и Китайкин с Феней сошли на берег, она закричала ей вслед, не помня себя от бешенства:
— Ну, и кисни себе в болоте, глупая баба!
Старый фабрикант с неодобрением покачал головой и прошептал:
— Взбалмошная девчонка!
Крытый дормез*, запряженный тройкою сытых лошадей, увозил Китайкина и Феню по дороге в Горстеневское, а кверху бежал пароход с Моос, призывавшей всевозможный кары на их головы.
Так легко разрешился вопрос, не дававший целую неделю покоя всем троим.
* Дорожная карета, в которой можно лежать вытянувшись (Даль).
ГЛАВА XXII.
Долго по обыкновению длилось собеседование. Поздно вечером, усталые, расходились борцы по домам. Львовский и Зимин оставались до конца, несмотря на понятное утомление от непрекращающихся разговоров и споров. Они оба заинтересовались типами спорящих и так же, как в первый раз, усердно зачерчивали в свои альбомы. Другая причина, заставившая их пробыть на собрании так долго — был известный маневр, своего рода alibi во время побега Полушкиной. Сколько раз, посматривая на часы, Зимин пугливо ожидал услышать свисток парохода. Пароход пришел в городок и снова двинулся дальние, но никто не прибегал к Полушкину сообщить о побеге жены. Максим Давыдович успокоился и начал прилежно наносить на страницу своего альбома типичное лицо одного из уставщиков*, приглашенных Силою для прений с Федосом.
* У часовенных (течение в старообрядчестве) уставщики вели богослужение в часовнях, крестили, исповедовали и причащали. (А. Крюковских. Словарь исторических терминов, 1998 г. Цит. по: http:// interpretive.ru/dictionary/461/word/%D3%D1%D2%C0%C2%D9%C8%CA).
И нынешний раз победа осталась за последним, хотя раскольники галдели, стараясь своими криками и шумом заглушить миссионера, но Федоса перекричать было трудно.
— «Возри аще не леностен, обрящешь ли где книгу право списанную, говорит патриарх Иосиф, — гремел Федос на последок, — слезно прошу исправить», а вы, что же, больше и умнее священнейшего патриарха, что никакого исправления не признаете?
Противники снова заговорили все разом. Из-за поднявшегося шума трудно было что разобрать.
— Ну, на сегодня довольно, — проговорил Федос, — и так уж целый день пробеседовали.
Он еще оставался в комнате, собирая свои книги и тетради, когда к Полушкину подошел Перегудов. Разговаривая, они вместе пошли по дороге в город, миновав вышедших раньше художников. Сила приветливо им поклонился, но Виктор Семенович ограничился лишь сухим кивком головы.
Львовский молча переглянулся с Зиминым, и, когда Перегудов с лавочником ушли вперед, заметил ему:
— Веселый наш Сила, — видно, еще не знает, что жена сбежала.
Вульгарный тон его замечания неприятно подействовал на Зимина. Ему не понравилось, что художник придает отъезду Фени какой-то нежелательный характер любовного побега.
Максим Давыдович ничего ему не ответил.
— Уехала! — торжествующе встретила их Хрустальникова на крыльце мудрецовского дома, — Моос в противном случае вернулась бы обратно.
Облачко недовольства снова промелькнуло на лице молодого фабриканта. Опять где-то там глубоко, в сердце, всколыхнулась совесть, подсказавшая ему, что он отчасти виною расстройства сожительства Полушкиных.
— Пройдет еще неделька, и мы можем лететь к северу, в первопрестольную, — устало потянулся Львовский, — для нынешнего лета я достаточно поработал, немного понаскучило.
— Да нам и делать здесь больше нечего, — засмеялась Надежда Петровна, — что могли все сделали, даже самый лучший цветок в городе, розу, и ту с собой забрали.
Снова неприятно зазвучала в сердце Зимина эта фраза Хрустальниковой.
— Для приличия все же необходимо переждать недельку, — сказал осторожный художник, — чтобы на нас не было подозрений...
— Что правда, то правда, Марк, — согласилась Хрустальникова, — так и поступим. А вам, для отвода глаз, Максим Давыдыч, недурно бы поухаживать за нашей соседкой, Раичкой. Мне кажется почему-то, что она в вас по уши влюблена.
Зимина поразило это предложение. Он не раз замечал внимательность к нему Перегудовой больше, чем к другим, но не придавал этому никакого значения. Сегодня же он обратил на это замечание внимание и должен был сознаться, что Хрустальникова с ее женским инстинктом была права. Раиса Владимировна явно заинтересовалась им.
— Что же тут делать? — прошептал Зимин немного растерянно.
— Ничего, как есть ничего, — засмеялся Львовский, — мало ли на свете баб-то шалых? Если бы я, как ты, задумывался от подобных пустяков, так, наверно, никогда не был бы художником.
— Это немного слишком, Марк, — как-то повелительно сказала Хрустальникова, — от тебя не ожидала.
Художник окинул усталыми глазами ее стройную фигуру тридцатитрехлетней женщины и лениво пробурчал в ответ:
— Не все надо применять к себе.
Скоро все разошлись по своим комнатам.
Моос, оставшись одна на пароходе, сейчас же принялась писать свое донесение Надежде Петровне, не умаляя, но даже сгущая краски, и отправила письмо с первым пароходом, бежавшим книзу.
Почта в городе получалась только под вечер, и всю историю расстройства их плана компания художников могла узнать только поздно вечером на другой день.
Неприятному изумлению Хрустальниковой и ее бешенству не было пределов. Она хотела сейчас же бежать в лавку к Силе, наговорить ему кучу дерзостей, высказать лавочнику свои воззрения на право свободы женщин. С трудом уговорил ее Львовский не делать скандала, говоря, что случай может снова представиться.
Что касается Зимина, то его недавние замечания относительно отъезда Фени в Москву — резко изменились. Получив щелчок своему самолюбию, Максим Давыдович, во что бы то ни стало, решился довести задуманное до конца, — в нем проснулся замоскворецкий Тит Титыч с классическим «нам препоны не полагается».
— Я прямо поеду на фабрику к этому старому дураку Китайкину и увезу оттуда Полушкину, — горячился молодой человек. — Какое право имеет он удерживать взрослого, самостоятельного человека, как ребенка?
— Подожди, не кипятись, — хладнокровно заметил Марк Самуйлыч, — ничего ты этим не сделаешь, у ней муж есть...
— Не венчанный! — перебил Зимин.
— Это все равно. Только своею горячностью все дело испортишь, нужно ждать.
— Долго? — лаконично спросил молодой фабрикант.
— Этого не могу сказать, как вернется она сюда обратно...
— Подождем, — философски решила Надежда Петровна.
И они стали ждать.
Прошла неделя, но Полушкина не возвращалась еще в городок. Китайкин в свою очередь ожидал, когда художники уедут в Москву. Львовский первый понял его тактику и предложил своим товарищам перебраться в один из соседних городков, чтобы наблюдать, сделав вид, что они уезжают в Москву.
Другого исхода не было, пришлось воспользоваться этим.
Накануне отъезда, Зимин от лица Львовского и Хрустальниковой пошел к Перегудовым попрощаться. Отъезд его расстроил Раису Владимировну.
— Как будет без вас здесь скучно! Что же вы не подождете возвращения Фенички, — лицемерно заметила она молодому человеку, хотя ей гораздо приятнее было, что он уезжает не в присутствии Полушкиной. Настоящей причины отсутствия последней из городка она и не подозревала. Скрытный Виктор Семенович ни словом не обмолвился жене о случившемся.
— Мне самому очень неприятно покидать этот чудный уголок, где я провел так много хороших часов, — проговорил Зимин, — и вечно буду помнить о них.
— Приезжайте на будущее лето сюда к нам опять, — упрашивала Перегудова, не спуская глаз с своего гостя.
— Непременно, — поспешил согласиться с нею молодой фабрикант. — Кстати, Надежда Петровна и Львовский просили меня передать вам их поклон. Зайти им едва ли удастся, много вещей укладывать, а помогать некому.
— Я охотно помогу, — возразила Перегудова, — и сегодня же зайду к вам.
Действительно, вечером она пришла в мудрецовский дом. Дамы вежливо, но холодно попрощались. Львовский изысканно любезно поцеловал руку Раисы Владимировны. То же самое сделал и Зимин. — Они расстались. С ночным пароходом москвичи поднялись до лежащего в верстах пятидесяти губернского города.
Виктор Семенович в тот же день уведомил Китайкина об их отъезде из городка, и на другое утро Феня была водворена у своего мужа, обрадовавшегося ее возвращению из Горстеневского, в особенности в виду необходимости кому нибудь оставаться в лавке, когда он уезжал в уезд.
Феня точно подстреленная птица, молча соглашалась на все, что ей говорили. Она больше уже не верила в возможность выбраться в Москву для занятий, зная взгляды Силы Парфеныча. Но тем не менее сердце ее рвалось туда, — она не могла примириться снова с опротивевшей ей жизнью с мужем.
ГЛАВА XXIII.
Возвратясь в городок, Феня случайно узнала об отъезде художников. Недалеко от спуска, она заметила собиравшего грибы старичка Власа, дядю Силы, жившего у него в доме из милости. Полушкина его окликнула.
— Э, да это никак Феничка наша милая едет, — прошамкал старый, посматривая подслеповатыми глазами на экипаж и подходя к нему.
— Садись, дедушка, поди совсем заморился, — обратилась к нему молодая женщина.
Влас, кряхтя, влез на облучок*, и тарантас покатился дальние.
* Передок тарантаса — четырёхколёсной повозки на длинных дрогах (Даль, Ушаков).
— А у нас, Феничка, по городу новость объявилась. Те люди-то, что с тебя патрет снимали, в Москву уехали.
Полушкина переменилась в лице. Новость эта, скрытая от нее Китайкиным, поразила ее. Она все еще надеялась увидеться с Зиминым до его отъезда и переговорить.
В настоящее время, кроме Перегудовой, в целом городке не было никого, с кем она могла бы отвести душу, и первое, что Феня на другой день задумала сделать — это сходить к Раисе Владимировне.
— Долго, долго, Федосья Васильевна, загоститься изволили у батюшки своего названного, — шутливым приветом встретил жену Полушкин. — Тут я без вас сирота сиротой остался, помощи ни от кого не имею.
Феня сдержанно ответила на его поцелуй. Муж еще больше стал ей противен и невольно напрашивался на сравнение с Зиминым. Разница была не в пользу первого.
— Я вам супризец подготовил, — тараторил супруг, — войдите-ка в зальце.
Феня вошла в комнату, первое что ей бросилось в глаза, был ее портрет, помещенный в какой-то аляповатой рамке — густо покрытой сусальным золотом.
— Какова! — не утерпел, чтобы не похвастаться лавочник, — под енерала рамка-то годится.
Феня ничего ему не ответила и молча прошла в спальню, она решила еще сегодня пойти к Перегудовой. Близость мужа ей была неприятна.
После обеда Сила Парфеныч ушел в лавку, а Феня отправилась в памятный ей по нынешнему лету садик. Раисы Владимировны не было в городке. Она тоже скучала после отъезда соседей и уехала погостить к одной своей приятельнице-помещице. Виктор Семенович был дома. Он обрадовался, увидя Полушкину, и стал расспрашивать ее о Китайкине, и весело ли провела она время в Горстеневском. Но заметив, что гостья отвечает ему невпопад, рассеянно, он сделался серьезен, сообразив, что в этой невнимательности молодой женщины кроется что-то необычное, и решил действовать сразу.
— Вот и мудрецовский дом опустел, — заметил он, смотря пытливо на Феню, — все уехали.
Полушкина не вздрогнула, как утром в тарантасе, при этом напоминании, но неестественно потупилась.
— Вы, кажется, очень приятно там проводили время это лето? — снова обратился к ней с вопросом Перегудов.
Такое настойчивое повторение показалось молодой женщине подозрительным, и она уклончиво ответила:
— Да, мне было весело.
Сдержанный по обыкновению, Виктор Семенович не счел нужным скрывать долее о том, что ему все известно.
— Что вы задумали! Сколько горя принесли бы вы близким людям, если бы ваше намерение уехать исполнилось.
— Дурного я ничего не задумала, Виктор Семенович. Мне тесен наш городок, я хочу знаний, света...
— А направляетесь совершенно другой дорогой, — резко перебил ее Перегудов. — Разве не открыл вам глаза Евтихий Созонтович на этих людей, на их намерения и цели?
— Он много мне говорил, но далеко не мог меня разубедить в честности моих новых знакомых.
— Очень может быть, что они и честные, но для цели самообразования не годятся. Это только фразы свободного искусства, но не науки. Они вас погубят, а вовсе не дадут вам того светоча, которого вы ищете.
Но чем более порицал Перегудов художников, выставляя на вид их легкомыслие, уверяя Феню, что она только временно могла их заинтересовать собою, — тем сильнее привязывалась Полушкина к отсутствующим и отыскивала в своем уме извинительные причины их поступков.
— Нет, Виктор Семенович, не говорите мне о них, я им верю и вы напрасно меня уговариваете сомневаться в их порядочности. Повторяю, я верю, верю им! — горячо возразила Феня.
Перегудов пожал плечами.
— Верьте, но вы сами убедитесь когда-нибудь, что я был прав.
И оба они, не убедив друг друга, разошлись. Полушкина, недовольная что она не застала Раису Владимировну, вернулась домой.
Сила Парфеныч был уже дома и пил чай.
— А я-то вас, Феничка, везде посылал отыскивать. Куда это вы ходили?
— К Перегудовым, — коротко ответила жена.
— Ну, я так и думал, — обрадовался лавочник, — Раиса Владимировна, сказывают, уехала погостить, — и, таинственно наклонясь к уху жены, он проговорил:
— Болтают, что шуры муры с тем-то, — как бишь его, — что вам потретик презентовал, завела.
Сидевшая спиною к мужу Феня быстро обернулась.
— С Зиминым? — порывисто спросила она.
— Во-во, с ним самим.
— Никогда не поверю!
Полушкин развел руками и нерешительно произнес:
— Впрочем, кто его знает, может, и брешут.
Какое-то новое чувство, чувство непонятной зависти к Перегудовой, сопряженное с недоверием к ней, взволновало молодую женщину. Она страстно жаждала увидеть кого-нибудь из художников, чтобы только узнать, выведать, справедлив ли сообщенный ей слух. Мысль ее быстро работала, и она решила сейчас же, не медля, спросить мужа, отпустит ли он ее в Москву добровольно.
— Сила Парфеныч, — немного колеблясь, сказала Феня. Голос ее слегка дрожал. — Я хочу ехать в Москву или в Петербург.
Если бы зимою прогремел гром, то никогда бы Полушкин не изумился более, чем при этих словах жены.
— В Москву, в Петербург? Зачем же, Федосья Васильевна? — бормотал он в недоумении.
Феня заметила смущение мужа. Это придало ей более уверенности, и она стала говорить более плавно.
— Я ничего не видела, Сила Парфеныч. Не один же наш город «свет в окошке». Мне интересно было бы посмотреть как другие люди живут, поучиться...
Лицо лавочника менялось при каждом слове жены; он, наконец, не вытерпел и прервал ее.
— Учиться? А для чего, Феничка? Разве вы неучены? Читать, писать знаете, арифметику умеете, — чего же еще больше-то вам нужно? Для нашего обихода достаточно.
Невежество мужа еще сильнее взволновало Полушкину. С резким движением она встала со стула и начала нервно ходить по комнате. Несколько минут никто не прерывал молчания.
— Сила Парфеныч, прошу вас, отпустите меня, — снова заговорила Феня, — я здесь задыхаюсь. Посмотрю, побуду там, может быть, опять сюда к вам вернусь, отпустите.
Но уговорить Полушкина было теперь уже трудно.
— Не манера-с, Федосья Васильевна, так поступать. Где же это видано, чтобы от мужа жена уезжала, а у нас по купечеству и подавно! Нет-с, этому не бывать.
Он громко хлопнул дверью, рассерженный разговором, и быстро выбежал из дома.
Феня на минуту задумалась, пожала плечами и вышла из комнаты.
Прошло два дня, супруги не разговаривали между собою.
— Прочухается, — дурь из головы выйдет, тогда и заговорит! — решил Полушкин и стал выжидать, но в то же время написал письмо своему тестю названному, Китайкину, прося его совета.
ГЛАВА XXIV.
Полушкина буквально не находила себе места. Тоска ела ее. Она готова была все сейчас бросить и полететь в Москву к своим друзьям, которых она в своем неведении света считала лучшими людьми в мире. Даже облик уважаемого ею Китайкина как-то стушевался перед их обаянием. Бесцельно бродила она около полудня у пароходных пристаней на реке.
— Хведосья Васильевна, — услышала она за собой женский голос и обернулась: перед нею стояла дочка сторожа с пристани.
— Вам, тетенька, записочку передать велел тот барин, что онамеднясь в мудрецовском доме квартировал.
Полушкина чуть не вырвала у ней из рук этот клочок бумаги и, нервно разорвав конверт, прочитала:
«Мы все глубоко сожалеем о неудаче, которая вас постигла при отъезде. Если вы еще не переменили своего намерения, — в чем, впрочем, мы не сомневаемся, приходите вечером, как стемнеет, в беседку мудрецовского дома. М. Зимин».
До сих пор вялая, унылая Феня сразу преобразилась. Ее не забыли! Значит, она не ошиблась в них.
— Ты когда видела барина? — порывисто спросила она девочку.
— А он даве с пароходом, что с верху прибежал, приехал.
— Хорошо, спасибо, молчи только, — прервала ее Полушкина и чуть не бегом отправилась домой.
Все в ней пело, все радовалось. Чувство довольства, сознание, что она теперь уж не так беспомощна, бессильна, как за минуту раньше, — давало ей уверенность на будущее, надежду на защиту против мужа, если бы он вздумал ее преследовать.
Письмо Зимина ей подсказало, что сплетня о нем и Перегудовой, рассказанная ей мужем, была лжива. Это еще больше успокоило молодую женщину, — невольная ревность к Раисе Владимировне исчезла.
Перемену с Феней заметил даже Сила Парфеныч и, приписывая ее желанию помириться с ним, уже хотел ей что-то сказать, но остановился, находя что первый шаг примирения должна сделать жена.
Феня в свою очередь не обратила на него внимания и с нетерпением ожидала сумерек, считая часы и минуты, когда она может отправиться на свидание с художником.
Конец августа выдался в это лето прекрасный, — теплый, сухой, со светлыми безоблачными ночами и безветрием. Стрелка часов двигалась к шести. Полушкин напился чаю и отправился в лавку. Дневные тени стали значительно темнеть. Легкая дымка августовских сумерек расплывалась по земле. Далекие контуры леса и зданий начали сливаться, воздух терять прозрачность, а краски яркость. Отхождение ко сну уставшей природы с каждою минутою делалось заметнее. Погасли яркие пятна солнечного отблеска в верхних окнах церкви Св. Троицы, стоявшей через улицу от полушкинского дома. Скоро солнечная тень широким крылом взмахнула выше и зажгла блестящей точкою золотой крест на куполе. Наверху еще светило прощалось с землею, внизу чувствовалась уже власть ночного мрака. Легкая роса легла тонким ковром на поля. Стало еще темнее. Ждать дольше Феня не могла, — сердце у ней было готово вырваться из груди и пташкой полететь к беседке. Кое-как накинув на плечи платок, она быстро пошла к Волге, предупредительно избегая попадать в яркие полосы света, льющегося кое-где из окон. Скоро она миновала базар, прошла мимо лавки мужа, поровнялась с Перегудовским садом. На террасе кто-то разговаривал. Совершенно инстинктивно Феня прислушалась, — говорил Виктор Семенович, собеседником его оказался ее муж. Разговор вертелся преимущественно на выраженном ею желании уехать из городка. Сила не понимал ее стремления отправиться в столицу. О мотивах в виде учения он и не предполагал серьезно, — для него это была одна блажь.
Хотя Феня и торопилась, но женское любопытство сказалось, — она стала слушать их разговор. Однообразное нытье Силы и жалобы на нее скоро ей надоели. Она быстро спустилась к беседке, стоявшей на берегу Волги у мудрецовского дома, окруженной точно часовыми — старыми тополями и липами. Робко забилось ее сердце, когда она подходила к этому месту. Феня начинала сомневаться, нет ли здесь какой-либо шутки или издевательства со стороны мужа.
Полушкина нерешительно заглянула в двери, — внутри беседки было темно...
— Никого нет! — точно ответом на ее мысль вырвалось у ней восклицание.
И одновременно с ним на заднем диване послышался шорох и мягкий мужской голос тихо проговорил:
— Да, никого — кроме меня.
Молодая женщина как-то всем корпусом рванулась вперед на призыв, натыкаясь на поставленные здесь на время зимы садовые скамейки. Она ничего не помнила и только шла на этот голос.
— Испугались, Федосья Васильевна, — шутливо проговорил Зимин, помогая ей пройти между скамейками и усаживая ее рядом с собою на диван.
Рука Фени слегка дрожала в его руке.
— Нисколько, я рада, — сдавленным голосом ответила молодая женщина, — я... счастлива, что снова вас вижу.
— А вы думаете, что я того же не испытываю? — прошептал фабрикант, — зачем же я так стремился сюда... как не ради вас одной.
Фене стало ясно, почему ей было тогда так больно, обидно, когда она услышала сплетню о Зимине, — она ревновала, а ревновала потому, что любила. В эту минуту она была счастлива. То же самое чувство овладело и Максимом Давыдовичем, он точно проснулся и понял, что его сочувствие к Полушкиной, его хлопоты об ее развитии не были одним признаком симпатии. Красавица Феня овладела всем его сердцем. Он это чувствовал давно, хотя понимал совсем ложно, не желая сознаться себе самому в овладевшем им чувстве. Темнота в беседке, отчужденность от людей, тишина, все это позволило им полувысказаться, хотя они ясно понимали и без этого, что судьба их связывала друг с другом.
— Возвращаться домой вам не к чему, — уверенно сказал Зимин.
— А как же, — изумленно заметила Полушкина, — мне нужны кое-какие вещи. Наконец, необходимо взять вид на жительство.
— Ни о первом, ни о втором не беспокойтесь. Все у вас, что вы только пожелаете, будет, а паспорт Сила сам вам вышлет. Я знаю, как его заставить. Повыше города в роще ждет нас тарантас с парой лошадей, — я его нанял, и мы доедем на нем до губернского города, а оттуда прямо по железной дороге в Москву.
Феня задумалась. Новизна положения немного изумляла ее, мысль ехать ночью с чужим мужчиною вдвоем страшила.
— Я право уж не знаю! — робко промолвила она.
— Чего же тут медлить — решайтесь!
Под влиянием минутного порыва, Зимин обнял молодую женщину и крепко поцеловал. Феня слабо сопротивлялась, но сейчас же ответила на его поцелуй.
— Ну, разве ты можешь остаться здесь? — страстно шептал фабрикант, — когда там в Москве я тебя обоготворю.
Полушкина ничего не сознавала. У ней не было ни силы, ни воли, — она вполне отдалась минуте, забывая о всем остальном.
Рука об руку, медленно вышли они из беседки, направляясь вдоль берега. Было по-прежнему тихо. Под ногой Зимина зашуршал рано опавший сухой лист. Дом Мудрецова таинственно глядел своими темными окнами. С отъезда художников в нем никто не жил. Далеко, на соборной колокольне в городе, куранты пробили восемь. Ранний сторож где-то звонко отбарабанил в доску начало своего караула.
Молодые люди поднялись на пригорок сзади мудрецовского сада и обернулись на городок, темными рядами деревянных построек лежащий перед ними. Кое-где засветились огни. Феня молчала. Ей было жутко и в то же время приятно. Максим Давыдович нежно взял ее обеими руками за голову, нагнул в свою сторону и поцеловал.
— Красавица ненаглядная! — шептали беззвучно его губы. Из рощи над ними неслось нетерпеливое позвякиванье колокольцев застоявшихся лошадей.
— Ну, простилась с своим гнездом, едем! — решительно вырвал Полушкину из ее дум Зимин, и несколько минут спустя тарантас трясся по просеке, увозя Зимина и Феню.
ГЛАВА XXV.
Отсутствие жены за ужином изумило Силу Парфеныча. Немного подождав ее, он поужинал один с смутным беспокойством: никогда Феня еще не возвращалась домой так поздно.
— Уж не случилось ли с ней что-либо? — промелькнуло в мыслях у лавочника. Своей ссоре с женою он не придавал никакого значения, считая ее обыденною вещью в семейной жизни. Время шло, часы уже пробили одиннадцать, а Полушкина все еще не возвращалась. Беспокойство Силы возрастало. Наконец, он не вытерпел и разослал на поиски жены своих приказчиков, а сам стал ожидать. Посланные возвратились, не найдя Полушкиной.
Целую ночь не спал Сила Парфеныч, теряясь в догадках, куда могла деться Феня, и только под утро забылся тяжелым сном. Первый раз, кажется, в жизни приходилось ему переживать подобную тревогу.
Настало утро, но и с его приходом не явилась домой Федосья Васильевна. Полушкин окончательно потерял голову. Срам перед соседями, недовольство самим собою еле удерживали его и не позволяли ему броситься самому на поиски пропавшей жены.
Не зная что предпринять, Сила надумал поехать к Китайкину, почему-то предполагая, что Феня направилась туда. Он не успел еще привести своего намерения в исполнение, как у его ворот остановился экипаж самого Евтихия Созонтовича, получившего его письмо и приехавшего в городок, чтобы помирить супругов.
— А я к вам только надумал ехать, тестюшка названный, — встретил фабриканта Полушкин, — уж как я рад, что вы сами припожаловали.
Старик молча выслушал его рассказ об исчезновении Фени и немного задумался.
— Трудно будет тебе теперь Феню-то найти! — медленно произнося слова, сказал Китайкин. Сила встрепенулся.
— Неужто! А сама разве она не придет?
— Да что ты младенец, что ли? — недовольно заметил Евтихий Созонтыч, — да знаешь ли, где она теперь?
Полушкин тоскливо-отрицательно качнул головой.
— По дороге в Москву! Понял ли, наконец?
— В Москву уехала? — беспомощно проговорил лавочник.
Китайкин принужден был открыть ему всю историю ее первого неудавшегося побега, о котором он до сих пор умалчивал.
Полушкин, узнав об этом, рассвирепел.
— Эх, поздненько сказать изволили, уж походила бы по ней вожжа-то, — с сокрушением проговорил лавочник.
— Не моги когда-либо ее пальцем тронуть! — строго заметил старик, — моя вина, я же и поправлять ее буду. Сегодня же поедем вместе в Москву.
На лице Силы показалось изумление.
— А как же я торговлю-то брошу?
Китайкин ничего не ответил ему и отправился узнать на пристань, когда уехала Полушкина. На пристани кроме вчерашней девочки никого не было. Помня приказание ничего не говорить, девочка отнекивалась, но когда старый фабрикант дал ей гривенник, язык у ней развязался.
— Не, господин, никуда не поехали, здесетко остались.
Китайкина изумило это известие, где же могла приютиться в городке Феня? — ее все здесь знали и это сейчас было бы известно.
Мучимый загадкой, Евтихий Созонтыч побрел снова в город.
При подъеме на гору ему попался навстречу тарантас, весь запачканный в грязи. Ямщик мирно спал в самом кузове, лошади одни брели по спуску.
Китайкин окликнул ямщика. Его заспанная физиономия со всклоченною бородою, откуда торчало сено, поднялась из- за борта тарантаса.
— Чего надобно? Заморился, всю ночь колобродил, барина возил.
— Одного? — строго спросил фабрикант.
— Не, не одного. Бабочка нашинская, из городка с ним. Спознал ее сразу. Почитай, в два часа до первой станции домчал, а, поди, все твои двадцать пять верст будут.
— Кто же с ним был? — допытывался старик.
Ямщик усмехнулся.
— Просто бы и не поверил, коли бы собственными глазами не видел. — Силы Парфеныча супружница.
Кигайкин умел скрывать свои чувства, но здесь все же не мог. Дело касалось Фени, любимой им не менее своих родных детей, и грязный намек, кинутый кучером на его дочь названную, был ему очень тяжел.
Он продолжал свою дорогу, и войдя к Силе, застал у него Перегудова и Федоса.
— Здравствуйте, Виктор Семенович и ты Федос, — невесело проговорил Китайкин, входя в комнату.
Полушкин вопросительно взглянул на вошедшего.
— Ехать нужно, — коротко отрезал старик. Лицо Силы Парфеныча болезненно искривилось.
— Неужели правда, Евтихий Созонтыч? — робко спросил Перегудов.
Китайкин печально покачал головою.
— Ой, правда.
— На каком же пароходе она уехала?
— Не на пароходе — на лошадях. Сейчас сам с парнем говорил, что возил ее с... — сказал фабрикант, но не окончил, заметя, что Федос еще в комнате.
— Да неужто с полюбовником? — наивно спросил последний.
— А ты думал что же? — ожесточенно вступил в разговор Полушкин, — с ним, с злодеем моим!
Китайкин нервно хлопнул ладонью по столу.
— Не моги этого говорить, Сила. Не порочь жены раньше времени.
Но остановить расходившегося Полушкина было трудно.
— Чего не порочить? — Поди все об этом знают, а я молчу. Что он Зимин, миллионер, а я должен молчать. Никогда!
— Вот оно дело-то какое, — сокрушенно бормотал про себя Федос и, подойдя к Силе, проговорил:
— Говорил я тебе раньше — брат, смири гордыню-то свою, а то сам Господь согнет тебе выю, — вот то и вышло.
Полушкин вызывающе взглянул на него, потом вдруг громко зарыдал.
— За что же, за что она меня бросила? — причитывал он, не переставая плакать.
Китайкин терпеливо ожидал, хотя видно было, что подобная сцена ему не по нутру. Перегудов пробовал утешать плачущего, но это ему не удавалось. Федос сосредоточенно молчал, прерывая изредка свое молчание шепотом:
— Господи помилуй! Кто бы мог подумать, такой сурьезный человек и вот нате-ка! Тот, другой-то парень, пустельга.
— Слушай Сила, — проговорил, наконец, Китайкин, когда Полушкин немного успокоился, — ни Виктор Семеныч, ни я, да и Федос, хотя и враги вы с ним по другим делам, дурного тебе не пожелают.
— Что ж, это доподлинно, — добродушно подтвердил Федос, — у меня никакого зла на него не имеется.
— Ну, вот и давайте обсудим, что лучше теперь сделать. Я так полагаю, нужно сейчас же в Москву ехать, там их перехватить.
— Это будет самое лучшее, — заметил Перегудов.
— Вы, Евтихий Созонтыч, многажды умнее нас маленьких людей в таких делах, — сами смотрите, — отклонился Федос от совета, — нам вот, если что от писания, то другая статья.
— В Москве я с нею повидаюсь, потолкую, авось как-нибудь и уговорю.
— Улестите, улестите, Евтихий Созонтыч, вы это умеете, — не утерпел Федос, чтобы не намекнуть фабриканту о православных, склоненных им в раскол.
Китайкин не заметил или не хотел обратить на эту выходку внимания.
— Не забудьте заехать и к старику Зимину, — вы ведь с ним знакомы, — заметил Перегудов, — поговорите с ним, он может повлиять на сына.
— Правда, Викеша, правду милый говоришь, не премину зайти, — благодарно проговорил Китайкин, — я надеюсь, что мы что-нибудь сделаем вдвоем. Ну, Сила, ну, зять названный, не умевший охранить жену свою от татей, едем в Москву. Пароход отходит скоро, завтра к вечеру там будем. Я и домой не заеду, нельзя время терять.
Китайкин немного оживился. Глядя на него ободрился и Полушкин. Сборы были невелики, с четырехчасовым пароходом они уже ехали в Москву.
Проводив их, Виктор Семенович пошел домой.
— Зайдем ко мне, Федос Алексеич, — пригласил он бывшего начетчика — и они оба отправились к Перегудову.
Неожиданный сюрприз ожидал Виктора Семеновича дома, — Раиса Владимировна вернулась. Ничего не зная о новостях городка, она стала расспрашивать мужа о Полушкиной. Перегудов недолго держал ее в неведении и сейчас же рассказал всю историю.
Раиса Владимировна, выслушав ее, села, как пришибленная; только теперь узнала она, что все ухаживанье за ней Максима Давыдовича было только отводом глаз. Образ Зимина, до сих пор постоянно стоявший у ней перед глазами, сталь тускнеть и превращаться во что-то расплывчатое — туманное. Она настолько расстроилась известием, что, ничего не понимая из разговора мужа с Федосом, старалась слушать их, чтобы замаскировать свое волнение, но скоро под предлогом головной боли, вполне естественной после дороги, ушла спать. Сон бежал от ее глаз, — сердце больно ныло. Все мечты и надежды были разбиты и, как у Полушкина, нервы ее напряглись, она стала вдруг плакать точно ребенок, стараясь сдерживать рыданья, чтобы их не слышали Перегудов с гостем.
— Все тлень, — серьезно заметил Федос, — человек яко трава, дни его яко цвет сельный*... Гордости-то у Полушкина сколько было, а все же нехорошо и молодой богатей поступил. Эх!
* Псалом 102, 15. (Сельный — полевой, по словарю Ефремовой).
— Ну, может быть, удастся им что-нибудь в Москве устроить...
— Дай Бог. Душевно счастлив буду, если все уладится.
И старик, чинно помолившись на образ, ушел.
Побег Фени отозвался неприятно и на уравновешенном характере Перегудова. Ему было обидно отчасти, что Феня пренебрегла его советами, тяжело за Китайкина, которого он любил, и жалко Силу.
Как далек был Виктор Семенович от мысли, что подобное могло произойти и с его собственной супругой.
— Тебе жалко Силу Парфеныча? — спросил он Раису Владимировичу, входя в спальню и замечая, что она плачет.
Перегудова ничего ему не ответила. Лгать она не хотела, а признаться мужу в своих разбитых мечтах было бы странно.
Виктор Семенович изумился ее молчанию, но не продолжал расспросов и начал что-то писать за письменным столом.
ГЛАВА XXVI.
Приехав в Москву, Китайкин вместе с Силой отправились к старому Зимину. Для богача фабриканта у всех московских промышленных тузов двери всегда были открыты. Давыд Максимович принял приезжих очень радушно, но, когда Китайкин рассказал о случившемся, старик Зимин сначала задумался, потом прямо ответил, что он не судья своему сыну, — он-де и сам не маленький.

(с сайта Музея ММВБ http://forum.micex.ru/museum/annals/02?start=31)
— Сказать, Евтихий Созонтыч, попробую ему сказать, но вы сами знаете, как трудно в настоящее время выпытать правду даже у своих детей. А уж учить их я и не берусь. Он мне может ответить — не твое дело, отец. — И я принужден буду только улыбнуться на это.
— Пожалуй, вы и правы, — проговорил Китайкин, — я бы сам так поступил. Ну, Сила Парфеныч, идем.
И они вышли из роскошных комнат московского креза.
Найти молодого Зимина было трудно. Предугадав поиски за Феней, он поместил ее временно у Хрустальниковой, и только случайно завернув к художнице, Сила заметил в прихожей шляпку своей жены.
Хрустальникова отозвалась нездоровьем и не приняла их, так же поступила и Феня, которую очень искусно выследил Полушкин.
— Полиции разве заявить? — с отчаянием в голосе сказал молодой купец фабриканту.
— А что этим сделаешь? Ведь она тебе не венчанная жена? Заставить ее приехать к тебе снова не могут, — тихо промолвил Китайкин, — лучше честью да ласкою, больше успеешь, подождем.
Но не ждалось Силе Парфенычу. Он один, без старого фабриканта, сбегал еще раз к Фене, поднял там целый скандал, когда его не пустили к ней в квартиру, и, еще больше рассерженный и разочарованный, вернулся в гостиницу.
— Что сорвал гнев-то свой? — спросил его Китайкин. — Эх, ты фалалей парень! Впрям фалалей, только дело напортил.
Полушкин угрюмо молчал.
— Что же теперь делать? — недоумевая развел он руками.
— И ума не приложу! Поживем еще деньков пяток, може, одумается, a нет...
— Тогда что? — порывисто перебил говорившего Сила.
— Ну, тогда езжаем домой. Будем там ждать, если тебе не надоест, а время все же придет — вернется Феня.
Лавочник уныло посмотрел на своего тестя названного.
— Вернется! Когда? Когда я сам ее не приму на порог свой?
И оба они замолчали.
Прошло не пять дней, а целых две недели и Феня не только не явилась к мужу, но даже не ответила ни на одно его письмо, которые он ей ежедневно посылал. Второй визит их к старому Зимину тоже не увенчался успехом. Давыд Максимович принял их любезно по-прежнему, но наотрез отказался вмешиваться в это дело.
— Делайтесь вы сами промеж себя, — сказал он Полушкину, — оба вы с Максимом люди молодые, а нас стариков в покое оставьте. Не так ли, Евтихий Созонтыч?
Но Китайкин ничего на это не ответил.
— Что же, ехать к дому нужно, — сказал он Полушкину, когда они вернулись от Зимина, — толку, я вижу, пока никакого не будет.
Сила беспрекословно согласился с ним, и они в тот же день выехали в городок обратно.
Весть о неудачной поездке Полушкина за женой в Москву быстро облетела весь городок, дав на долгое время тему для разговоров и сплетень.
Винили по большей части Феню, но и она нашла себе защитников в лице служебной молодежи из интеллигенции, — красота ее невольно подкупала.
— Вольно же ему было серому купцу жениться на такой красавице, — говорили кое-кто из чиновников, — ожидать этого нужно было, рано или поздно — так бы случилось.
Винили отчасти и самого Китайкина, но осторожно. Его положение, как миллионера, невольно зажимало рот болтунам.
Волновался сильно Перегудов, — он приписывал вину отчасти и себе.
— Без этого проклятого сеанса в нашем саду — никогда бы и не произошло чего-либо подобного!
Раиса Владимировна оправдывала его и в качестве довода приводила, что первая случайная встреча Зимина с Полушкиной в беседке все решила.
Но вместе с тем Перегудова каждый раз при этом задумывалась и невольно вздыхала.
Понемногу в городке стали забывать о Фене, как вдруг она сама напомнила о своем существовании.
К Евтихию Созонтовичу на фабрику, в один прекрасный день явился молодой присяжный поверенный, и от имени своей доверительницы девицы Федосии Васильевны Вязковой предложил вступить с ним в переговоры, грозя в противном случае возбудить против Китайкина уголовное преследование за совращение в раскол несовершеннолетней.
Евтихий Созонтович был поражен. Уголовного дела он не боялся, но его глубоко оскорбило поведение своей названной дочери.
— Слушай, ваше благородие, — степенно заметил он адвокату, молодому человеку, по-видимому, еще мало знакомому с практикою, — бояться я вашего иска не боюсь, денег платить вам не буду, а дам тебе, не отрекаюсь, малую толику, чтобы ты не даром сюда приезжал, если скажешь ты мне напрямик, по чистой совести, кто тебя сюда послал, дочь ли моя названная, али кто другой?
Молодой человек разгорячился, отвечал резкостью, но в конце концов под ловкими вопросами старого фабриканта, невольно проговорился, что он приехал сюда по желанию Хрустальниковой.
— Вот за это спасибо, — вздохнул свободно Китайкин, — моей душе стало легче, когда я узнал, что в этом деле Феничка неповинна.
И вручил адвокату пятьсот рублей и требуемый паспорт для Фени.
Как и ожидал Евтихий Созонтович, уголовное дело оказалось вздором.
Прошел год. Сила Парфеныч получил первое письмо от жены. Оно было не совсем для него понятно. Феня писала, что она предполагает приехать в городок пожить некоторое время, — не будет ли он против? Полушкин ничего на него не ответил: через два месяца последовало второе, — оно уже было яснее. Феня сообщала мужу о готовности вернуться к нему жить.
Со стороны Силы снова последовало молчание. Третье письмо, явившееся еще через месяц, явно говорило об отчаянии, которое овладело молодой женщиной. Мимолетная страсть, каприз богатого человека, к ней миновала, — Зимин ее бросил, хотя и наградил небольшими деньгами. Опыты сценической карьеры не удались, — у дебютантки не оказалось ни иоты драматического дарования. Пробовала она служить продавщицею в магазинах по рекомендации своих прежних друзей Хрустальниковой и Львовского, но здесь ей сильно мешала ее красота. Много приходилось ей выстрадать за нее и теперь она стояла на распутье, не зная, что предпринять. Выбора не было, дорога поката...
«Помогите, спасите!» — так и читалось в каждой фразе ее письма. Но и это письмо разделило участь двух первых. Сила Парфеныч с каким-то самодовольно-злорадным видом разорвал его на мелкие клочки и выкинул за окно. Ни об одном из этих писем он не сообщил Китайкину.
— Что об этом толковать, дело прошлое, — сказал он сам себе, и вместо того, чтобы поспешить к ней на помощь, поторопился сам жениться на дочери одного из купцов. Чтобы на этот раз брак был действительным, Полушкин обвенчался в православной церкви.

Для Фени были сожжены все корабли. Не получив ответа на свое последнее письмо, она явилась в городок и узнала о новой женитьбе своего мужа.
К Китайкину в Горстеневское Феня не поехала, — она робела встретиться с Евтихием Созонтовичем после истории с уголовным делом. Матери ее, старой побирушки, уже не было в живых. Перегудовы были в отъезде, и молодой женщине ничего не оставалось, как вернуться в Москву.
Прошло еще три года. Городок все больше и больше умирал. Пароходы, как и раньше, бороздили Волгу по всем направлениям. Жизнь, проявлявшаяся во время весны и лета, снова с первыми льдинами на реке замирала. Интересы по-прежнему были чисто местные. Интересовались новыми словопрениями Федоса с сектантами или старообрядцами, обсуждали назначение нового почтмейстера и т.п. Вести внешнего мира приходили сюда значительно позднее и встречали здесь очень слабый отклик.


Миновала зима, открылись реки, снова засновали пароходы по Волге. Опять, как и три года назад, зазеленел перегудовский сад. Где-то за мудрецовским домом в кустах страстно томительно запел соловей. Ожила вся природа; зашумели грачи, закачался орешник над оврагом. Один только мудрецовский дом по-прежнему хмуро глядел своим фасадом с отбитою штукатуркою. Уже вечерело, когда чета Перегудовых и, частый за последнее время их посетитель, Федос Алексеев, сидели на скамье в саду.
— И вот, мои милостивейшие господа, писали мне из города Москвы, матушки первопрестольной, — один там у меня благоприятель проживает, — что Евтихия Созонтовича воспитанница, Федосья Васильевна...
— Ну, знаем кто, — нетерпеливо прервала его Перегудова, — говори дальше.
Бывший начетчик сконфузился.
— Да я к примеру, чтобы вам понятнее. Ну, вот она за последнее время шибко себя нехорошо вела, допреж всего этого актеркой служила...
— А Евтихий Созонтович знает об этом? — спросил Виктор Семенович.
— Ну, кто ж ему про это рассказывать станет? Теперь же Федосья Васильевна одумалась, в сестры милосердия поступает, душу свою спасать надумала...
— Доброе дело, — серьезно заметил Перегудов.
— Вот так-то, милостивцы, — все на свете ничтожество. Ой, да никак скоро десять часов, а завтра мне в девять часов на собеседование поспешать надо, а допреж того и в церкви помолиться не мешает. Приютили вы меня на сегодняшнюю ночь, укажите, где и заснуть можно. Прощенья просим.
Виктор Семенович пошел проводить до приготовленной комнаты гостя, а Раиса Семеновна, кутаясь в широкую пелерину, осталась одна в саду.
Она задумалась о судьбе Фени и взглянула на бледное весеннее небо, точно отыскивая в нем разгадку мучившего ее вопроса. Где-то слабой полосой блеснула упавшая звездочка.
— Точно она, точно Феня! — прошептала про себя Перегудова.
В сад вернулся Виктор Семенович и сел рядом с женою.
— Ну, что ты скажешь, Рая, о бедняжке Феничке? — спросил он ласково жену, обнимая ее за талию.
— Я сейчас о ней подумала. Вон там скатилась звездочка, недолго ей пришлось посиять, покрасоваться, но все-таки...
Виктор Семенович вопросительно взглянул на жену.
— Все-таки... Sie hat gelebt und geliebet!*
* Она жила и любила (нем.).
— А мы, а мы, разве...
— Мы с тобой, мой милый Витя, уже забыли об этом... — с еле заметной иронией проговорила Раиса Владимировна.
Виктор Семенович нежно обнял ее и поцеловал.
А кругом весенняя жизнь, несмотря на поздний час, везде проявляла свою творческую деятельность — будила просыпающиеся силы матери-природы, подготовляя работу живительному светилу — солнцу.
Г.Т. Северцев (Полилов)
[От составителя]
Я не уверен, что дом и открытка, приведенные на заключительных страницах романа, относятся к нужным Грошевым. В Плёсе, как любезно указали мне сотрудники Плёсского краеведческого музея, был известен с 1875 г. крупный фабрикант П. Грошев, которому наследовал в начале 1900-х гг. К.М. Грошев. Возможно, капитальный дом на набережной принадлежал этой семье, а не тому мелкому лавочнику, каким предстаёт в «Развивателях» Полушкин. Пророкова в книге о Левитане описывает фотографию четы Грошевых-«Полушкиных», но, к сожалению, не публикует её. Неизвестно, где сейчас этот снимок и сохранился ли он до наших дней.
Плёсская фабрика Грошевых сгорела около 1917 года, а история, рассказанная Полиловым, продолжала жить.
В 1900-х годах Сергей Глаголь (С.С. Голоушев) собирал мемуары для книги о Левитане. Откликнувшаяся на его просьбу Кувшинникова упомянула и о плёсской истории: «Судьбе угодно было впутать нас в семейную драму одной симпатичной женщины-старообрядки. Мятущаяся ее душа изнывала под гнетом тяжелой семейной жизни, и, случайно познакомившись, она нашла в нас отклик многому из того, что бродило в ее душе. Невольно мы очень сдружились, и, когда у этой женщины созрело решение уйти из семьи, нам пришлось целыми часами обсуждать с ней разные подробности, как это сделать. Видеться приходилось тайком, по вечерам, и вот, бывало, я брожу с ней в подгорной рощице, а Левитан стережет нас на пригорке и в то же время любуется тихой зарей, догорающей над городом. Здесь он подметил и мотив "Золотого Плёса", который потом каждое утро стал писать, пополняя запас впечатлений своими наблюдениями по вечерам...» (Цит. по: http://www.art-catalog.ru/opinion_list.php?id_people_who=31)
Скорее всего, этот пассаж, а не сожженная книга Полилова вдохновили фантазию двух советских писателей:
Конст. Паустовский. Исаак Левитан. Повесть о художнике. 1937: «Каждый день приносил трогательные неожиданности — то подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак, то дети, подталкивая друг друга в спину, попросятся, чтобы их нарисовать, потом прыснут от смеха и разбегутся, то придет тайком молодая соседка-староверка и будет певуче жаловаться на свою тяжелую долю. Ее Левитан прозвал Катериной из "Грозы" Островского. Он решил вместе с Кувшинниковой помочь Катерине бежать из Плеса, от постылой семьи. Бегство обсуждалось в роще за городом. Кувшинникова шепталась с Катериной, а Левитан лежал на краю рощи и предупреждал женщин об опасности тихим свистом. Катерине удалось бежать». (Цит. по: http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=3651&page=15).
Иван Евдокимов. Левитан. Повесть. М., Советский писатель, 1959: «В Плёсе к Исааку Ильичу не только привыкли, но у него завязались хорошие отношения с разными людьми. Он подружился с одной красивой женщиной-старообрядкой. Семейная жизнь ее была ужасная. Женщина искала выхода и не находила его. Одинокая, беззащитная, она в отчаянии выходила на волжский берег. От смертного шага ее удерживали какие-то последние привязанности к миру. Они окрепли после знакомства с художниками. Она решила уйти из семьи. Подробности этого ухода, редкого в то суровое и варварское время, в патриархальном домостроевском городке, обсуждались подолгу, часами. Встречались по вечерам, чтобы ничей чужой глаз не заметил, не повредил задуманному делу. Софья Петровна поджидала старообрядку в подгородной роще, куда прибегала возбужденная, оглядывающаяся на свой след женщина. Левитан стерег их на пригорке, внимательно осматривая окрестности, чтобы не пропустить опасного соглядатая, почуявшего неладное в тихом и рабском своем Плёсе. Левитан был доволен, когда наконец удалось счастливое бегство из Плёса молодой мятежницы». (Цит. по: http://moshkow.cherepovets.ru/cgi-bin/html-KOI.pl/MEMUARY/ZHZL/lewitan.txt).
Отталкиваясь от воспоминаний Кувшинниковой и того, что сообщила о «Развивателях» Пророкова, ушла в совсем свободный полет и Елена Арсеньева, автор интернет-повести «Амазонки и вечный покой (Исаак Левитан — Софья Кувшинникова)»:
«Это случилось все в том же обожаемом Плёсе. Как всегда, Левитан снял полдома у купца Грошева, который жил вместе с матерью, угрюмой староверкой. Ее фанатизм мирно уживался с неистовой жадностью, именно поэтому она позволяла сыну сдавать жилье «нехристю». Деньги приходилось платить большие. Но дом и в самом деле был хорош, а потому Левитан не скупился.
На сей раз художников встретили у Грошовых самые серьезные перемены. Купец женился! Новобрачной оказалась воспитанница богатого заводчика из соседнего поселка. Звали ее Анна Александровна. Она была не бог весть как хороша, но мила, немножко образованна и безумно любила читать. Молодая хозяйка с восторгом встретила приезжих.
Софья Петровна мигом вызвала ее на откровенность и скоро узнала, что муж-то достался Анне милый и добрый, сильно в нее влюблен, да только слаб он, а свекровь так и норовит сжить ее со свету: книги для нее — дьявольское наваждение, что Анна ни скажет, как ни ступит — все не так. Мужу лишь бы в молельне лоб отбивать перед иконами, а постель супружеская, полное ощущение, грешное для него место. Ну а ежели когда сладится ночью меж супругами доброе, так наутро свекровь щипками сноху изведет, испилит попреками, изожжет ненавидящими взглядами. Словом, как ни боялась Анна прогневить бога, а лучше, казалось ей, в омут, чем за таким мужем жить.
<...> Любопытная штука — мемуары! Особенно мемуары Софьи Кувшинниковой. Они были написаны гораздо позднее смерти Левитана — в то время, когда его уже не с кем было делить, не к кому ревновать. Она не повторила ошибки многих отставных любовниц великих и знаменитых людей, не уподобилась глупеньким дамочкам, которые поливают грязью «коварных изменщиков», заодно выставляя себя мстительными дурами. Напротив, она представила себя в роли все понимающей, всему сочувствующей подруги, наставницы блистательного художника, который плохо ориентировался в бурном море человеческих отношений, а выплывать ему удавалось, только имея под боком такого дивного лоцмана, как бесценная Софья Петровна.
Разумно. Но, пожалуй, далековато от действительности.
В подгородной же рощице бродили Левитан с Анной. А Софья Петровна и приехавший в Плёс ее знакомец и ухажер Савва Морозов (тот самый, будущий знаменитый миллионщик) стерегли их на пригорке, в то же время делая вид, будто амурничают.
То есть Савва Тимофеевич по правде амурничал, поскольку был к Софье весьма неравнодушен. Его, заметим, вообще несказанно влекло к стервозным женщинам, и ярчайшее доказательство тому — его собственный брак, а главное — сгубивший его жизнь роман с агентессой большевиков Марией Андреевой, актрисой труппы Станиславского и «морганатической» супругой Максима Горького. Да, так вот Морозов действительно ухаживал за своей спутницей. Софья же только и делала, что пыталась поймать чутким ухом отголоски бесед Левитана и Анны Александровны.
А эти двое беспрестанно говорили, говорили, поверяя друг другу свои уныния, и в конце концов им стало казаться, будто никто на свете их обоих так не понимает, как они друг друга. Ну, для Анны Александровны внимательный, душевный мужчина — это и впрямь было открытие великое, но, по мнению Софьи, вести себя так Левитану — значило предавать их любовь... Очень скоро ей стало ясно, что Анна Александровна хочет не столько «уйти из семьи», сколько создать новую. С кем, спросите вы? Не так уж трудно догадаться. Хотя, с точки зрения тех допотопных времен, брачный союз староверки и иудея представлялся чем-то вовсе несообразным. Но если он тем не менее забрезжил на горизонте, то сие свидетельствует прежде всего о том, что все на свете относительно, в том числе и религиозно-национально-расовые барьеры. Тем паче когда в дело вмешивается любовь!
Всем существом своим Софья Петровна понимала: у Левитана это мимолетное увлечение! Да, бывало с ним такое — этому вечному юнцу, который больше всего на свете любил прятаться под крылышками взрослых подруг, вдруг хотелось ощутить себя могучим и грозным мужем, который любую беду руками разведет, вскочит на лихого скакуна, посадит впереди себя юную и нежную... Ну и так далее. А ведь он верхом-то ездить не умел! Больше всего на свете Софье Петровне теперь хотелось, чтобы муж Анны Александровны пронюхал о ждущем его позоре и посадил бы свою кралю в подвал на цепь. Но тот был слеп и глух, все молился да молился, а матушка его, у которой глаза были даже на затылке, а нюх получше, чем у борзой, к несчастью, отбыла куда-то в глушь заволжскую, к родне. Таким образом, помешать намеченному бегству Софья Петровна не могла. Отменить затеянное не могла тоже, потому что это означало бы, как говорят японцы, потерять лицо. Гордыню свою, честь и репутацию Софья Петровна лелеяла почище любого самурая, а потому приходилось идти скользким путем до конца, уповая лишь на то, что играть роль благодетеля и спасителя зачарованной красавицы Левитану вскоре надоест.
Между прочим, так в конце концов и случилось. Может быть, потому, что Анна Александровна была вовсе никакая не красавица? Судя по оставшемуся ее портрету работы Левитана (сделан углем, кое-где подцвечен сангиной и называется «Женский портрет»), она обладал невыразительным, хотя и милым личиком, довольно смелыми глазами, но ни в какой мере не вкусом и умением одеваться.
Короче говоря, бегство все же состоялось. Из Плёса уезжали парами: Морозов с Анной Александровной, а Софья — с Левитаном. Добрались до Москвы — и тут пути их разошлись. Морозов дал Анне кое-каких денег и даже попытался пристроить ее к работе на своих фабриках, ну а Левитан начисто забыл о ней, потому что надо было писать с этюдов картины, готовиться к выставке и поездке в Париж и в Рим, где ему был поручено Сергеем Третьяковым (в отличие от брата он собирал только картины западных художников) сделать несколько копий Коро.
Когда Левитан вернулся, Софья Петровна готовилась плечами пожимать в ответ на вопросы о судьбе Анны Грошевой. Однако напрягать мышцы не пришлось: Левитан не спросил о беглянке ни разу.
Может быть, кому-то такое положение вещей покажется странным, однако многие друзья художника отлично знали это его свойство: сильно перестрадав некую ситуацию, начисто забыть о ней, сбросить ее в какие-то бездны или завалы памяти. Выкинуть вон из своей жизни, стереть все ее следы в своем сердце.
Нужно было жить дальше, работать — ведь именно работа была самым главным в его жизни! Так что Анна Грошева канула бы в Лету вовсе навсегда, когда бы не вышедший в 1903 году (уже после смерти Левитана) роман под названием «Развиватели». Написал его писатель по фамилии Северцев-Полилов, чье имя и творчество — совершенно белое пятно для современного читателя.
Бог бы с ним, с никому по-настоящему не известным писателем, однако в его романе рассказывалась история похищения Анны Грошевой. Выглядела она, вообще говоря, удивительно правдоподобно, несмотря на то, что все действующие лица скрывались под псевдонимами.
Псевдонимы, однако, выглядели более чем прозрачными: Левитан звался Львовским. Кувшинникова — Хрустальниковой, Морозов — Зиминым, Грошевы — Полушкиными... Уже самим этим ироническим названием — «Развиватели» — автор обвинял художников в ложном просветительстве и в том, что они подговорили Грошеву бежать, а потом бросили бедную женщину на произвол судьбы. Но, как теперь принято выражаться, всякие совпадения с действительностью носят случайный характер...» (http://www.litportal.ru/genre19/author40/read/page/2/book25676.html).
После этой лирической галиматьи трогательным кажется сообщение о том, что зимой 2007/2008 годов в Плёсе традиционная новогодняя ролевая игра-приключение (квест) носила название «Код Левитана» и была посвящена... нашему роману (!): «В 1904 году романист Северцев-Полилов издал книжку «Развиватели» о взаимоотношениях Левитана, Кувшинниковой и богатейших плёсских купцов, но весь тираж книги бесследно исчез, и сегодня ни одного экземпляра не найти даже в библиотеке Конгресса США» (http://www.plios. ru/ru/index/newyear_2009/programSS/).
На этом, пожалуй, закончим с «Развивателями». Но не с полиловским Плёсом...

* Спажинки (спожинки) — пост перед днем успения (15 августа) (Б. Эйхенбаум. Цит. по: http://www.rvb.ru/leskov/02comm/005.htm).
** Палочка, для упорки руки с кистью живописца (Даль).
Источник: Развиватели: Роман, рассказы / [Сост., примеч. и коммент. Е.Б. Шиховцева]. — Кострома: Инфопресс, 2009. — С. 71–211.
Публикация А.В. Соловьёвой.