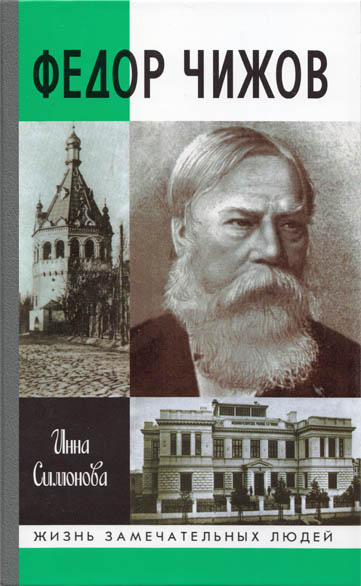
Федор Чижов
Инна Анатольевна Симонова
И. А. Симонова
Федор Чижов
Светлой памяти моего отца Анатолия Федоровича Симонова посвящается эта книга
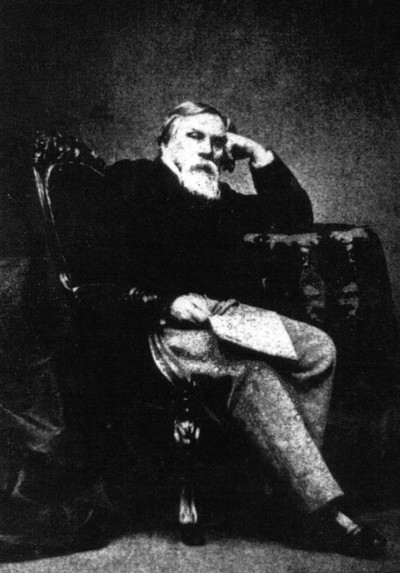

К ЧИТАТЕЛЮ
Сколь великим наделен ты от Бога богатством, столь много и даже больше того ты должен отдать.«Наставление богатым». Из Изборника 1076 года
Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо.В. О. Ключевский
При жизни все мы имеем свои слабости и свои достоинства. Разве что мера их не одинакова. Но проходит время — и от одного остается тлен, а от другого — дела.
История России богата деятелями. Правда, так уж повелось, что расточительные потомки не всегда оказываются благодарными наследниками и часто предают забвению тех, кто своими делами приумножил славу отечества. Оттого круг людей замечательных, имена которых на слуху, обычно ограничен. Чаще всего повторяются одни и те же имена. Заслуженные, но одни и те же. Справедливость же требует восстановления памяти всех, кто этого достоин…
Имя Федора Васильевича Чижова гремело при жизни, но впоследствии несправедливо забыто. О Чижове вспоминают в основном лишь в связи с именами Александра Иванова, Гоголя, Языкова, Поленова, Саввы Мамонтова, в судьбах которых он сыграл благотворную, а подчас и спасительную роль. Вместе с тем это была выдающаяся личность в истории России XIX века — талантливый публицист, издатель, ученый-математик, искусствовед, крупный промышленник, финансист, благотворитель. Будучи по убеждениям своим славянофилом, он принимал непосредственное участие в выработке славянофильского идеала будущего устройства Российского государства и отстаивал его в спорах с западниками в московских гостиных и литературно-философских салонах, на страницах книг и периодических печатных органов, пытался повлиять на принятие государственных решений в записках на имя Царя.
Формирование идейно-теоретических позиций славянофилов приходится на вторую четверть XIX века — время кризиса и распада крепостной системы, вызревания в ее недрах новых, капиталистических отношений, обострения общественно-политической борьбы в стране. Прежде чем сойтись в единстве взглядов по основным вопросам, касающимся прошлого, настоящего и будущего России, каждый член славянофильского кружка прошел свой, индивидуальный путь мировоззренческой эволюции, но едва ли не одним из наиболее своеобразных становление славянофильских убеждений было у Чижова.
Многие — славянофилы принадлежали к родовитому дворянству и с юношеских лет были соединены дружескими и родственными узами. Их родители, располагавшие достаточными средствами, дали им хорошее домашнее образование, завершившееся учебой на гуманитарных факультетах Московского университета. Чижов же, по словам Ивана Сергеевича Аксакова, «примкнул к этому кругу уже вполне созревшим — путем самобытного развития дойдя до полного тождества в главных основаниях и воззрениях»[1].
Славянофилов можно по праву назвать энциклопедистами за их основательную образованность и эрудицию. И все же каждый из них, исходя из своих склонностей, развивал определенную часть славянофильского учения. Для Хомякова это была философия, для Константина Аксакова и Самарина — история, для Ивана Киреевского — богословие и литературоведение, для Ивана Аксакова — право и социология.
Чижов рассматривал славянофильство как систему взглядов, призванную практически решать стоящие перед Россией проблемы. При всем многообразии и разносторонности знаний и занятий для него была характерна экономическая направленность интересов: в течение всей жизни он был поглощен перспективами приложения достижений научной и технической мысли к нуждам отечества[2].
Он выступал в печати с протекционистских позиций укрепления промышленности и последовательно подтверждал эти принципы собственной предпринимательской деятельностью. Своим энтузиазмом он будоражил общественное мнение. Его настойчивая, сильная воля звала за собой, опровергая дошедший до наших дней миф об утопичности, маниловщине славянофильской доктрины. Именно таких, как Чижов, имел в виду И. С. Аксаков, когда говорил: «… Убеждения наши (то есть славянофилов. — И. С.) — удел не одних людей отвлеченных, мечтателей и поэтов, но и людей, признаваемых практическими»[3].
Неординарность личности Федора Васильевича привлекала внимание его современников. Но они с сожалением вынуждены были констатировать, что «подробная и тщательная» биография Чижова, которая могла бы стать назидательным чтением для молодого поколения, невозможна в настоящее время[4]. Дело в том, что богатейший его архив (дневники, которые Чижов вел с 14 лет до последнего дня своей жизни, обширный комплекс частной, деловой и официальной переписки, материалы служебной и общественной деятельности — всего 2680 единиц хранения, или 20 тысяч листов) был передан в 1877 году, согласно завещанию, в Рукописное отделение Московского Публичного и Румянцевского музеев с условием, чтобы он оставался закрытым для обработки и научного исследования в течение сорока лет после смерти его владельца. Знаменательно, что по странному совпадению срок этот истек в ноябре 1917 года, когда стране было уже не до «Чижовых»…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Самая высокая услуга миру состоит не в преобразовании мира, а в исправлении и преобразовании себя.Ф. В. Чижов
Глава первая
ИСТОКИ
В начале XIX века древняя Кострома была одним из красивейших городов на Волге. Множество златоглавых церквей, одно- и двухэтажных деревянных домов с кружевной резьбой наличников и каменных — с ажурными коваными козырьками над входом, террасами спускались к реке. Вдали, сквозь серебристый частокол судовых мачт, виднелся Ипатьевский монастырь. За его строгой оградой с угловыми башнями, крытыми черепицей, двести лет назад, в самый разгар Смуты, юный костромской боярин Михаил Феодорович Романов, избавленный от погибели крестьянином Иваном Сусаниным, старостой его родовой вотчины Домнино, склонился на мольбы послов Всероссийского собора и принял Скипетр и Державу разоренного Московского царства.
Вскоре после изгнания польско-литовских захватчиков Кострома по своему экономическому значению стала в ряд с такими городами, как Москва и Ярославль. Посольство англичан учредило здесь свою факторию. Костромские купцы напрямую торговали с Востоком и Западом. В Гостином дворе: в мучных, мясных, рыбных, соляных, калашных, молочных рядах — шла бойкая продажа товаров оптом и в розницу.
После того как Екатерина Великая даровала Костроме статус губернского города, строительство в нем стало вестись строго по генеральному плану, утвержденному в Санкт-Петербурге. В городе работали пять суконных фабрик, производивших наибольшее количество тканого полотна в России, восемнадцать кирпичных заводов, колокололитейный завод и завод по производству изразцов.
27 февраля (11 марта по новому стилю) 1811 года в этом промышленном и торговом центре Заволжья родился Федор Васильевич Чижов. Детство его прошло рядом с Богоявленским мужским монастырем, основанным еще в начале XV века старцем Никитою, родственником и учеником преподобного Сергия Радонежского. На протяжении столетий обитель поддерживалась поминальными вкладами царей, князей и бояр, жаловавших ей села, деревни, леса, рыбные ловли. Здесь находились усыпальницы ближайших родичей Великого князя московского Василия Темного, бояр Хованских, Салтыковых.
Уклад в доме Чижовых был патриархальным, дети воспитывались в строгости и почитании родителей, на примерах христианских добродетелей. Глава семьи Василий Васильевич Чижов был выходцем из духовного сословия. За его плечами была учеба сначала в Калужской духовной семинарии, затем в Троице-Сергиевой лавре. Однако священнический сан он не принял, а отправился в Санкт-Петербург и завершил там свое образование в Училищной гимназии, которая впоследствии была преобразована в Педагогический институт.
В 1786 году Василий Васильевич начал преподавательскую деятельность в Главном народном училище Костромы, в 1804 году получившем статус губернской гимназии. Одно время ее директором был один из просвещеннейших людей России Николай Федорович Грамматин, поэт и филолог, первый исследователь и переводчик «Слова о полку Игореве».
В гимназии Василий Васильевич читал курс «истории с включением мифологии и древностей, географии, статистики, начал философии» и, кроме того, заведовал библиотекой. Не был чужд Чижов-старший и научной работе — по просьбе Совета Московского университета он составлял статистические описания Костромской губернии и Костромского уезда, а досуг посвящал стихотворству и каждодневным метеорологическим наблюдениям. Будучи человеком очень набожным, он изучал богословские труды, водил дружбу со многими церковными иерархами и состоял членом Библейского общества.
Своим ученикам Василий Васильевич прививал мысль о том, что связь с воспитавшим их учебным заведением никогда не должна прерываться. Оно дало им не только знания, но и нравственные силы, и употребить их должно на благо отечества, для просвещения и образования всех слоев русского общества, в том числе беднейших и неимущих.

Дореволюционный план г. Костромы. Дом Чижовых находился в начале Старо-Троицкой улицы, у Богоявленского монастыря.
В начале XX века костромскому энтузиасту-краеведу, преподавательнице Нерехтской женской гимназии Александре Николаевне Прохоровой довелось знать одного из учеников Василия Васильевича Чижова, дряхлого старика, отставного офицера Ф. Т. Логинова, жизнь которого была полна лишений. Тем не менее он, выполняя завет своего учителя, умудрялся выкраивать из скудной пенсии кое-какие средства, чтобы оставить их гимназии, его воспитавшей[5].
Мать Чижова, Ульяна Дмитриевна, в девичестве Иванова, слыла женщиной весьма образованной. Дочь обедневшего дворянина, она владела в селе Градылеве Кологривского уезда Костромской губернии всего одним двором и тремя душами крепостных крестьян: «двумя — мужеска полу и одной — женска»[6]. Так что достойные женихи не особо спешили вести ее под венец. К тому же Бог не дал ей красоты.
История скрепления брачного союза между Василием Васильевичем и Ульяной Дмитриевной удивительным образом напоминает ветхозаветный рассказ из Книги Бытия о женитьбе патриарха Иакова: его дядя Лаван коварно подменил, выдавая замуж, свою младшую дочь красавицу Рахиль на старшую — Лию. В дальнейшем этот простодушный сюжет будет многократно использован в провинциальных водевилях и комедиях положений. Но чтобы повториться в реальной жизни?..
Василию Васильевичу нравилась кузина Ульяны Дмитриевны, ее тезка, очень привлекательная особа. Понимая, что для него, недворянина, да к тому же без достаточного состояния, брак с предметом его грез будет мезальянсом, он все же отважился просить руки надменной красавицы и был польщен, получив неожиданное согласие. В церкви невеста была под густой фатой. Ужас объял бедного Василия Васильевича, когда после совершения обряда венчания он трепетной рукой поднял над лицом новобрачной вуаль и оказалось, что обвенчался-то он вовсе не с прелестной Улинькой, а с ее родственницей, к которой не питал никаких возвышенных чувств. Но что сделано, то сделано. Освященные Церковью брачные узы нерушимы, и Василию Васильевичу ничего не оставалось, как смириться.
В отличие от мужа, сентиментального и несколько конфузливого, Ульяна Дмитриевна оказалась женщиной строгой, властной, с характером. Воспитание она получила в доме дальних родственников по линии матери — графов Толстых: генерал-майора Ивана Андреевича, внука славного сподвижника Петра Великого, начальника его Тайной канцелярии и члена Верховного тайного совета, и богатой кологривской помещицы Анны Федоровны, урожденной Майковой, к роду которой принадлежал чтимый русский святой Нил Сорский, живший в конце XV — начале XVI века.
О старшем сыне Толстых, Федоре Ивановиче, стоит рассказать особо. Это был незаурядный и много знающий человек, добрый и храбрый. Его жизнь изобиловала многочисленными — порой скандальными, порой курьезными — происшествиями, в которых трудно отличить быль от небылицы.
Ф. И. Толстой вошел в историю под прозвищем Американец. Дело в том, что будучи участником кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Н. П. Резанова на фрегате «Надежда», он был высажен за ряд экстравагантных поступков на Алеутских островах и довольно долго прожил там среди туземцев. Вернувшись спустя два года на попутном транспорте (а частью и пешком!) через всю Сибирь в Европейскую Россию, он стал демонстративно одеваться по-алеутски, развесил по стенам своего дома оружие и орудия индейцев, которые обитали по соседству с принадлежавшими России американскими колониями, и в компании друзей утверждал, что тамошнее племя «колоши», в котором он татуировался с головы до ног, предлагало ему стать их царем.
Авантюрист, бретёр и карточный игрок, имевший, по свидетельству современников, скверную привычку «исправлять ошибки фортуны», Толстой-Американец был отважен на поле брани. Участвуя в войне со Швецией, он отличился в битве при Иденсальме. Разведывательные донесения, добытые благодаря его бесстрашию, позволили армии Барклая де Толли перейти Ботнический залив и занять принадлежавшую шведам Вестерботнию, что побудило противника спешно запросить мира. В войну 1812 года он записался в Московское ополчение простым ратником, участвовал в сражении под Бородиным в числе стрелков при 26-й дивизии и получил серьезное ранение в ногу. «На память дня того Георгий украсил боевую грудь» Толстого-Американца, и по ходатайству генерала Ермолова он был произведен в полковники.
Его называли своим другом князь П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов, К. Н. Батюшков. На свадьбе у А. С. Пушкина он был «сватом». Его колоритная фигура послужила прототипом Зарецкого, секунданта Ленского в «Евгении Онегине». А. С. Грибоедов запечатлел его образ в неназванном в «Горе от ума» по имени, но узнаваемом современниками завсегдатае московского Английского клуба: «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом». Л. Н. Толстой списал с него графа Турбина из повести «Два гусара».
Войдя в лета, особенно после женитьбы на певице из цыганского табора Авдотье Максимовне Тугаевой, Толстой-Американец остепенился, стал надолго уезжать в кологривское имение матери, и, подобно Зарецкому, превратился в «мирного помещика», рачительного мужа, умело ведущего дела не только своего хозяйства, но и друзей-соседей.
… Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций,
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей[7].
Он много читал, истово исполнял церковные обряды. Его угнетали воспоминания о бурной, грешной молодости.
Жена родила ему двенадцать детей, из которых одиннадцать умерли, едва появившись на свет. Видя в этом перст Божий, безутешный отец после смерти очередного ребенка вычеркивал из списка одиннадцати убитых им на дуэлях противников имя очередной своей жертвы. Когда число умерших детей и количество погубленных им на поединках жизней сравнялось, он пометил на полях своего синодика: «квит». И действительно, двенадцатый ребенок Толстого-Американца, дочь Прасковья, «курчавый цыганенок», прожила долго, став женой московского губернатора В. С. Перфильева.
Находясь в начале 1811 года в своем кологривском поместье Костромской губернии, Федор Иванович Толстой вызвался стать крестным отцом сына Василия Васильевича и Ульяны Дмитриевны Чижовых. Толстой-Американец знал мать новорожденного с младенчества — она была подругой многих его бесшабашных детских игр. Польщенные родители нарекли сына Федором в честь именитого восприемника от купели. Несомненно, слышанные «с пеленок» рассказы о самых невероятных приключениях Толстого-Американца не могли не запомниться крестнику, и такие черты характера Федора Ивановича, как широта натуры, тяга к путешествиям, предприимчивость, смелость, жизненная активность, остроумие и оптимизм, неизменно восхищали мальчика и формировали его характер.
Брат матери Иван Дмитриевич Иванов выбрал военную карьеру, стал офицером, участвовал во второй Русско-турецкой войне, в том числе в знаменитом штурме Измаила. Он командовал батальоном в битвах при Кремсе и Аустерлице, отличился в походе 1812 года, в боях под Кобрином, был тяжело ранен в последней схватке с французами на русской земле — у реки Березины близ Борисова, через год снова встал в строй и геройски погиб в Русско-турецкую войну 1828 года в чине генерал-лейтенанта 19-й пехотной дивизии от смертельного ранения, полученного при осаде крепости Шумлы.
С юных лет Федя Чижов гордился ратными подвигами своего дяди, носителя суворовских и кутузовских традиций русской боевой школы, «многих орденов кавалера». Когда Иван Дмитриевич бывал, что называется, «при параде», в генеральской форме со всеми знаками отличий, — дух захватывало. Среди его наград были золотой крест «За Измаил», золотой крест «За Прагу», анненское оружие «За храбрость», орден Святого Владимира IV степени, орден Святой Анны II степени, орден Святой Анны II степени с алмазами, орден Святого Владимира III степени, золотое Георгиевское оружие «За храбрость», орден Святого Георгия III степени, орден Святой Анны I степени, орден Святого Владимира II степени и иностранные ордена: французский орден Почетного Легиона II степени и баденский — Церингенского Льва, — а также многочисленные медали и нагрудные знаки, в том числе серебряная медаль в память 1812 года и взятия Парижа. Чижов смутно помнил, как двух-, трехлетним мальцом долгими часами стоял перед иконой Богородицы вместе с бабушкой Катериной Ивановной, которая со слезами молилась о спасении сына-воина, и старательно, как мог, повторял за ней слова акафиста.
Осанистый седовласый генерал являл собой живую историю страны. Только что отстоявшая свою независимость, воодушевленная победой над Наполеоном, Россия переживала эмоциональный подъем, вызвавший небывалый рост национального самосознания. Во время непродолжительных передышек между военными кампаниями Иван Дмитриевич принимал участие в воспитании детей сестры и был для них признанным авторитетом и кумиром (его собственная дочь от брака с полькой Юзефой Федоровной, урожденной Сенковской, умерла в раннем отрочестве).
К сожалению, среди 332 портретов русских генералов, участников боевых действий против французов в 1812–1814 годах, помещенных в знаменитой Военной галерее Зимнего дворца, мы не найдем портрета Ивана Дмитриевича Иванова. Есть только багетная рама, задрапированная зеленым репсом, и под ней медная табличка с его годами жизни и смерти. Дело в том, что на момент торжественного открытия галереи в конце 1826 года Иван Дмитриевич был в действующей армии и на призыв Генерального штаба явиться в Петербург для портретного позирования не откликнулся. Как и двенадцать других генералов, по причинам служебной занятости, отдаленности от столицы, материальной нужды, нездоровья не нашедших возможности предстать перед выписанным из Англии художником Джорджем Доу и его двумя русскими помощниками, молодыми живописцами Александром Поляковым и Василием Голике. Тщетно, уже в 30-е годы, ездил Федор Васильевич Чижов в Умань, к своей тетке, вдове генерала, в надежде найти хоть какое-нибудь изображение прославленного родственника, с которого можно было бы написать портрет. Но, увы! Один из храбрейших людей своего времени, генерал Иванов ушел из жизни, оставив по себе память воинской доблестью на полях сражений и посчитав излишним запечатлеть свой образ для потомков на холсте кистью художника…
Но вернемся в Костромскую губернию рубежа 10–20-х годов XIX века.
«… В самых младенческих летах… меня баловали до крайности, — вспоминал „с высоты прожитых лет“ семнадцатилетний гимназист Чижов, придирчиво предаваясь критическому самоанализу. — До трех лет я жил у бабушки, которая меня любила до безумия, любила более всех внуков, и сиею-то самою любовью довольно испортила мой характер, от природы пылкий и властолюбивый. Привыкши видеть в деревне ее, находящейся близ Галича, всё мне повинующимся, всё исполняющим мои малейшие желания, мне весьма было не приятно, когда я на четвертом году приехал к маминьке и папиньке в Кострому и обнаружил, что здесь не исполняют всех моих прихотей. К несчастию, мой брат, старший меня одним годом, был совершенно противоположного характера… Я всякий день видел, что его любят папинька и маминька гораздо более, нежели меня. Он имел прекрасные дарования (в коих и я не имел недостатка) и вместе с тем начал учиться прежде меня, а посему и превзошел меня в умениях. Может быть, сие его превосходство и отдаваемое ему преимущество были основанием моего довольно угрюмого характера… Как во сне помню смерть своего брата. Тогда мне было лет пять, кроме него остались еще у меня сестры (кои тоже в непродолжительное время умерли), но, будучи весьма малы, они не могли мне сотовариществовать, и я остался совершенно один во всех моих занятиях и во всех удовольствиях»[8].
В дальнейшем у Федора появились еще три сестры, намного его младше: Александра, Елена и Ольга. Семья Чижовых жила на Старо-Троицкой улице в собственном деревянном доме — одноэтажном с фасада и с антресолями со стороны двора. При доме был довольно порядочный участок земли. На нем усилиями отца Василия Васильевича было заведено небольшое полевое хозяйство, вырыт пруд, разбит сад, в котором произрастали цветы всевозможных диковинных сортов, а при нем еще и аптечный огород с лекарственными травами — «для помощи страждущим».
В целях пополнения скудного семейного бюджета содержали небольшой пансион из пяти-шести учеников, под который отвели часть дома и флигель. С одними из «пенсионеров» отец занимался сам, другие же только квартировали и столовались в доме Чижовых, получая образование в гимназии. Федор называл этих мальчиков «братцами», так как большинство из них (Перфильевы, Захаровы и другие) приходились Чижовым дальними родственниками. Особенно дружен он был с Васинькой Волтатисом: будучи одних лет, ребята вместе учились и даже спали на одной кровати целых шесть лет.
Мать Ульяна Дмитриевна, зная в совершенстве несколько иностранных языков, приохотила к ним и детей. В круг ее общения входили самые образованные дамы Костромы; среди них особо выделялись баронесса Шкотт и графиня Кромвель, которые принимали деятельное участие в становлении отечественного женского образования и основали первый на Волге частный пансион для девочек.
С детства маленький Федя был приучен относиться к чужим слабостям легко, а к своим — строго. Таковы были наставления матери. Она воспитала в нем привычку аккуратно исполнять поручения — как ее, так и отца, бабушки, сестер. Помимо учебы, Федя ходил за лошадьми, выдавал им овес, поливал в саду цветы, выпалывал грядки на огороде, помогал отцу делать ежедневные записи о состоянии погоды и фиксировать направление ветра.
В 1822 году Василий Васильевич Чижов за 35-летнюю беспорочную службу в должности учителя был произведен в коллежские асессоры и получил право на потомственное дворянство. Его род был внесен в третью часть Родословной книги Костромской губернии. Федору тогда едва минуло одиннадцать лет, но даже спустя годы он отчетливо помнил, как сознание того, что он дворянин, поселило в нем гордость, которую, впрочем, он никогда не выказывал[9].
От Министерства просвещения Василию Васильевичу была назначена пенсия в 600 рублей. Но безделье его тяготило. В 1823 году через своего бывшего ученика Н. П. Чичагова, сотрудника М. М. Сперанского (согласно другим сведениям, В. В. Чижову покровительствовал сам Аракчеев), он выхлопотал себе место в Петербурге по ведомству Министерства финансов, в Комиссии счетов и расчетов Отечественной войны 1812 года.
Радушно встреченный родственниками жены, он в скором времени получил в здании министерства на Фонтанке служебную квартиру и выписал к себе в столицу сына. Федор Васильевич вспоминал, что прямо с дороги отец повел его, неискушенного провинциала, пораженного величием и строгостью перспектив Северной Пальмиры, в Казанский собор, где они отслужили благодарственный молебен, а затем отправились к родным, для которых мать Ульяна Дмитриевна передала письма и немудреные гостинцы из собственного сада-огорода.
Образование, начатое в 1820 году в Костроме, юный Чижов продолжил на казенный кошт в Третьей петербургской гимназии. Василий Васильевич пристально следил за успехами сына, часто посещал его в гимназическом пансионе, брал к себе на праздники, и если оказывался доволен результатами учебы, дарил какую-нибудь обновку. Мальчик был не избалован и довольствовался всякою безделицею. Но особенно он был рад, когда получал в подарок книжную или журнальную новинку.
Нередко совершались и совместные прогулки по городу и окрестностям, о чем Василий Васильевич делал соответствующие записи в своем дневнике: «Любопытствовал с Федором с 28 по 31 (июня 1823 года. — И. С.) в Кронштадте. 29 — в Ораниенбауме. 30 и 31 — в Сергиевой пустыни. Возвратились в тот же день из достопримечательного Петергофа». В июле, с 18 по 22, отец и сын совершили вдвоем пешеходное путешествие из Петербурга в Царское Село и Павловск[10].
Спустя год в столицу переехала и старшая дочь Александра: она была принята в Смольный институт благородных девиц на иждивение императрицы Марии Федоровны — этому, вероятно, содействовал В. А. Жуковский, весьма близко знавший Василия Васильевича. Так некогда дружная семья оказалась разделенной между блестящим, вышколенным на западный манер чиновным Петербургом и по-русски широкой в своей размеренной жизни, старомодной купеческой Костромой.
Не единожды взысканный милостью Императора Александра Павловича и его ближайшего окружения, Василий Васильевич искренне скорбел, узнав о безвременной кончине в Таганроге Государя, и откликнулся на нее бесхитростными стихами:
Европа целая с Россией
В печальну горесть облеклись…
13 марта 1826 года он принял участие в траурной церемонии по августейшему усопшему, а также в последовавшей вслед за этим, 14 июня, похоронной процессии, шедшей за гробом его супруги Императрицы Елисаветы Алексеевны, скончавшейся в Белеве. Василий Васильевич получил особую благодарность от печальных комиссий и лично от молодого Императора Николая Павловича «за оказание последнего верноподданнического долга с похвальным усердием… при несении черного знамени с государственным гербом и знамени Удонского герба»[11]…
Говорят, нельзя старое дерево, свыкшееся с родной почвой, укоренившееся, пересаживать на новое место — зачахнет. Но Василий Васильевич, казалось, не замечал трудностей, сопряженных с налаживанием жизни на новом месте, он был полон самых радужных планов. Столичная жизнь со своими плюсами и минусами, близость ко Двору, влиятельные друзья в кругах высшей администрации, военных и духовенства, а главное — успехи в учебе двух старших детей, перед которыми открывались здесь блестящие перспективы, — все это вселяло в него чувство удовлетворения и подтверждало правильность сделанного в конце жизненного пути шага — переезда в Санкт-Петербург, город, где прошло несколько памятных лет и его юности.
Глава вторая
ГОДЫ ИСКАНИЙ
Еще в 1825 году четырнадцатилетний Чижов начинает вести дневник, в котором среди массы несущественных подробностей жизни петербургского гимназиста проскальзывают любопытные оценки общественных и политических событий в России того времени. Поначалу юноша, воспитанный в патриархальной простоте провинциальной жизни, на принципах законопослушания, выказывал исключительно охранительные суждения. Восстание декабристов он воспринял как бунт, произведенный «искавшими революции злодеями»: «Россияне сражались с единоплеменниками! Гвардейские солдаты били своих собратий — ужасный стыд для России!»
О Николае I, взошедшем на престол после смерти «всеми обожаемого Монарха Александра-Благословенного», Чижов говорил с откровенным восхищением: «Государь так деятелен, что нельзя описать. Во всё вникает как истинный хозяин, на всё обращает внимание, и ничего не может укрыться от проницательных взоров его».
Действительно, вникая буквально во всё, Николай Павлович сам допрашивал преступников, делал разводы караулам, являлся внезапно с проверкой в департаменты различных министерств… и однажды даже посетил — безо всякого предупреждения — гимназию, в которой учился Чижов.
В день Коронации Николая I иллюминация была трехдневная; при въезде Императора в Петербург «Невский проспект почти был весь в пламени, и радость народа была неописуемая, везде раздавались громогласные „ура!“».
При всем при том столичные нравы разительно контрастировали с привычной жизнью в родной Костроме, строго державшейся дедовских правил и обычаев, и рождали гамму сложных чувств, граничащих почти что с бунтарством. «Здесь все равно, что Страстная, что Святая неделя, — делился Федор своими впечатлениями с матерью Ульяной Дмитриевной, — здесь не почитают за непременный долг идти к заутрене в Светлое Воскресение, сидят часов до 12-ти или 2-х ночи в Страстную субботу за картами и проч., и не только сами не постятся, но даже смеются над тем, кто постится; впрочем, и здесь есть люди, которые еще похожи на древних русских, которые еще сохранили веру и посреди немцев, занимающих большую часть нашей столицы. Ах, сколь прискорбно смотреть на сих гордецов, по несчастию имеющих везде преимущество пред русскими. Вот я вам расскажу анекдот, который был при моих глазах. 15 августа, в день Коронации, Царская фамилия была в Казанском соборе. С бородами туда не пускают никого. Подходят два купца, довольно хорошо одетые, с небритыми бородами. Жандармы, толкая их, говорят: „Куда вы, бородачи, идёте, здесь вас не велено пускать!“ Тогда бедные купцы пошли прочь, и один из них сказал с горестию другому: „Пойдем отсюда, здесь, видно, лютеранская кирха, потому что русских не пускают, а пускают больше немцев“…»[12]
К этому времени отец юноши Василий Васильевич Чижов, затративший столько сил и энергии, чтобы обосноваться в Петербурге, вынужден был покинуть столицу. Комиссия счетов и расчетов войны 1812 года прекратила свою деятельность, и он был переведен в Екатеринославль членом Приказа общественного призрения. Сверх того, Чижову-старшему было поручено наблюдение за сельской промышленностью и казенными суконными фабриками края.
«Меня здесь несносная одолевает скука, — жаловался он в одном из писем к жене в Кострому. — Должность не занимает, потому что часто касаются моих ушей раздоры и несогласия членов Приказа. Надобно твердую иметь уверенность на генерал-губернатора, чтобы быть переведену на другую вакансию, если очистится; долго же быть на теперешней должности едва ли могу. Приказ доносами богат…»[13]
Тем не менее Василий Васильевич быстро вошел в курс дела, принялся заново писать инструкции, распределять обязанности среди подчиненных. Строго следя за тем, чтобы в подведомственных ему учреждениях были чистота и порядок, он ввел практику строгой отчетности, для чего обзавелся гроссбухами, куда требовал вносить приход и расход. Деньги, поступающие в виде пожертвований, он при свидетелях относил в казнохранилище и также при свидетелях, в случае надобности, вынимал.
А суммы жертвовались немалые. Так, одна екатеринославская благотворительница Куличенкова завещала десять тысяч рублей на нужды просвещения, причем половина процентов с них должна была пойти на образование дворянских детей, а половина — на воспитание детей бедных простолюдинов. Этот дар привел Василия Васильевича в восторг, и он не уставал повторять, что имя этой доброй женщины надобно внести в памятную книгу в назидание потомству.
При богадельнях и работных домах Чижов завел огороды, а при больнице — сад с лекарственными растениями, семена которых выписывал из Петербурга. В этом ему помогал Федор. Он собирал по просьбе отца сведения об аптекарских травах, пригодных к произрастанию в Екатеринославской губернии.
Местный губернатор Свечин, который, подобно Чижову, видел корень всех зол в невежестве народа, поддержал начинания прибывшего из столицы чиновника. Демократ в душе и сторонник прогресса, он теоретически разделял воззрения своего несколько экстравагантного подчиненного на необходимость введения всеобщего и бесплатного обучения, намного опережавшие свое время. Свечин также заинтересовался предложением Василия Васильевича безвозмездно предоставлять нуждающимся ученикам книги и учебные пособия из Приказа общественного призрения. Он даже представил Чижова вне очереди к следующему чину — коллежского советника.
Но вскоре Свечина сменил новый губернатор Донец-Захаржевский, с которым у Василия Васильевича обнаружилось резкое несогласие во мнениях. Прежде всего Донец-Захаржевскому показался оскорбительным наставительный тон бывшего педагога с 35-летним практическим стажем — и отношение губернской администрации к Чижову резко изменилось. В результате интриг его уволили с должности как человека «неблагонадежного, затрудняющего чиновников лишними и совершенно никому не нужными бумагами». Более того, его лишили учительской пенсии, получаемой по выслуге лет.
С горя Василий Васильевич упал духом, стал большую часть времени проводить в стенах городского монастыря, где находил утешение в молитве и в дружеском участии епископа Гавриила Екатеринославского, его старинного товарища еще по Калужской семинарии. Все чаще он стал подумывать о том, чтобы навсегда остаться в стенах обители. Однако Ульяна Дмитриевна настояла, чтобы муж вернулся в Кострому. К этому времени личных средств у него не осталось вовсе, и семье пришлось жить на иждивение Катерины Ивановны, тещи Василия Васильевича, которой Император Николай I пожаловал за заслуги ее сына, генерала, пенсию в три тысячи рублей.
Василий Васильевич был сломлен, но все еще не оставлял надежды на то, что Господь и Государь помогут очистить его доброе имя от наветов и он с женой и детьми трудами своими сможет прожить остаток дней. Без устали он бомбардировал сына письмами в надежде на то, что тот передаст их министру внутренних дел или другим влиятельным лицам. Искать правды было нелегко. Многостраничные послания Василия Васильевича были написаны в таком тоне, что определенно не могли вызвать симпатию у людей, стоявших у кормила власти. И Федор, боясь ухудшить положение отца, не передавал их, в чем честно признавался в конфиденциальных письмах к матери.
В последний год пребывания Чижова-младшего в гимназии под влиянием чтения бесцензурных произведений Радищева, Грибоедова, Рылеева им начинают овладевать оппозиционные настроения. Он увлекается Вольтером и с юношеской горячностью спорит с однокашниками и учителями по поводу религиозных догматов Православия.
Математические способности у юноши проявились довольно рано, поэтому поступление в Петербургский университет на физико-математический факультет было предопределено.
В годы, последовавшие за восстанием декабристов, большая роль в становлении свободолюбивых идеалов у молодежи принадлежала университетам. В них, по словам Герцена, словно «в общий резервуар, вливались юные силы России, со всех сторон, из всех слоев; в их залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны, во все слои её»[14].
С 1829 года значительную роль в идейном развитии Чижова начинает играть «святая пятница» — небольшой кружок студентов и выпускников Петербургского университета, собиравшихся по пятницам на квартире у будущего известного историка литературы, критика и цензора Александра Васильевича Никитенко. Заседания «святой пятницы» носили характер литературно-философских бесед, целью которых было развитие творчески-парадоксального, самостоятельного мышления. Революционные события во Франции, Бельгии, в ряде германских и итальянских княжеств, восстания в Польше и Литве, усмирение бунта военных поселян, гнет цензуры, запрещение журнала И. В. Киреевского «Европеец» — таковы острые, злободневные темы, обсуждавшиеся в кружке. Критика негативных общественных явлений велась с прозападнических позиций, в частности, идеализировалась политическая система во Франции с ее палатой депутатов. Уже на закате жизни в письме к одному из бывших членов кружка Чижов сравнивал разночинное студенчество 60–70-х годов со своим поколением: «Припомни начало „пятниц“ у Никитенко: тоже все было юное поколение, все ломающее, но не лихо, правда…»[15]
Никитенко был, как теперь бы сказали, self-made man, «человек, сделавший себя сам». Бывший крепостной, он сумел выкупиться на свободу, окончить в 1828 году Петербургский университет, защитить диссертацию и получить звание адъюнкта. Его взгляды отличились либеральной оппозиционностью. Он задавал тон беседам. Среди членов кружка был Д. В. Поленов, направленный вскоре секретарем в русскую дипломатическую миссию в Афины, поэт и переводчик М. П. Сорокин, чиновник министерства иностранных дел и преподаватель математики в Павловском корпусе И. К. Гебгардт.
Всеобщей любовью членов «пятницы» пользовался филолог Владимир Сергеевич Печерин, поэт, республиканец и мадзинист. Его трагедия «Вальдемар» и поэма «Торжество смерти», написанные к ежегодному февральскому празднику кружка, распространялись в списках, предвосхищая грядущую проповедь Бакунина об очистительном духе разрушения твердынь деспотизма. Иносказательные образы поэмы: Немезида, посылающая «за столетние обиды» на столицу тирана Поликрата Самосского (Николая I) бушующее море, пронзенные кинжалами сердца и пять померкших звезд (пять казненных декабристов) — воспринимались в кружке с воодушевлением. Впоследствии с поэмой «Торжество смерти» познакомился Федор Михайлович Достоевский. В романе «Бесы» он дал обстоятельный иронический пересказ многих его эпизодов, приписав авторство «аллегории в лирико-драматической форме» герою романа Степану Трофимовичу Верховенскому.
Спустя тридцать лет в одном из писем к Печерину Чижов так вспоминал о влиянии на него в те годы личности друга: «… для меня ты был прекрасен в юности… я пленялся твоею нравственною красотою, и чудно-прекрасный образ твоего существа поселился в душе моей»[16].
Восторженные отзывы Печерина о вышедшей в свет в 1833 году за границей брошюре Ламенне «Paroles d’un croyant» («Слова верующего») заставили Чижова внимательно прочитать памфлет и сделать из него выписки. «Идея свободы меня наполняет, я не могу без нее жить! — патетически восклицал он по завершении чтения, — … неужели я ничего не принесу человечеству? неужели кроме могильного камня ничего не напомнит о моем существовании? О! Это ужасно! Вот мысль — она мне не дает покоя»[17]. Дневниковые записи Чижова того времени почти дословно повторяют честолюбивые мечты Печерина о личном избранничестве в духе Ламенне: «Кто знает, может быть, судьбою предназначено мне быть апостолом веры всеобщей, веры в Единого Мироправителя — Единой Святой Природы, и смею ли я сбросить с себя великое назначение?»[18]
Относясь критически к автократическому произволу, не встречавшему сопротивления со стороны общества, Чижов с возмущением описывал ход торжеств, посвященных открытию Александровской колонны в Петербурге: «120 000 по мановению одного осла идут, чтобы воздвигнуть монумент другому»[19]. Он вшил в дневниковую тетрадь подметный листок, в который был завернут купленный им в мелочной лавке клей. Текст листка состоял из слегка искаженного стиха А. И. Полежаева, обращенного к Императору Николаю I:
Как тяжело сказать уму:
Оставь свой свет, примись за тьму, —
И как легко сказать
И на бумаге написать:
Мы, Николай. Быть по сему.
В другой раз Чижов занес в дневник услышанный рассказ о том, как Император Николай Павлович безуспешно пытался подвергнуть строгому административному взысканию профессора медицины Хотовицкого, не явившегося во дворец по зову посланного за ним камердинера, и с юношеской горячностью добавлял: «Дай Бог побольше таких вещей, авось-либо поднакопится, авось и мы услышим, когда к черту пойдут эти императорские короны с их венчанными главами»[20].
Вместе с тем в отличие от Печерина, бежавшего на Запад в поисках не ясного ему до конца революционного идеала, Чижов оказался более благоразумным и здравомыслящим. Рассматривая науку как единственное убежище от «деспотизма автократии», он пытался в академических занятиях найти главную цель и смысл своей жизни.
С конца 20-х годов XIX века лучшие выпускники университетов России направлялись на стажировку за границу. В их числе должен был оказаться и Чижов, в 1832 году блестяще окончивший университет со степенью кандидата физико-математических наук. Но революционные события в Европе вынудили русское правительство с мая 1832 года запретить заграничные командировки. «Я признаюсь, — говорил в одной из частных бесед Николай I, — что не люблю посылок за границу. Молодые люди возвращаются оттуда с духом критики, который заставляет их находить, может быть справедливо, учреждения своей страны неудовлетворительными»[21].
21-летний Чижов был оставлен при Петербургском университете, где стал читать в качестве адъюнкт-профессора алгебру, тригонометрию, аналитическую и начертательную геометрию, теорию теней и перспективы и готовить диссертацию на степень магистра под руководством академика М. В. Остроградского — выдающегося русского математика, основателя петербургской школы математики, теоретической и практической физики и механики.
Теперь надежды всей семьи Чижовых сосредоточились на Федоре Васильевиче.
К этому времени отец, казалось, немного оправился от невзгод. Губернатор Костромы Степан Степанович Ланской, знавший Василия Васильевича еще в бытность его старшим учителем губернской гимназии и неизменно относившийся к нему с большим уважением, нашел для него дело, хотя и не оплачиваемое, но дававшее старику моральное удовлетворение: ему была вверена забота о санитарном состоянии города во время холерной эпидемии 1831 года.
Василий Васильевич ревностно отнесся к новым для себя обязанностям, однако здоровье уже было не то. Спустя несколько недель он слег. Узнав из письма матери, переданного с оказией, что отец очень болен, Федор Васильевич поспешил к родным, в Кострому.
Почувствовав приближение смерти, Василий Васильевич соборовался и после исповеди и принятия Святого Причастия призвал к себе сына. Дав ему последнее родительское благословение, он поручил Федору Васильевичу заботу о семье, просил не оставлять своим попечением мать и бабушку, помогать сестрам, а также всегда честно служить отечеству. С этими словами и преставился.
Похоронили Василия Васильевича Чижова со всеми подобающими почестями в Костроме, на Крестовоздвиженском кладбище. Помимо родных, проститься с покойным пришли представители администрации города, бывшие сослуживцы из гимназии, друзья и множество учеников, которых он воспитал и выпустил в жизнь.
После смерти отца дети Чижовых снова разъехались по разным городам и весям. Федор Васильевич вернулся в Петербург. Туда же отправилась для окончания своего обучения в Смольном институте благородных девиц пятнадцатилетняя сестра Александра. Тринадцатилетняя Елена продолжала жить в Умани у тетки Юзефы Федоровны — вдовы дяди Ивана Дмитриевича, получая домашнее образование. Самая младшая, одиннадцатилетняя Ольга, была отдана в пансион Древиц, в десяти верстах от Костромы. Однако, несмотря на разделявшие семью расстояния, родственные связи не прерывались, поддерживаемые обильной корреспонденцией.
Федор Васильевич был крайне стеснен в средствах и вынужден был зарабатывать на жизнь частными уроками и репетиторством. Немало страниц его дневника тех лет испещрено денежными расчетами: чтобы свести концы с концами, он все свои расходы сводил к минимуму. Тем не менее в 1832 году он отказался от отцовского наследства — небольшой родовой усадьбы Озерово близ села Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии в пользу сестер.
Непостижимым образом Федор Васильевич умудрялся выкраивать из своего скудного бюджета деньги для покупки подарков родным. По отношению к матери и бабушке он был исключительно нежным сыном и внуком. Сестры видели в нем образец всех добродетелей. Едва ли не каждую неделю он посещал Александру в Смольном институте, балуя ее гостинцами. В ответ на присылку из дома «вареньица и грибков» в Кострому «маминьке» Ульяне Дмитриевне и «бабиньке» Катерине Ивановне шли банки килек, бочонки селедок, кисея, перчатки шведские и прочее, и прочее. «Я думаю, — писал он домой, — по весенней воде прислать бабиньке креслы с колесиками и мягкими подушечками — они будут ей покойны, и всякий день она поневоле припомнит, что я прислал их ей, и всякий день для нее будет новое удовольствие».
И в дальнейшем, когда повзрослевшие сестры вновь съехались под родительский кров, он поддерживал их материально; для них, костромских щеголих, девиц на выданье, он отправлял столичные модные материи, шляпки, кружева и ленты. «Зная, что Олинька любит помаду и хорошие башмачки, я послал их вместе с бисерными иголками», — сообщал он в очередном письме. «Смею вас уверить, что брат, отец и друг соединены для вас в одном лице», — повторял он и, выполняя последнюю волю отца не уставал заботиться о близких, проявляя сердечную сыновнюю и братскую любовь.
Будучи в совсем еще молодых летах, когда естественно стремление выглядеть привлекательно, Чижов думал о себе в последнюю очередь. На свою первую лекцию он явился в старой студенческой форме, так как не имел средств на приобретение мундира. «Престижу профессорского звания грозил конфуз, — писал по этому поводу один из его первых биографов, — и профессора тут же собрали между собой необходимые средства к его обмундированию до исходатайствования аванса»[22].
В августе 1833 года профессор университета Д. С. Чижов, однофамилец Федора Васильевича, выхлопотал ему от попечителя учебного округа С. С. Уварова ежегодное, в течение трех лет, пособие по 150 рублей с тем, чтобы молодой ученый имел возможность заниматься наукой, не отвлекаясь заботами о заработке.
В 1836 году Чижов публикует, а затем и успешно защищает диссертацию «Об общей теории равновесия с приложением к равновесию жидких тел и определению фигуры земли».
«Я защитил публично свое рассуждение, — торжествуя, сообщает он родным, — собралось публики человек 600, человек 80 генералов со звездами, и я при своей робости природной нисколько не сконфузился, защищал и спорил как нельзя лучше. Под конец поутомился. Попечитель приметил и прекратил спор. На другой день он сделал обед, где пили за мое здоровье».
Чижову присваивается ученая степень магистра философии по отделу физико-математических наук, он получает должность профессора при Петербургском университете с жалованьем 600 рублей в год и чин надворного советника, который, согласно Табели о рангах, соответствовал армейскому званию подполковника. Его положение становится как никогда прочным, быт налаженным, будущее представляется определенным и не подверженным никаким ударам судьбы. «… По убеждению моему нигде я не буду поставлен так на своем месте, как здесь, — уверяет он одного из своих корреспондентов, — занимаясь с любовью в моем кабинете, я хожу в университет как бы для отдыха, дружески беседовать со студентами о том, что я делаю, и передавать им плоды трудов своих. Сыщите, если можете, положение, которое было бы лучше моего»[23].
Он казался друзьям прагматиком, с ясным умом и холодным логическим мышлением. Однако уже к 1840 году замкнутость избранного Чижовым поприща ученого-математика перестает удовлетворять пробудившемуся в нем стремлению к общественной значимости. Интересы его обращаются к области гуманитарных знаний — к занятиям словесностью, историей, философией, политикой. «Дело литератора всего ближе ко мне, — решает он, — я чувствую… тайное желание играть роль, иметь значение»[24].
Он сближается с литературно-художественным миром Петербурга, в котором особо выделяет М. И. Глинку, Н. В. Кукольника, Ф. П. Толстого, посещает петербургские салоны, званые вечера, обеды, балы. «В среду я был на преогромном обеде, даваемом старику Крылову-баснописцу, — спешит сообщить он родным в Кострому. — <Крылову> исполнилось 70 лет и 50 лет его литературным трудам. Тут были все знаменитости столицы: все министры, все известные люди — Бенкендорф и другие, все литераторы… знаменитые живописцы, ученые, даже славные актеры»[25].
Теперь у Чижова масса литературных планов. Он пытается писать стихи; работает над психологическим романом, идея которого — «мать и сын: мать, живущая, дышащая детьми, и сын, обрекший всего себя нравственно и физически на служение матери»[26]; намеревается написать повесть, главным действующим лицом которой должен стать его «пятничный» друг Александр Никитенко[27].
В одном из писем к члену «пятницы» Ивану Гебгардту Чижов делится замыслом повести «Автомат», возникшим, очевидно, под впечатлением романа Мэри Шелли «Франкенштейн»: «Первая глава — лаборатория химика, работающего Автомат и его рассуждения, кого лучше сделать: мужчину или женщину. Вторая — он работает мужчину и размышляет, что лучше: сделать ли его красавцем или безобразным, — выбирает середину. Третья — оканчивает работу и ставит в него сосуд жизни с двумя отверстиями; чрез одно течет жидкость по всем частям тела и приводит их в движение. Описание всех этих ходов в четвертой главе. Пятая — другое отверстие, чрез которое течет жидкость к голове и заставляет думать. Шестая — сам Автомат, его описание и <то>, как устроен сосуд… Седьмая — химик-механик везет Автомат и выводит в свет. Далее несколько глав его светской жизни… Последняя — разрушение Автомата…»[28]
К сожалению, беллетристические задумки Чижова так и остались нереализованными. Судьба же многочисленных, написанных в конце 1830-х годов публицистических и критических статей, рецензий, научно-популярных обзоров, переводов книг и статей из области математики, механики, литературы, эстетики и морали была более успешной. Он публикует их как отдельными изданиями, так и помещает в различных столичных журналах и газетах, таких, как «Сын отечества», «Библиотека для чтения», «Журнал Министерства народного просвещения», «Русский инвалид», «Северная пчела». Сколь широким был разброс тем, на которые писал Чижов, видно из следующего, далеко не полного перечня его публикаций. Это и «Обозрение русских газет и журналов по части наук математических»; и рассуждение о «Паровых машинах»; и «Описание сеяльной мельницы, приспособленной к потребностям русского сельского хозяйства»; и «Критическое обозрение исторических сочинений по отечественной истории Данилевского»; и перевод с английского языка «Истории европейской литературы XV–XVI столетий» Галлама; и «Заметки об истории» французского историка Мишле; и составление «Жития святых Антония и Феодосия Печерских».
Оценив энциклопедизм познаний, плодовитость и энергию Чижова, Осип Иванович Сенковский, редактор популярнейшей «Библиотеки для чтения», первого русского толстого литературно-художественного журнала, организованного на чисто коммерческих началах, предложил Чижову стать его сотрудником. «Мне Сенковский предлагает, и это тянется уже давно, взять часть „Библиотеки для чтения“ на себя, это, может быть, доставит мне 3000 рублей в год», — сообщает он матери осенью 1838 года[29]. Однако это лестное предложение Чижов так и не принял, скорее всего, потому, что не решился еще окончательно порвать с университетом.
Глава третья
СОКИРЕНСКИЙ ПАНЫЧ
В 1840 году Чижов издал в Петербурге солидный труд под названием «Призвание женщины», при написании которого он использовал некий английский первоисточник. В этой книге за рассуждениями о роли женщины в семье, в государстве и шире — в истории человечества косвенно прочитывается его собственная трогательно-сыновняя привязанность и преклонение перед матерью, наставление на правах старшего брата сестрам, которые готовились стать преданными супругами и заботливыми матерями для своих будущих мужей и детей, подытожен многолетний опыт наставника и репетитора в домах петербургской аристократии и угадывается тот по-максималистски высокий нравственный идеал женщины, которую он, 29-летний молодой человек, способен полюбить и назвать женою.
В то время, когда едва ли не во всех дворянских семьях хорошим тоном считалось передоверять воспитание детей гувернерам-иностранцам, упреком сложившейся практике звучат написанные Чижовым в главе «О влиянии матери» строки: «Образование может быть прерываемо и часто может переходить из одних рук в другие, — воспитание же должно быть непрерывно… Кто лучше матери может научить нас предпочитать честь богатству и любить людей, как наших собратьев; кто больше ее научит уважать их, не словами, но собственным примером, и кто лучше возвысит нашу душу к единственному источнику добра бесконечного? Советы и наставления всякого воспитателя передаются памяти, мать <же> вырезает их на нашем сердце… Те религиозные и нравственные начала, какие <юноши> примут от матерей, они редко встретят в продолжение всей своей жизни; поэтому уже очевидна важность того, чтоб они оставались так долго, как только это возможно, под влиянием матери. Обыкновенно это делается наоборот, и мальчики гораздо ранее девочек оставляют благодетельную атмосферу любви и чистоты, которой окружает их семейственная, а более всего материнская привязанность. И потом мужчин называют холодными, суровыми, себялюбивыми!.. К чему сами матери спешат возложить на других приятную обязанность, назначенную им Провидением? К чему они, часто не вовремя, спешат вверять несформированный ум, не утвердившиеся понятия их сыновей постороннему влиянию учителей?»
И далее, в главе «Влияние женщин на общество»: «Жена, мать — в этих двух словах заключены приятнейшие источники человеческого счастья… Мужчина ждет признаний от взгляда женщины, советуется со своей женою и повинуется матери; он повинуется ей долгое время и после ее смерти, и понятия, от нее полученные, делаются его нравственными правилами… Человек не может унизить женщину, не впадая сам в унижение; он не может возвысить ее, не возвышаясь сам в то же самое время… Хотите ли узнать политическое и нравственное состояние государства, спросите, какую степень занимает в нем женщина…»[30]
Появление на книжных прилавках «Призвания женщины» не прошло мимо внимания столичной прессы. В частности, труд Чижова заметил и похвалил в «Отечественных записках» В. Г. Белинский. О том, что книга вызвала интерес в обществе, говорит и отрывок из письма Чижова к матери: «На днях меня просил познакомиться с собою граф Мордвинов[31]; я был у него, старик лет 90, он благодарил меня за „Призвание женщины“ и просил позволения перепечатать в числе 10 000 экземпляров. Мысль пустая, потому что и 500 еще не раскупили, еще не все издание окупилось. Но приятно видеть, что так ценят труд. На днях тоже Государь и Государыня говорили между собою об этой книжке, мне сказывал граф Бобринский[32], который бывает во Дворце очень часто».
Но была в Петербурге семья, чья высокая оценка книги была для Чижова особенно дорога и значима. В начале 1836 года по рекомендации попечителя Петербургского учебного округа К. М. Бороздина, шурина А. В. Никитенко, Чижов был приглашен подготовить некоего 16-летнего недоросля к поступлению в Петербургский университет. Мальчика звали Григорий Галаган. Он был высокого роста, по-юношески нескладен, с бледным лицом и выразительными карими глазами. Происходил из одного из самых знатных и влиятельных семейств Малороссии, которое владело множеством имений, родовых и благоприобретенных, в Черниговской и Полтавской губерниях. По линии отца, Павла Григорьевича, его предком был полковник из запорожских казаков Игнатий Иванович Галаган. Герой войны России со Швецией, он отказался поддержать изменника Мазепу, перешедшего на сторону Карла XII, получил ранение в сражении под Полтавой и впоследствии участвовал в походе на Астрахань и Персию.
Его мать, Екатерина Васильевна, урожденная Гудович, принадлежала к польской дворянской ветви этой фамилии, внесенной в VI и I части родословной книги Виленской и Ковенской губерний. Переселившись в начале XVIII века в Малороссию, Гудовичи начали службу в казачьих полках. Дядя Екатерины Васильевны Иван Васильевич Гудович прославился в борьбе России с польскими конфедератами и турками. Император Павел I возвел его в графское достоинство, которое Александр I распространил в 1807 году на весь род Гудовичей.
Тогда Екатерине Васильевне минуло 22 года. Ее отцом был младший и наименее богатый из четырех братьев Гудовичей, Василий Васильевич, участник многих военных сражений, в том числе на Бородинском поле, — он владел лишь одним небольшим имением в селе Разрытом Мглинского уезда Черниговской губернии. Новоиспеченная графиньюшка давно вошла в возраст, когда для того, чтобы составить приличную партию, надо было выезжать в свет. Однако ее отец не имел достаточного состояния, чтобы жить в столице. Поэтому на семейном совете было решено перепоручить дочь заботам брата — графа Ивана Васильевича Гудовича, в то время фельдмаршала и главнокомандующего в Москве.
Во время нашествия французов, когда Наполеон подходил к Первопрестольной, Екатерина Васильевна была вынуждена спешно переехать в Петербург к другому своему дяде, графу Михаилу Васильевичу Гудовичу. Именно здесь через два года на одном из балов она встретила Павла Григорьевича Галагана, недавнего выпускника Горного института, служившего в Иностранной коллегии. Молодые люди понравились друг другу, и вскоре была сыграна свадьба. Причем одного из самых богатых землевладельцев Малороссии вовсе не смутила разница в возрасте с невестой — он был младше Екатерины Васильевны на целых восемь лет. Уволившись со службы, Павел Григорьевич увез супругу на Украину.
Первых троих младенцев Галаганы потеряли. Затем в 1819 году у них родился сын Григорий, а спустя четыре года — дочь Мария. Когда дети подросли, родители решили дать им образование в столице. Но по дороге в Петербург, в 1834 году, Павел Григорьевич умер.
И до этого будучи примерной матерью, никогда не перекладывавшей воспитание детей на залетных гувернеров, Екатерина Васильевна, оставшись вдовой, буквально растворилась в сыне и дочери. Глубоко верующая, она сумела привить детям религиозные и нравственные начала, которые затем им предстояло развить в самостоятельной жизни. Она высоко ценила и охотно читала вслух малороссийские вирши, поэмы, «пиесы», знала наизусть всего Котляревского и, обладая приятным голосом, с удовольствием музицировала, пробуждая в детях любовь к украинским народным песням.
Для приготовления сына к поступлению в университет требовались профессиональные педагоги и репетиторы. К тому же Екатерина Васильевна стала опасаться, что Григорий, отгороженный от мира материнской любовью и заботой, с вечно хлопочущими вокруг него крепостными «мамушками» и «нянюшками», за недостатком мужского воспитания вырастет слишком изнеженным. Она обратилась к авторитетным знакомым, рекомендациям которых можно было всецело доверять, и вскоре в ее петербургском доме один за другим стали появляться учителя истории, русской словесности, иностранных языков, точных наук, музыки, рисования. Одно время математику и физику преподавал некий француз Сюби. Но вскоре его сменил Федор Васильевич Чижов, встреча с которым произвела, по словам близко знавших Галаганов людей, «настоящий переворот в судьбе Григория»[33].
Уроки Чижова не ограничивались преподаванием математики и физики. Они стали для подростка настоящей жизненной школой. Прирожденный педагог, Чижов постоянно возбуждал в своем питомце деятельность мысли, которую ненавязчиво направлял к исканию идеала. Он прививал своему ученику привычку к самообразованию, любовь к литературе и искусству, воспитывал в нем жажду общественного служения, приучал к нравственной оценке своих поступков. Последнему как нельзя лучше помогало ведение дневника. Именно под влиянием Чижова Григорий начал делать ежедневные записи. «<Поначалу> я писал машинально, по внушению Федора Васильевича», — признавался он[34]. Благодаря этим бесхитростным заметкам, отражающим обезоруживающую искренность их автора, сегодня мы можем проследить, как развивались взаимоотношения ученика и учителя.
1836 год, 19 февраля: «Сегодня поутру Чижов дал мне урок физики. Как хорошо он толкует! Он прошел в один урок то, что я с Сюби прошел в пять…»
23 февраля: «По утру, в 8 ½ час., я с Сюби отправился к доброму[35] Чижову; оттуда с ним в университет, чтоб смотреть физические опыты… презанимательные и прелюбопытные. Сверх того, Чижов показал нам почти все кабинеты, университетскую библиотеку и церковь».
4 марта: «Сегодня был у меня Чижов. Что за прекрасный человек и учитель! Он у меня просидел от 8 ½ до 11 ½. Час с четвертью занимались тригонометриею, проходили синус, тангенс и проч.; потом разговаривали. Он мне говорил, какие его планы для будущности. О! он верно прославится, и я приготовляюсь писать его биографию. Мне так понравились эти высокие планы, что… что… право, стала завидна его участь».
1838 год, 13 января: «Чрезвычайно загадочный для меня человек есть Федор Васильевич. Его философия, его ум, его физические страсти, даже потому что он имеет на голове горб больше, нежели у Сократа, его необыкновенная жизнь, — все это заставляет меня думать и быть иногда уверену, что он человек необыкновенный, рожденный, чтобы быть великим!.. он должен принесть пользу человечеству и тем обессмертить свое имя; он рожден, чтобы быть одним из великих представителей нашего века и, судя по направлению его ума, подвинуть философию и религию на высшую ступень…»[36]
Подобные отзывы о Чижове как о будущей знаменитости, которой суждено обессмертить свое имя, нельзя приписать одной лишь преувеличенной восторженности, свойственной юности. Характерно, что таковым было восприятие молодого профессора многими из окружавших его в то время людей [37]. Его обожали студенты, ценили коллеги по университету. От него исходило нечто, что сегодня бы мы назвали «пассионарностью». Когда Чижов на некоторое время был командирован в Смоленск и ему пришлось квартировать в доме местного помещика, он сумел так себя зарекомендовать, что сын хозяина, находившийся по малолетству в загородном имении, спустя много-много лет вспоминал: «… Отец, возвращаясь, много рассказывал о Федоре Васильевиче… Я не видал Чижова, но помню, что отец был от него в восторге и постоянно пророчил ему какую-то великую будущность»[38].
Чижов сразу оценил прекрасные нравственные задатки Григория Галагана, его чистое и благородное сердце. Тем более что ему, как педагогу, было с кем сравнивать: его попечению в разное время были вверены Сергей Кочубей, братья Бобринские и некоторые другие юные представители звучных в России фамилий. К сожалению, в этих подростках Федору Васильевичу не удалось нащупать тот духовный стержень, в формировании которого на ранних этапах развития личности непременно участвует мать и который впоследствии обрастает, подобно мускулам, системой образования, привносимой извне учителями. Потому, познакомившись с Балаганами, он отдал должное умной, доброй, заботливой Екатерине Васильевне, с ее жертвенной любовью к детям; в ней он увидел тот почти совершенный идеал женщины-матери, который сложился a priori в его представлении. Вскоре в значительной степени благодаря общению с этим малороссийским семейством, вошедшим в круг наиболее близких для него людей, Федор Васильевич напишет давно вынашиваемый им труд «Призвание женщины».
Галаганы, со своей стороны, были буквально очарованы Чижовым. Григорий, поступив осенью 1836 года на юридический факультет Петербургского университета, сдружился со своим учителем настолько, что с разрешения матери поселился в снимаемой Федором Васильевичем квартире — в доме Лодера на Первой линии Васильевского острова, неподалеку от университета. Живя бок о бок со своим питомцем, Чижов по-братски его опекал и даже разработал целую программу, направленную на исправление таких слабых сторон его характера, как лень, недостаток воли и прилежания.
Мудрый наставник владельца обширных земельных угодий и нескольких тысяч крепостных крестьян немало времени отводил беседам о социальной справедливости, о том, как лучше распорядиться судьбою данным богатством, учил презирать роскошь и пустоту светской жизни. И молодой человек постепенно приходил к выводу, что принятые в его среде знаковые символы, свидетельствующие о принадлежности к высшему сословию: дом-дворец с роскошью внешней и внутренней отделки, езда на рысаках по Невскому, ношение тончайшего белья и прочее, и прочее, — есть ничего не значащие условности, отнюдь не гарантирующие их обладателю ни подлинного счастья, ни самоуважения, ни признательной памяти потомков. «Вопрос: к чему… служит богатство? — размышлял он. — В положении Чижова человек, любящий науку, совершенно посвящает себя ей и тогда верно преуспеет… Следовательно, гораздо лучше быть в состоянии Чижова: он всегда прилично одет, всегда весел. Человек с его состоянием может давать бедным и помогать им, и эта жертва гораздо приятнее Богу, нежели жертва богача, который дает бедному от своего избытка»[39].
Галаганы настойчиво зазывали Чижова погостить у них на Украине, и летом 1838 года, во время студенческих вакаций, Федор Васильевич отправился вместе с Екатериной Васильевной и Григорием в одно из принадлежавших им многочисленных имений — село Сокиренцы Прилуцкого уезда Полтавской губернии.
Имение с первого взгляда поразило Чижова как своими масштабами, так и совершенной гармонией архитектурных форм с окружающей природой. Расположенное в пятидесяти верстах от Прилук, оно представляло собой большую старосветскую усадьбу с каменными воротами и флигелями для прислуги вдоль подъездной дороги, с просторным панским двухэтажным домом, опоясанным могучими трехсотлетними дубами, оставшимися от когда-то бывшего здесь леса. С балкона, декорированного портиком и колоннами, вел многоступенчатый спуск к лужайке, балюстрада которого была увенчана мраморными вазами и статуями… Когда в середине 1850-х годов Сокиренцы посетит Иван Сергеевич Аксаков, в письме к родным он так опишет свое впечатление от усадьбы и «великолепного замка» Галаганов: «Взглянув на дом и на сад, я сказал Галагану, что он не пан, а лорд Галаган, что его очень смутило и заставило оправдываться. В самом деле, я думаю, и герцог Девоншир был бы доволен здешним местом… Я не видал ничего лучше…»[40]
Галаганы любили Сокиренцы до самозабвения, и их восторженность передалась Чижову. Григорий, сопровождая Федора Васильевича в его первых прогулках по имению, выказывал похвальную осведомленность относительно исторического прошлого и настоящего имения и отвечал на расспросы с исчерпывающей полнотой. Сокиренцы площадью в 140 десятин (80 десятин под садом и 60 под парком) были получены более века назад его прадедом полковником Игнатием Ивановичем Галаганом от самого Петра I в качестве награды за взятие в плен шведского отряда вместе со всей армейской казной.
Поначалу усадебный дом был построен во вкусе Людовика XVI, но при этом имел и некоторые приметы типично малороссийского «будинка». Так, к примеру, одна из комнат в нем была «о трех стенах», а четвертая, со стороны сада, отсутствовала вовсе. Рядом был разбит цветник, окруженный решеткой, и от него шла весьма оригинальная аллея, кончавшаяся большим, «в помпеевском вкусе», павильоном для увеселений — «залой».
Вступив в права наследования в 1823 году, отец Григория Павловича Павел Григорьевич Галаган, человек вполне европейский, хорошо образованный и большой эстет, затеял преобразование усадьбы в духе нового времени. Он пригласил привезенного из Саксонии соседом по Лохвицкому уезду графом Милорадовичем ученого садовника Бистерфельда и поставил перед ним задачу: переделать прежний, во французском вкусе, регулярный сад — в сад английский, романтический, близкий к природе. Одновременно из Москвы был выписан известный архитектор Дубровский. За три года он построил на новом месте дом в «имперском», классическом стиле, а старый, «предковский дворец», был впоследствии разобран. Остались лишь вековые дубы, окружавшие его, да липы и клены в несколько обхватов. Дворцово-парковый ансамбль включал каменную церковь, мост через лощину, башню в готическом стиле, гроты, беседки, оранжереи, дороги для прогулок в экипажах.
В одном из урочищ обширного сада Григорий подвел Чижова к исполинскому клену. Под его кроной мог разместиться целый батальон солдат: от одного края ветвей до другого было 42 шага в поперечнике!
Неподалеку, в низине, у пруда, стоял «священный дуб» с вросшим в него со времен казачества образом. Никто из старожилов не мог объяснить, как икона туда попала, но доподлинно было известно, что она уже не единожды затягивалась дубовой корой, и ее вновь и вновь приходилось вырубать из древесного плена.
Весь строй жизни в имении был благочестивым, скромным, даже строгим. Ежедневно Екатерина Васильевна приходила к могиле мужа, нередко в сопровождении детей. Фамильный склеп Галаганов находился в одном из дальних уголков сада. Над ним в скором времени должна была быть возведена пятиглавая церковь во имя святых апостолов Петра и Павла.
Мать и сын, казалось, стеснялись своего богатства. В доме не было показной роскоши. Вся роскошь, подчеркивали они в разговорах с гостями, — в саду. При этом особо пояснялось, что сад образцово содержится не «панщиной» (барщиной), а наймом, — вольнонаемный труд был в то время явлением чрезвычайно прогрессивным.
Другой гордостью Галаганов был оркестр, славившийся далеко за пределами Полтавщины. Многие крепостные музыканты, входившие в его состав, были учениками лучших педагогов Москвы и Санкт-Петербурга.
Екатерина Васильевна вела огромное хозяйство единолично. Она была приветлива и любезна с крестьянами, все исполнялось по ее воле и приказанию, отдаваемому самым кротким и ласковым голосом, и никто не осмеливался ее ослушаться. Понемногу она вводила сына в дела управления имениями. Григорий был горд и счастлив. Ему казалось, что крестьяне, участь которых вручена Галаганам по Промыслу Божиему, не могут испытывать к своим хозяевам иных чувств, кроме любви и благодарности. «Здесь всё наше, ни одного человека не видно чужого, — громко восклицал, обращаясь к Чижову, Григорий, театрально разводя руками. — И как приятно, когда всё это нас любит, к нам привязано…»[41]
Однако на деле не все оказалось так идиллично. Стали поступать жалобы на плутовство и злоупотребления деревенской администрации, и тогда юный помещик закипал в негодовании, изливая свои чувства в откровенных беседах с наставником: «О, как я с нетерпением жду того времени, когда выйду из университета и когда маменька даст мне власть над деревенскими старостами, — эти бестии у меня не найдут уголка; я явлюсь для них тираном и, напротив, буду заходить в избы крестьян, буду их расспрашивать, они будут меня любить!»[42]
Судя по дневнику Григория Галагана, который он продолжал вести по настоянию Чижова, в его душе и поступках постоянно присутствовало раздвоение. Мятущийся дух пытался выйти на прямую жизненную дорогу, но вместо этого то и дело был терзаем и сбиваем с толку внутренними борениями и противоречиями. Нередко в его словах и делах проступал малоприятный образ «сокиренского паныча», владельца четырех тысяч (а с получением в будущем наследства бездетного дяди Петра Григорьевича Галагана — и семи тысяч) крепостных крестьян. «Стыжусь написать в журнале, что чувствую, — признавался он, — потому что нахожу эти чувства не совсем похвальными и плодами пустого и сильного тщеславия. Мне страх как приятно делать вид господина и господина-деспота, важничать перед мужиками, которые ходят вслед, чтобы на меня насмотреться или чтобы подать жалобы, искать милости. Мое сердце бьется приятно, когда толпа мужиков мне низко кланяется и я гордо мимо них прохожу и благосклонно отдаю им их поклоны легким киванием головы. Какое тщеславие! Но вместе с тем, как это льстит бесхарактерной душе!»[43] Видя в своих крепостных «детей малых», он считал, что примерным наказанием вправе устрашать дворню, велеть высечь провинившегося мужика за пьянство, раздавать направо и налево пощечины… Но проходили первые минуты ярости, и он тут же, спохватившись, уже корил себя за «панычевские наклонности», припоминая советы «мудрого Федора Васильевича», пытался поставить себя на место крепостного крестьянина, «влезть в его шкуру»: «Я бы ненавидел моего помещика от того только, что он мой неограниченный господин, что я принадлежу ему…»[44]
Как ученик народолюбца Чижова, он начинал задумываться над тем, как облегчить участь «крепостных рабов», извлечь пользу из своего привилегированного положения для ближнего, сделать как можно больше добра, оправдать свое богатство перед своею совестью. Но по молодости лет подобные размышления чаще всего выливались не в конкретные дела, а в банальные сетования на свою «жестокую судьбу» барина: «Я сегодня нечаянно подслушал разговор людей, т. е. лакеев, между собою; они говорили о нас, но я ничего не мог расслышать… С этой минуты у меня возросла ужасная жажда узнать, какого они все обо мне мнения. Что, если они меня не любят? Это ужасно! Зачем я, презренное существо, родился, чтобы сделать столько несчастных?.. О жестокая судьба! Зачем вложила ты меня в недра жены богатого помещика? Зачем я осужден быть невинным виновником несчастия стольких людей? О, лучше я желал бы быть бедным, нищим, разбойником…»[45]
Пройдет не один год, прежде чем благодаря урокам о социальном равенстве, преподанным Чижовым, Григорию Павловичу Галагану удастся выработать из себя лишенного сословных предрассудков носителя истинного просвещения, устроителя судеб крепостных крестьян Украины и его имя станет в этих краях вровень с именем его учителя…
Посетив впервые Сокиренцы, Чижов навсегда полюбил этот край, с его плетнями и садками, пряным запахом белой акации и неумолкаемыми соловьиными переливами. Украина так подействовала на него, что по возвращении в Петербург он подверг пересмотру свою, казалось бы, устоявшуюся жизнь университетского профессора, сулившую в ближайшем будущем новый взлет в профессиональной карьере. Его неодолимо влекла свобода, возможность всецело посвятить себя литературной деятельности. Если прежде, в занятиях точными науками, им руководило стремление познать фундаментальные законы физического строения мира, то отныне его главным увлечением становится история изобразительных искусств, в изучении которой ему виделся «один из самых прямых путей к изучению истории человечества».
Летом 1840 года Чижов совершил непрактичный с точки зрения окружающих шаг — под предлогом ухудшения здоровья он оставил преподавательскую деятельность (официальное увольнение из Министерства народного просвещения последует только в 1845 году). «Слава Богу, или не слава Богу, но лекции закончились, — с легкой грустью записал он в своем дневнике. — Прощай математика, ex profession, прощай моя добрая демократическая наука»[46].
Едва освободившись от тяготившей его повинности еженедельного присутствия в университете, он ненадолго заехал к родным в Кострому и затем вновь поселился в гостеприимных Сокиренцах, где неожиданно для себя остался до лета следующего года. Кроме желания вволю пожить в полюбившихся ему местах, он хотел здесь основательно подготовиться к предстоящей совместной с Галаганами поездке за границу с целью сбора материалов для будущего искусствоведческого исследования. В благословенной малороссийской глуши он мог погрузиться в изучение основ социологии и истории искусств. Благо, нужные книги были под рукой — в богатом книжном собрании хозяев имения.
К этому времени Григорий Галаган окончил курс юридических наук и, не желая долее задерживаться в северной столице, чей климат для него был «подобен яду», поспешил на милую его сердцу родину, входить в права полноправного хозяина галагановской «маетности».
В Сокиренцах Чижов близко сошелся с родственниками Галаганов, многие из которых в той или иной степени сыграют важную роль в его дальнейшей жизни. При нем совершилась помолвка и свадьба сестры Григория, 17-летней красавицы Марии Павловны и юного графа Павла Евграфовича Комаровского, сына генерала от инфантерии, командира корпуса внутренней охраны Его Императорского Величества Николая I графа Евграфа Федотовича Комаровского. Брат Павла, адъютант принца Евгения Вюртембергского, впоследствии член Комитета иностранной цензуры граф Егор Евграфович Комаровский, был женат на сестре поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова, Софье Владимировне, а его сестра, графиня Анна Евграфовна — которой сам Александр Сергеевич Пушкин посвятил стихи «В младенчестве моем она меня любила…», была замужем за генерал-адъютантом, будущим военным губернатором Казани и сенатором Сергеем Павловичем Шиповым. Пройдет двадцать лет, и с братьями Шиповыми, особенно с Александром и Дмитрием Павловичами, крупными костромскими помещиками и заводчиками, будет связано начало предпринимательской деятельности Чижова.
Граф Павел Евграфович Комаровский, землевладелец Орловской губернии, служивший в гвардии, после женитьбы вынужден был выйти в отставку и остаться жить в Сокиренцах, так как его супруга Мария Павловна была настолько привязана к матери и брату, что ни за что не хотела покидать родной кров. Нередко во время домашних концертов в доме тещи граф исполнял на церковном органе, возвышавшемся в огромной бальной зале, сложные полифонические произведения Баха и Генделя.
Здесь же, в зале, стоял хороший рояль, на котором любил играть частый гость Сокиренец Николай Аркадьевич Ригельман, кузен Григория и Марии Галаганов. Его мать Прасковья Григорьевна Галаган была замужем за помещиком Черниговской губернии, обрусевшим немцем Аркадием Александровичем Ригельманом. Николай Аркадьевич был замечательным музыкантом, отличавшимся виртуозным исполнением классических фортепьянных фантазий. Но нередко в часы досуга, когда кто-нибудь из хозяев, их родственников или друзей вдруг затягивал малороссийскую песню, он охотно подсаживался к роялю и начинал аккомпанировать, причем в его исполнении знакомые народные напевы звучали особенно задушевно. Так что даже не имевший музыкального слуха Чижов и тот, нисколько не конфузясь, не мог удержаться и, подчас не зная слов, старательно, как мог, включался в мелодичное многоголосье.
По соседству с Сокиренцами находились имения сыновей родной сестры Екатерины Васильевны Галаган — Анастасии Васильевны Маркевич, урожденной графини Гудович. Она вышла замуж за генерал-лейтенанта Андрея Ивановича Маркевича, директора 2-го кадетского корпуса, автора многочисленных трудов, посвященных морской и сухопутной артиллерии. Их первенец, Николай Андреевич Маркевич, жил от Сокиренцев верст за сорок, в имении Туровка. Поэт, музыкант, историк, статистик, табаковод, Николай Андреевич в молодости был знаком с Александром Сергеевичем Пушкиным и его дядей Василием Львовичем, водил дружбу с Михаилом Ивановичем Глинкой, Дельвигом, Баратынским, Жуковским. Ему посвятил стихотворение «Бандуристе, орле сизий!» Шевченко. В его усадебной библиотеке хранилось несколько тысяч старинных рукописей, положенных им в основу 5-томного труда по истории Малороссии.
В отличие от старшего брата Николая, младший Михаил никакими особыми талантами не блистал. Он начал военную службу в 1824 году рядовым в Новоингерманландском полку, через восемь лет вышел в отставку в чине штаб-ротмистра и какое-то время состоял прилукским уездным предводителем дворянства. Принадлежавшая ему усадьба была всего в пяти верстах от Сокиренец, в селе Восковцы, и он по-соседски приятельствовал с. Григорием Галаганом.
У Михаила Андреевича была красавица жена, 23-летняя Катенька, Катерина Васильевна, к этому времени уже успевшая подарить мужу двух дочерей, Ольгу и Надежду. Увидев впервые Катерину Васильевну Маркевич у Галаганов, Чижов был поражен трогательным, по-детски наивным выражением ее милого лица, гибким станом, простой и в то же время чрезвычайно женственной манерой общения. Возвратясь в отведенные ему покои и проведя бессонную ночь, Федор Васильевич наутро понял, что безнадежно влюблен, причем так, как ни разу до этого. Его долгое, длиною почти в год, практически безвыездное пребывание в Малороссии во многом объяснялось захватившим его страстным чувством к этой молодой замужней женщине. Безоглядно бросившись в омут любовных переживаний и в то же время делая все возможное, чтобы роман с Катенькой не стал достоянием огласки и не вышел за пределы узкого круга доверенных лиц, Чижов не догадывался о том, какая трагедия ждет его и доверившуюся ему женщину впереди…
Глава четвертая
«С ДУШОЙ ВАШЕЙ РОДНИТСЯ ДУША БЕСПРЕСТАННО…»
Летом 1841 года Чижов, мучимый сердечными переживаниями, все же уехал за границу. Смена обстановки, новые впечатления, а также лечение минеральными водами и виноградом на рейнских курортах, казалось, благотворно действовали на тело и душу.
Путешествуя какое-то время в качестве компаньона-наставника Григория Галагана по странам Западной Европы, Чижов продолжал начатые на Украине искусствоведческие занятия, знакомился с произведениями живописи, скульптуры, памятниками архитектуры. Ближе к зиме он перебрался в Италию, где, плененный ее красотами, даже предпринял попытку учиться рисованию, используя свои теоретические познания в области «теории теней и перспективы» — курса, читанного им в течение ряда лет в Петербургском университете.
«Италия, блаженная, благословенная Италия, — восторженно делился он своими впечатлениями с оставшимся в Петербурге „пятничным другом“ А. В. Никитенко. — Во Флоренции день мой начинался Рафаэлем, оканчивался лазурью итальянского неба и милой улыбкой цветочницы. Все поэтизировалось, все питало душу прекрасным… Венеция со своими волшебными дворцами, выдвинутыми из моря, со своими Тицианами и Тинтореттами, со своею четырнадцативековою историею, — вот итальянские университеты, вот школы философии. Италия образует душу… она дает простор всему, что есть в ней божественного, она не навязывает праздных идей, но питает и развивает те, которые образовались, и очищает их от всего, наросшего от скверностей земного существования»[47].
В библиотеках Венеции и Ватикана Чижов работал над четырехтомной историей Венецианской республики, с которой собирался познакомить своих соотечественников. Республиканский образ правления, господствовавший в Венеции на протяжении многих веков, представлялся ему «зародышем новой истории, звеном, соединяющим средневековое человечество с человечеством предреволюционным»[48].
Чтобы читать источники в оригинале, Чижов начал специально изучать итальянский язык. Как истый библиофил, он стал завсегдатаем маленьких антикварных лавчонок. В них он приобрел по теме исследования сотни редчайших фолиантов. Не жалея денег на пополнение своей библиотеки и на путешествия, в остальном Чижов вынужден был экономить на всем. «Должен, не имею денег, не знаю, чем буду жить, — писал он в это время. — Но я не убиваю денег, не убиваю времени, вот маленькое определение самому себе…»; «Весь день — 1 лира. За книги — прежний долг и за покупку — 136 лир… Много покупаю книг и много сделано путешествий»[49].
В зиму 1842/43 года судьба свела Чижова в Италии с Николаем Васильевичем Гоголем. В течение полугода они квартировали под одной крышей в центре Рима, на Via Felice, в доме под номером 126. Во втором этаже жил поэт Языков, в третьем — Гоголь, в четвертом — Чижов. «Квартира хороша, комната на солнце и стоит с чисткою платья и сапог 7 ½ скуд, то есть с небольшим 35 рублей. Это еще сносно», — пометил Федор Васильевич в своем дневнике 30 ноября 1842 года[50].
Его знакомство с Гоголем состоялось в 1834 году в Петербургском университете, куда как раз накануне, по протекции Пушкина и Жуковского, Николай Васильевич был назначен адъюнкт-профессором на кафедру всеобщей истории. К сожалению, опыт преподавательской деятельности в главном высшем учебном заведении страны оказался для Гоголя неудачным. Не имея ни серьезных научных трудов, ни репутации в ученом мире, ни в конце концов необходимых знаний, добытых систематической, «кротовьей» работой в архивах и библиотеках, он не смог удержаться на кафедре более года. Лекции его из древней и средневековой истории были, по свидетельству А. В. Никитенко, сухи и скучны, слог «запутан, пустоцветен и пустозвонен»: «Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов… Он был у меня и признался, что для университетских чтений надо больше опытности»[51].
Чижов вспоминал, что «Гоголь сошелся с нами хорошо, как с новыми товарищами; но мы встретили его холодно. Не знаю, как кто, но я только по одному: я смотрел на науку чересчур лирически, видел в ней высокое, чуть-чуть не священное дело, и потому от человека, бравшегося быть преподавателем, требовал полного и безусловного посвящения себя ей… К тому же Гоголь тогда, как писатель-художник, едва показался: мы, большинство, толпа, не обращали еще дельного внимания на его „Вечера на хуторе“; наконец и самое вступление его в университет путем окольным отдаляло нас от него, как от человека»[52].
…Оказавшись осенью 1842 года в «Вечном городе», Чижов без устали бродил по его узким улочкам, посещал музеи, бесчисленные картинные галереи, заходил в церкви, где часами простаивал перед полотнами и скульптурами прославленных мастеров эпохи Возрождения, поднимался на руины Древнего города, зарисовывал Колизей и чарующие виды окрестной холмистой равнины, открывающиеся с горы Альбано. Обедал, как правило, в траттории «Фальконе», напротив Пантеона — монументальной древнеримской постройки, где нашел свое последнее пристанище великий Рафаэль, или в «Antico Cafe Greco», куда приходила на его имя почта. «Чичероне» Чижова в прогулках по городу был художник Александр Андреевич Иванов. Их любимый совместный маршрут — прогулка по древней Аппиевой дороге, вдоль которой они с восторгом первооткрывателей обнаруживали все новые и новые мотивы для исторических пейзажей.
Гоголь же чаще оставался дома, уйдя с головой в работу над продолжением «Мертвых душ». Поэма рисовалась ему, подобно Дантовой «Божественной комедии», в трех частях: уже написанный «Ад», «Чистилище», к которому он приступил, и сияющий ангельским светом, далекий и недоступный «Рай». Однако при всей своей любви к уединению Гоголь не выносил одиночества. Ежевечерне собирались у Николая Михайловича Языкова. От прежнего беспечного дерптского студента, приятеля Пушкина, «поэта радости и хмеля», не осталось и следа. Языков был тяжело болен: он страдал «сухоткой» спинного мозга и передвигался с трудом. Вот как описывал вечера у Языкова сам Чижов: «Наши встречи были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из троих — чаще всего Иванов — приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатико, и мы начинали вечер каштанами с прихлебками вина. Большей частью содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда довольно сальные. Молчаливость Гоголя и странный выбор его анекдотов не согласовывались с тем уважением, которое он питал к Иванову и Языкову, и с тем вниманием, которого он удостаивал меня, зазывая на свои вечерние сходки, если я не являлся без зову. Но это можно объяснить тем, что тогда в душе Гоголя была сильная внутренняя работа, поглотившая его совершенно и овладевшая им самим. В обществе, которое он, кроме нашего, посещал изредка, он был молчалив до последней степени»[53].
В начале января 1843 года Чижов познакомил с Языковым и Гоголем приехавшего в Рим Галагана. Под впечатлением состоявшейся встречи Григорий писал матери: «<Языков> — предобрейший и открытый человек, <Гоголь> также прекрасный человек, но надобно привыкнуть к его обращению; он чистый малороссиянин, все сидит и молчит и как будто дуется, а между тем искоса выглядывает на всех и замечает все, что делается; когда скажет что-нибудь, то умеет придать такой комизм своим словам, что нельзя не смеяться».
Воспоминания Григория Павловича Галагана о Гоголе, записанные им вскоре после смерти Николая Васильевича и долгое время остававшиеся неизвестными исследователям, существенным образом дополняют наши представления о писателе периода его тесного общения с Чижовым в Риме. Галаган отмечал, что Гоголь о своих сочинениях «не только никогда не говорил, но даже не любил, чтобы кто-нибудь из собеседников о них напоминал». Избегал он и разговоров о родной Малороссии. Лишь однажды, когда речь зашла о жизни украинского народа и общества, он вмешался в беседу, заметив: «Я бы, кажется, не мог там жить, мне было бы жалко тамошних жителей, и я бы слишком страдал». Вместе с тем он с особой любовью относился к украинским народным песням, в которых и сам Галаган знал толк, — спустя десятилетие Григорий Павлович издаст на Украине сборник «Южноруські пісні з голосами».
Об общих знакомых из русского светского общества в Риме «Гоголь выражался всегда довольно резко и часто с насмешливыми эпитетами. Можно бы было по его тону прийти к тому заключению, что все эти знакомые ему сильно надоели». И «русские римляне», особенно дамы, не в состоянии снести такое невнимание к себе, «запустили слух, что он ужасный чудак и что к нему нельзя приноровиться… и что даже в одеянии и особенно в прическе <он> любит фантазировать: то обстрижется совсем коротко, то опять запустит волосы, зачесывая их на лоб, на глаза, то зачесывая их назад. Но при мне, — вспоминал Галаган, — Гоголь носил волосы довольно длинные и усы несколько коротко подстриженные», как на портрете, написанном в 1841 году художником Ф. А. Моллером и впоследствии гравированном Ф. И. Иорданом.
Говоря о религиозном настрое души Гоголя, Григорий Павлович свидетельствовал: «Один раз собирались в русскую церковь все русские на Всенощную. Я видел, что Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю, потому что в церкви было слишком душно, и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны»[54]…
Ко времени жизни бок о бок с Гоголем в Риме на Via Felice Чижов уже успел оценить самобытный талант писателя-художника. Еще в 1836 году в одном из петербургских литературных салонов он читал вслух «Старосветских помещиков», и собравшиеся не скрывали своих чувств: «Все плакали, у меня слезы лились ручьем», — записал Чижов, потрясенный[55]. Примерно в это же самое время в доме Галаганов в Петербурге Чижов снова читал Гоголя — на этот раз «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», и его ученик Григорий Галаган был в восторге: «Все так смеялись, что в боку кололо»[56]. А в дневниковой записи Чижова, сделанной в Дюссельдорфе в августе 1842 года, встречаем следующий отзыв: «Вчера взял у Жуковского „Мертвые души“ Гоголя и сегодня кончил — хороши, очень хороши, хотя есть места вялые. Вообще он не так знает Россию, как Малороссию, это раз. Другое — ему не нужно говорить о гостиных и женщинах, — и те и другие дурны, сильно дурны. Но сколько души в самых простых сценах. Кучер его — это Поль Поттерова[57] коровка; просто, ничто само по себе, а трогает сердце»[58].
Чижов пытался разгадать загадку гениальности Гоголя. Интуитивно он понимал, что сочинения Николая Васильевича, как и все великие произведения мировой литературы, — это главным образом феномен языка, а не идей. Отсюда поставленная перед самим собой задача: «Очень не худо сблизиться с его (Гоголя. — И. С.) языком. Сколько я помню, у него много оригинальности в самом слоге и особенно, кажется, это заметнее всего в „Мертвых душах“»[59].
Снова и снова внимательнейшим образом перечитывал Чижов все, изданное к тому времени Гоголем, подобно въедливому грамматику вел математически скрупулезный подсчет погрешностей против общеупотребительных языковых норм: «он шлепнулся лбом — этого русский не скажет»; «сидел… не слишком толст, не слишком тонок — нельзя по всей строгости сказать без глагола „был“. Сокращенные прилагательные всегда подразумевают глагол; следовательно, если нет глагола, подразумевается „есть“ и не ладится с прошедшим временем»; «(он выбежал) весь длинный — не по-русски»; «подавались блюда — и потом винительный падеж пулярку»; «заснул два часа — „заснул“ нельзя сказать — сколько или, если можно, то неопределенно»[60].
Вместе с тем Чижов сознавал, что характер ошибок Гоголя — «ученический», нисколько не связанный собственно со слогом; есть еще душа языка, которая не поддается рассудочным подсчетам: «Не знаю, с чего мне показался дурным и несовершенным его язык. Теперь он мне кажется превосходным… Везде он в рамках рассказа, везде сам язык ровно в ладу с содержанием и ходом дела. В самих отступлениях он именно таков, каким нужно быть ему, чтоб выказать грусть, наполняющую душу писателя. Есть прогляды, никак не более; разумеется, хотелось бы не видеть их; но что же это такое? — не больше как почти типографические ошибки»[61].
Постепенно Чижов внутренне созрел к тому, чтобы принять литературный и нравственный авторитет Гоголя как неоспоримую и безусловную ценность. Он благодарит Провидение за предоставленное ему счастье близко знать великого малоросса. «С душой вашей роднится душа беспрестанно», — признавался он в одном из писем к писателю[62]. Неустанное самосовершенствование Гоголя, его нравственный максимализм и взятое на себя бремя наставничества вселяли чувство преклонения перед гением. Чижову иногда казалось, что Николай Васильевич предугадывал малейшие движения его души: «Гоголь, судя по его сочинениям, чувствует и глубоко чувствует все то, что мне кажется… я чувствую один»[63].
Отныне сочинения Гоголя, своеобычие их языка и художественное совершенство превращаются для Чижова в мерило требовательности к самому себе как литератору и рождают чувство отчаянной неудовлетворенности личными достижениями: «Гоголь работает и, как видно, работает сильно. Не может быть, чтобы такая перемена в языке, какая видна в его сочинениях, начиная от его „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ и до „Мертвых душ“, совершилась без большой работы. Художественное совершенство происходило внутри него, но тут есть еще внешнее совершенство формы… Я тоже работаю, тоже стараюсь об обработке своего языка, а между тем все или большая часть того, чем я являюсь в обществе, плохо и сильно плохо»[64].
Однако нельзя сказать, что результатом частых встреч и тесного общения в Риме этих двух незаурядных личностей было исключительно одностороннее влияние Гоголя на Чижова. Гоголь, в свою очередь, высоко ценил ум Чижова, его знания, энциклопедическую начитанность в области изобразительного искусства и архитектуры, а также его самозабвенную преданность и отзывчивость в отношении близких им обоим людей — Языкова и Иванова. Свидетельством этому являются дошедшие до нас письма.
Расставаясь, Гоголь обычно просил Федора Васильевича писать ему как можно более обстоятельно, излагать свои мнения и оценки как можно более подробно, чтобы в них слышна была сама жизнь. «Я как-то ощущаю, что вы считаете меня чем-то сильнее и больше, нежели как я есмь», — приходилось оправдываться смущенному Чижову[65].
Общение с Чижовым в период работы над вторым томом «Мертвых душ» в какой-то степени повлияло на творческие замыслы Гоголя. Как раз в это время он пересмотрел свое отношение к предыдущему тому, в котором Россия, по его убеждению, была представлена однобоко, в насмешливо-критическом тоне. Теперь он решил перенести действие поэмы в самое средоточие страны, к расположенным у волжских берегов городам, и прежде всего в Кострому, где развилась русская народность, ее дух и язык, откуда берет истоки государственность Российская. И соответственно, герой Гоголя Чичиков на этой святой земле должен был предстать уже не пошлым и странным аферистом, занятым приобретением фиктивного имения, но натурой глубокой, с большим и разносторонним внутренним содержанием, честным трудом наживающим миллионы, которые так или иначе работают на благо отечества, умножая народное богатство.
Николай Васильевич никогда не бывал на Волге. Маршрут его путешествий по России удивительно однообразен: Полтава — Москва — Петербург и обратно. Поэтому из соседства на Via Felice костромича Чижова была извлечена максимальная практическая польза. Чижов знал жизнь волжан, их обычаи и нравы не понаслышке, его устная и письменная речь обильно перемежалась народными пословицами и поговорками; цветы и травы, птицы и животный мир этого края — то есть все, что интересовало Гоголя, что было необходимым инструментарием для его работы, — было Чижову ведомо. В записных книжках Гоголя появляются «Слова волжеходца», а в рубрике «Замечания для поручений» описывается со многими подробностями костромской Ипатьевский монастырь.
Глава пятая
«ТЫ, БРАТЕ, РУС»
Лето 1843 года стало переломным в жизни и идейных исканиях Чижова. С этого времени он неожиданно для себя увлекся славянским национально-освободительным движением в землях, входивших в состав Габсбургской и Османской монархий, сблизился с его вождями («будителями») и начал развивать идеи об особой миссии славянства в обновлении дряхлеющего Запада, о роли Православной Церкви как краеугольного камня будущего единения славянских племен.
В России интерес к зарубежным славянам возник в середине XVIII века. По мере накопления сведений о южных и западных славянах усиливалось понимание общеславянских исторических и культурных связей, делались неоднократные попытки определить роль славян в мировой истории, начинали изучаться их языки, литература, история, этнография, право, фольклор. К концу первой половины XIX века в землях южных и западных славян побывало немало русских путешественников и ученых-славистов. Среди них был и Федор Васильевич Чижов.
Еще летом 1841 года по пути в Дрезден он встретился в Праге с известным поэтом и филологом, видным деятелем чешского национального Возрождения Вацлавом Ганкой, которому он должен был вручить только что вышедший в Петербурге томик стихов Михаила Юрьевича Лермонтова. Между ними состоялась долгая, дружественная беседа. Тогда, по словам Чижова, «славянские идеи Ганки», то есть понятия о близости всех славянских племен между собой и их будущем сближении, увлекли его, но не оставили почти никакого следа[66].
В конце июля — начале сентября 1843 года Чижов совершил пешеходное путешествие из Венеции в бывшие ее владения: Истрию, Далмацию и Черногорию, — для сбора материала к задуманной работе по истории Венецианской республики. Встречи и беседы с местным славянским населением заставили его окончательно определиться в вопросе о славянстве. «В продолжение всего этого путешествия, — вспоминал Чижов, — я видел самое пламенное сочувствие ко мне как русскому. На всяком шагу я встречал знаки любви и глубокого уважения к имени русского… Народ любит русских за веру и за то, что у нас есть много общего в простоте нравов. Черногорье было последним местом, которое совершенно привязало меня к славянам и заставило невольно всем моим понятиям сосредоточиться на этом вопросе, о котором до этого мне не приходило в голову. Все, кого я ни встречал из народа, первым словом приветствовали меня: „Ты, брате, рус“, — и показывали тайно булавки с портретом „белого русского Царя“[67]»[68].
И действительно, отношение балканских славян к России было сродни обожанию: оттуда, с Востока, верили они, должна была прийти помощь в их многолетней борьбе с иностранным владычеством. Рассказывали, что в начале 1830-х годов старейшины так напутствовали вступавшего на черногорский престол поэта и просветителя Петра Петровича из династии Негошей: «Ничего не бойся, верь в Бога и смотри на Россию!» А еще раньше черногорский народ решительно отверг предложение Наполеона I заключить политический союз против России: «Если погибнет Россия, погибнут все славяне! Кто против России, тот против всех славян!..»
Изучая духовную жизнь зарубежного славянства, обнаруживая на конкретных примерах родство общеславянских культурных традиций, Чижов заинтересовался вопросами политического бытия братских народов и их участием в национально-освободительном движении. «Я всею душою отдался славянскому вопросу; в славянстве видел зарю грядущего периода истории; в нем чаял перерождения человечества», — писал он впоследствии[69].
Идея объединения всех славян в единое государство стала его заповедным верованием. В его понятия об их политическом будущем входили тогда мечты о конституции, о республике, и он, «давши себе полную волю, на несколько времени сделался более славянином без роду, без племени, чем русским»[70]. Можно предположить, что славянская республика представлялась Чижову в виде федерации. В это время федеративные идеи были широко распространены в европейских, и в частности славянских, странах. В России мысль о создании славянской федеративной республики нашла свое отражение еще в программных положениях декабристского Общества соединенных славян и «Конституции» Никиты Муравьева.
Чижов не был склонен к теоретизированию на тему об организационных формах единого славянского союза — его деятельность чаще всего носила характер практической помощи национально-освободительному движению в землях южных и западных славян. В условиях проводимой австрийским правительством политики денационализации подвластных народов путем их окатоличивания Чижов много внимания уделял положению Православной Церкви в империи Габсбургов. Ведь Православие для большинства славян ассоциировалось с этнической принадлежностью, а православное духовенство играло немаловажную роль в деле национального сопротивления.
Однажды в 1843 году, путешествуя по Истрии, Чижов зашел в православную церковь селения Перой близ города Пола, которая поразила его крайней бедностью. По названию церковь была греческой, но в действительности — русской: богослужение в ней совершалось по киевским печатным книгам. В ответ на расспросы священнослужители с горечью посетовали на почти полное отсутствие книг, утвари и риз, необходимых для церковных служб. С помощью костромича Платона Васильевича Голубкова, миллионера и золотопромышленника, Чижов организовал доставку из России к границам Австрии почти на три тысячи рублей икон, облачений и богослужебных книг. На его призыв откликнулся также филолог Василий Алексеевич Панов, будущий редактор славянофильских «Московских сборников», — весь доход от изданной им в 1842 году брошюры «Путешествие по землям западных и южных славян» он направил на приобретение утвари и книг для Перойской церкви. Чижов лично перевез все присланное по Адриатическому морю в ближайшую к Перою гавань Ровоньо и чуть было не попал в руки австрийских солдат. Предупрежденные о приезде Федора Васильевича и вышедшие навстречу вооруженные далматинцы защитили его.
История с нелегальной доставкой церковного имущества послужила поводом для целой серии доносов на Чижова австрийского правительства и агентов Третьего отделения. Это не могло не вызвать настороженности официального Петербурга, в котором хорошо помнили о славянских симпатиях декабристов. К тому же русская дипломатия, добившись в конце 30-х годов XIX века преобладающего влияния в Константинополе и чрезвычайно выгодного для себя русско-турецкого союза, была заинтересована в сохранении status quo на Балканах. Помимо Турции, заигрывание со «славянской идеей» вело к осложнениям с союзной Австрийской империей, вовсе не расположенной к удовлетворению национально-политических требований подвластных ей славянских народов.
Собственно, о славянофильстве как о новом направлении общественной мысли в России Чижов впервые узнал в конце 1842 — начале 1843 года в Риме, когда произошло его знакомство с Николаем Михайловичем Языковым. Поэт был тесно связан со славянофильским кружком в Москве (его сестра, Екатерина Михайловна, была замужем за главой славянофилов Алексеем Степановичем Хомяковым). Сойдясь с Языковым совершенно по-братски, видясь и беседуя с ним чуть ли не ежедневно, Чижов заинтересовался его рассказами о новых явлениях в идейной жизни России, о противоборстве двух станов — славянофилов и западников, по-разному понимающих историческую роль и призвание России, по-разному отвечающих на вопрос о путях ее дальнейшего развития.
С конца 30-х годов XIX века, то есть со времени формирования доктрины славянофилов, славянский вопрос вошел составной частью в систему их взглядов; на славянский православный мир они распространяли все теоретические положения, выработанные ими для России. Славянофилы изучали труды идеологов зарубежного славянского движения, поддерживали с ними личные связи. В 40-е годы XIX века в землях южных и западных славян побывали почти все главные члены славянофильского кружка.
В Черногории Чижов встретил путешествующего в это время по славянским странам знакомого Языкова Василия Елагина, сводного брата славянофилов Ивана и Петра Киреевских. В письме к Языкову от 12 ноября 1843 года Чижов с восторгом писал о Елагине: «Я с наслаждением любовался в его лице всем новым поколением… Молод он… а что за прелесть и сердце, и детская простота души. Какая ужасная разница получить воспитание в Москве и Петербурге. Славный, славный молодой человек. Он страстный обожатель славянизма, — в этом мы с ним столковались»[71].
Вернувшись в сентябре 1843 года в Италию, Чижов сблизился с другом Елагина славянофилом Александром Поповым. Здесь же он повстречал и кузена Григория Галагана Николая Ригельмана, с которым познакомился еще три года назад в Сокиренцах. Внук известного украинского историка, автора «Летописного повествования о Малой России» Александра Ивановича Ригельмана, он хорошо знал Александра Попова и считал себя тоже славянофилом, но малороссийского толка. Подобные дружеские контакты расширили круг знакомств Чижова среди людей славянофильского круга.
Глава шестая
ПАРИЖ
На исходе весны 1844 года Чижов отправился в Париж, главную лабораторию общественно-политических теорий того времени, чтобы убедиться в истинности близких ему славянофильских взглядов. В Париже он предпринял попытки познакомиться с «представителями польских партий и мнений», а также с «французами различных сект: фурьеристами, сенсимонистами, коммунистами и мютюалистами»[72].
Теории утопического социализма не удовлетворили Чижова прежде всего потому, что они, по его мнению, весь свой интерес сосредоточивали лишь на одной материальной стороне жизни человека. Вместе с тем для него была ясна историческая необходимость их появления: «Я видел и вижу, что настоящий порядок европейской нравственной, умственной, политической и гражданской жизни нисколько никого не удовлетворяет… что все системы Сен-Симона, Фурье и всех социалистов не прихоть, а необходимость как-нибудь выйти из того, что теснит» народы; таким образом, эти социальные теории являются следствием «хода и устройства самой жизни»[73].
За полторы недели до приезда Чижова во Францию в Париже побывал его новый знакомый Александр Николаевич Попов. Цель его поездки во Францию была прозаична и в то же время благородна — он привез крайне нуждавшемуся в средствах польскому поэту Адаму Мицкевичу деньги, собранные «москвичами» (Хомяковым и др.).
Славянофилы питали симпатию к личности Мицкевича и его взглядам, во многом схожим со славянофильскими (акцент на общинном устройстве жизни славян, убежденность в том, что прогрессивное развитие Западной Европы уже завершено, отрицательное отношение к реформам Петра I, насильственно внедрившего в русскую жизнь чуждые славянскому духу европейские порядки). Интересна в этом смысле дневниковая запись А. И. Герцена, сделанная им в феврале 1844 года: «Мицкевич — славянофил, вроде Хомякова и C-nie, со всею той разницей, которую ему дает то, что он поляк… Мицкевич говорит, что разгадка судеб мира славянского лежит, сокрытая в будущем. Это говорят все славянофилы, но они… все же хотят отыскать отгадки в прошедшем»[74].
Во время своего пребывания в Париже Чижов в качестве славянофила-неофита проявил интерес к идеям Мицкевича. В Коллеж де Франс он прослушал лекции поэта из истории славянских литератур, а затем состоялось и их личное знакомство. В Мицкевиче Чижов увидел брата-славянина, горящего одним с ним «огнем славянолюбия». Как и Мицкевич, Чижов считал, что «славяне имеют особый орган понимания Бога» и поэтому им «суждено внести новое начало в мир человеческий, начало духа»[75]. Проповедь Мицкевича о необходимости взаимного сближения славянских народов и создания ими единого, основанного на федеративном принципе государства была воспринята Чижовым безоговорочно. «Мы сошлись как будто старинные друзья», — восторженно сообщал он в Рим художнику А. А. Иванову[76].
Чижов разделял мнение той части славянофильского кружка, которая признавала за Польшей право на независимое существование, и критиковал «политические утеснения», которым подвергались поляки со стороны трех держав: России, Австрии и Пруссии. «Я не нахожу в своей душе отзыва на несуществование Польши, и даже ум мой не провидит возможности совершенно уничтожить ее самобытность. Рано или поздно, но мне кажется, что она воскреснет», — писал он в своем дневнике[77]. Разумеется, такой взгляд на Польшу еще больше сблизил Чижова и Мицкевича.
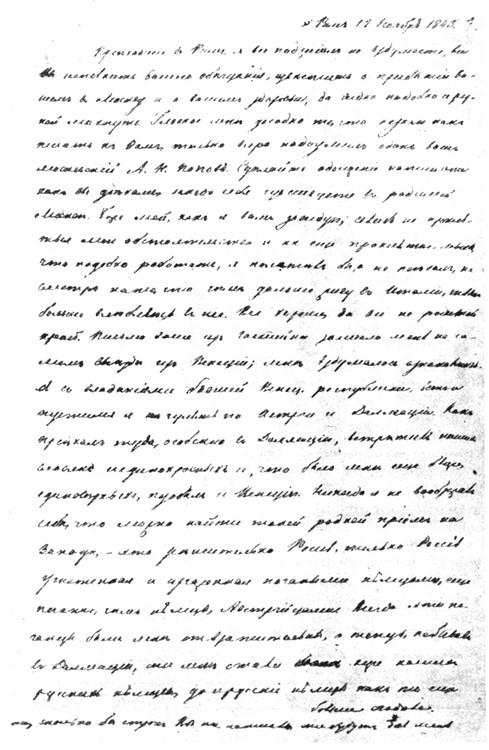
Письмо Ф. В. Чижова к Н. М. Языкову от 12 ноября 1843 года. Первая страница. ИРЛИ (Пушкинский Дом).
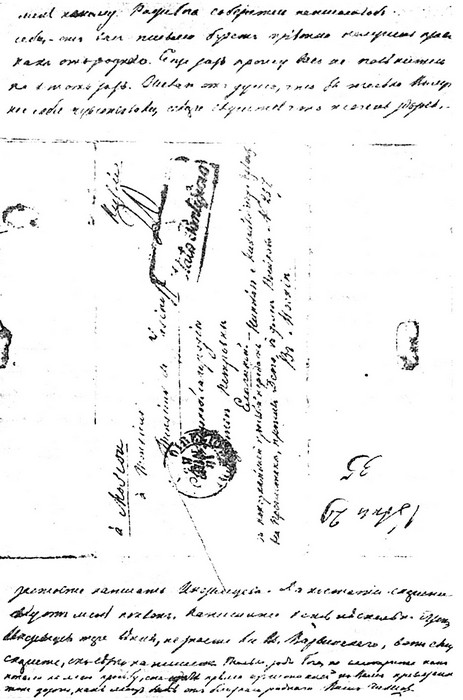
Письмо Ф. В. Чижова к Н. М. Языкову от 12 ноября 1843 года. Четвертая страница. ИРЛ И (Пушкинский Дом).
Вместе с тем по некоторым другим, не менее принципиальным, вопросам между ними возникали существенные разногласия. В письме к Языкову Чижов объяснил это тем, что Мицкевич, «хотя и славянин душою и телом, но все-таки славянин западный»[78]. Его смущал экзальтированно-болезненный мистицизм Мицкевича. Притязание поэта на признание за поляками особой исключительности вызывало у Федора Васильевича решительный протест: польский народ не имел сил сохранить свое независимое существование, тогда как «только одни русские из всех славянских народов удержали полную самостоятельность… Это же значит что-нибудь!» — доказывал он[79].Кроме того, Чижов категорически возражал против участия Франции как союзницы славян в деле их национального освобождения и вступления на мессианский путь спасения человечества. Насколько уже к этому времени были сильны славянофильские убеждения Чижова, говорит выдержка из его письма к Языкову, посвященная его полемике с Мицкевичем по вопросу о Франции: «Я вскочил с места, — это не слово славянина, это влияние западной крови, это мысль поляка, а не славянина, то есть того, что есть в поляке неславянского. Я говорю, и говорю со всею силою, даже до того, что, наконец, ударил кулаком по столу и слеза заблестела на глазах: нет, мертвому, изгнившему Западу не вести живые силы Востока на святое дело человечества! Я был так этим выведен из покойного положения, что хотел продолжать, но он (Мицкевич. — И. С.) просил <меня> остаться… в дружбе нашего единства убеждений, и я пока оставил этот вопрос»[80].
Вывод, который Чижов сделал в результате общения с великим польским поэтом, был однозначен: «У него много такого, что мне очень и очень пригодится»; «Что-то я получу от Мицкевича, но что бы ни получил… всего надобно искать в себе самом, а не вне себя»[81].
Здесь же, в Париже, на квартире у П. Ф. Заикина, состоялась встреча Чижова с Михаилом Александровичем Бакуниным, который в эти годы занимался усиленной пропагандой идеи выхода славян из состава Австрийской, Турецкой и Российской империй и объединения их в единую славянскую федерацию. Между Чижовым и Бакуниным разгорелся спор о судьбах славянского мира. При этом Чижов остался собой недоволен: «Я громко защищал великое назначение славян, но довольно слабо. Не знаю, оттого ли, что не имею навыка спорить…»[82]
Десять лет назад, во времена никитенковских «пятниц», Чижов видел в конституционной монархии во Франции образец для России. Оказавшись в Париже, он, отдавая дань своим былым воззрениям, интересовался работой палаты депутатов французского парламента и даже однажды посетил ее заседания. Половинчатый конституционализм буржуазной монархии Луи Филиппа вызвал у Чижова чувство раздражения: «Имя короля… французов не выходит у меня из головы; можно ли что-нибудь предположить глупее этого: лить реки крови, перевернуть все до самых основных строений… и остановиться на самом глупом предрассудке: король нужен потому, что он существовал несколько веков, вот и вся его необходимость»[83].
Сам Париж с его яркими социальными контрастами произвел на Чижова неблагоприятное впечатление. «Повсюду столпотворение народа; вечное празднество рядом с вечно рабочею жизнью, — празднество для достаточных, тяжкие работы, труд без отдыха — для бедного», — писал он в своих путевых заметках, опубликованных в славянофильском «Московском литературном и ученом сборнике». Со смешанным чувством сострадания и негодования описывал он уличную сцену возле трактира: обитатель парижского «дна», бедняк, паупер, «роется в сору, чтобы заработать несколько сантимов»; «хлеб с водою — вот и вся его пища…» Подобного рода наблюдения приводили Чижова, с одной стороны, к выводу об обреченности «старых», отживших свой век, терзаемых социальными противоречиями стран Западной Европы; с другой — убеждали его в истинности славянофильских пророчеств о том, что «только простой, пока еще не испорченной природе» славян, и прежде всего русскому народу, суждено вернуть западноевропейскую цивилизацию к гармонии «внутренних и внешних сторон ее существования»[84].
В дневниковой записи от 31 декабря, подводя итог уходящему 1844 году, Чижов с удовлетворением отметил упрочение своих новых социально-политических воззрений: «Особенно сильно развилось понятие о значении и назначении славянского племени; этим я много обязан моему путешествию в Париж»[85].
Глава седьмая
НОВООБРАЩЕННЫЙ ДРУГ
Прошедший 1844 год оказался знаменательным для Чижова еще по одной причине — осенью в монастыре голландского города Виттема состоялась его последняя перед более чем четвертьвековой разлукой встреча с другом юности, кумиром петербургских «пятниц» Владимиром Сергеевичем Печериным, бежавшим в середине 30-х годов на Запад и принявшим католичество.
…Запрет на выезд подданных Российской империи за границу, связанный с революционными волнениями в странах Западной Европы, не просуществовал и года. Уже в следующем 1833 году, в марте, Печерин, успешно окончивший Петербургский университет со степенью кандидата, был послан в числе шестнадцати молодых ученых в Берлин на двухгодичный срок для подготовки к профессуре.
Сделав остановку в Риге, Печерин отправил в столицу письмо, весьма характерное для его душевного состояния в то время: «Первый день — браните меня, как хотите, — я плакал, как дитя, — писал он друзьям. — Всё моё блестящее будущее затмилось: я видел только ужасные два года, отделяющие меня от Петербурга… Приветствуйте от меня всю нашу незабвенную „пятницу“, всех и каждого. Душеньку Чижова поцелуйте за меня». И подписался: «Г. Печерин, рыцарь, едущий в Палестину. В своей прекрасной родине он оставил все сокровища своего сердца, а впереди раскрывается мало-помалу перед ним обетованная земля, где сияет ему навстречу вечное солнце Истины»[86].
Спустя два с половиной месяца, уже в Берлине, городе, который даже после смерти Гегеля оставался столицей гегельянства, Печерин еще надеялся, углубив свои познания, быть полезным родине, томился вдали от «любезного Петербурга», огорчался отсутствием писем от друзей: «Жестоко не иметь так долго от вас известий! Как процветает наша „пятница“? Как живут и развиваются мои юные друзья, исполненные свежей поэтической жизни? Как уживаются их (или лучше: наши) прекрасные идеалы и надежды с враждебною действительностью?»[87]
Перелом в умонастроениях Печерина наступил во второй половине 1833 года. Во время вакаций, путешествуя по Швейцарии и Италии, он оказался в самой гуще национального и социально-освободительного движения Европы, познакомился с различными течениями революционной демократии, стал изучать произведения социалистов-утопистов. В декабре 1833 года он возвратился в Берлин, обуреваемый романтической жаждой борьбы и революционной деятельности. Для него утопический социализм стал не просто учением о социальном переустройстве, но своего рода верой, вдохновляющим идеалом. «До тех пор у меня не было никаких политических убеждений вообще, — признавался он впоследствии Чижову. — Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом, со временем, попасть в будущую палату депутатов конституционной России, — далее мои мысли не шли. В конце 1833 года вышла в свет брошюра Ламенне „Paroles d’un croyant“[88], наделавшая тогда много шума. Это было просто произведение сумасшедшего, но для меня оно было откровением нового Евангелия. Вот, думал я, вот она, та новая вера, которой суждено обновить дряхлую Европу! Эти великодушные республиканцы, которых теперь влекут перед судилища, — святые мученики; присоединиться к их доблестному сонму, разделить их труды и опасности, пожертвовать жизнью святому делу — вот благородная и возвышенная цель. Политика стала для меня религией, и вот ее формула: республика есть республика, и Маццини[89] ее пророк!»[90]
Академические лекции немецких профессоров перестали интересовать Печерина, за исключением лекций правоведа Ганса, ученика Гегеля, которые он слушал буквально со слезами на глазах. «Красноречивый профессор, — восторженно сообщал Печерин друзьям в Петербург, — доведши историю до последней минуты настоящего времени, в заключение приподнял перед своими слушателями завесу будущего и в учении сенсимонистов и возмущении работников (coalitions des ouvriers) показал зародыш настоящего преобразования общества. Понятие „чернь“ исчезнет. Низшие классы общества сравняются с высшими, так же как сравнялось с сими последними среднее сословие. История перестанет быть для низшего класса каким-то недоступным, ложным призраком — нет! история обымет равно все классы; все классы сделаются действующими лицами истории, и тогда она сольется в одну светлую точку, из которой начнется новое, совершеннейшее развитие. Таким образом исполнится обещание христианской религии; таким образом христианство достигнет полного развития своего!»[91]
Между тем близящееся возвращение в Россию, в «огромный Некрополис», пугало и повергало в отчаяние. Оттуда поступали вести о расправе над московскими студентами, проходившими по «Сунгуровскому делу», о подавлении попытки нового восстания в Польше, о закрытии «Московского телеграфа», об арестах А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. М. Сатина. «Русских везде в Германии, не исключая и Берлина, ненавидят… Одна дама пришла в страшное раздражение, когда наш бедный студент как-то вздумал защищать своих соотечественников. „Это враги свободы, — кричала она, — это гнусные рабы!..“» Так описывал один из молодых ученых, приехавший в Петербург из Берлина и доставивший членам «пятницы» письмо от Печерина, ту враждебную атмосферу, в которой они находились[92].
Жизнь в обстановке неприязненного отношения к России и русским превратила Печерина в убежденного космополита: «Глыба земли — какое-то сочувствие крови и мяса — неужели это отечество?.. Я родился в стране отчаяния! друзья мои, соединитесь в верховный ареопаг и судите меня! Вопрос один: быть или не быть? Как! Жить в такой стране, где все твои силы душевные будут навеки скованы — что я говорю, скованы! — нет: безжалостно задушены — жить в такой стране не есть самоубийство? мое отечество там, где живет моя вера!»[93]
Как ни стремился Печерин отдалить встречу с «бесплодными полями безнадежной родины», в 1835 году ему пришлось возвратиться в Россию с отчаянием в душе и твердым намерением уехать за границу при первом благоприятном случае.
Настроение Печерина еще более ухудшилось, когда он узнал о своем назначении в Московский университет на должность экстраординарного профессора греческого языка и словесности. В Петербурге оставались друзья, туда долетали «теплые западные ветры». Москва же была для него совершенно чужим городом, где еще резче, чем в Петербурге, обнаруживался неевропейский образ жизни и где предстояло погрузиться в омут обывательщины. «Может быть, — писал он, — в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь; но разгульная Москва с ее вечными обедами, пирушками, вечеринками и беспрестанною болтовнею вовсе не шла к тому строгому и грустному настроению, с каким я возвращался из-за границы»[94].
Чижов более других был посвящен в душевные переживания Печерина. Во все время пребывания друга в Москве в Петербург Федору Васильевичу шли письма, полные отчаяния: Печерин писал, что «задыхается в Москве», жаловался на «скуку смертельную», уверял, что ни за что «не амальгамируется с Москвою»[95].
Начало его преподавательской деятельности в Московском университете совпало с введением нового общеуниверситетского устава 1835 года, который полностью ликвидировал университетскую автономию и предписывал осуществлять бдительный контроль за чтением лекционных курсов. Тем не менее Печерин сумел превосходно поставить преподавание своего предмета, соединяя, по свидетельству И. С. Аксакова, с замечательной эрудицией живое поэтическое дарование и чутко отзываясь на все общественные вопросы своего времени[96]. Самые благоприятные отзывы о лекциях Печерина оставили также М. П. Погодин, Ф. И. Буслаев, Ю. Ф. Самарин, граф П. А. Валуев, В. В. Григорьев, сами слышавшие их в Московском университете или воспроизводившие свидетельства близких им лиц.
Наряду с исполнением должности экстраординарного профессора Печерин, как казалось, увлеченно работал над диссертацией, о чем и писал Чижову: «…манускрипт мой ужасно растет»[97]. Никто, даже петербургские друзья Печерина, не подозревали о сложной и мучительной работе, совершавшейся в его душе: он томился в ожидании случая для бегства за границу, чтобы непосредственно включиться в общеевропейскую революционную борьбу. В швейцарской кондитерской, находившейся неподалеку от Московского университета, он читал гамбургские газеты, в которых с жадностью глотал встречавшиеся сообщения о далеком Лагранже — глухом местечке в Швейцарии, где временно обосновался скрывавшийся от преследований французской полиции один из борцов за национальное освобождение и объединение Италии Джузеппе Мадзини. Туда, к этой «святыне», рвалась его душа…
В июне 1836 года, получив на время летних вакаций заграничную командировку для завершения работы над диссертацией, Печерин навсегда оставил Россию, отрекшись от родных и друзей, занимаемого общественного положения, «весьма выгодного и обставленного всеми прелестями вещественного довольства», от, несомненно, блестящей, с точки зрения всех знавших его лиц, будущности, а главное — от «самовластья Николая I». И хотя Печерин сам выбрал для себя роль лишнего человека в своем отечестве (не случайно литературоведы — А. А. Сабуров и В. А. Мануйлов — считали его в какой-то степени прототипом лермонтовского Печорина), все же его эмиграция, наряду с «Философическими письмами» Чаадаева, явилась свидетельством непримиримости части оппозиционно настроенного общества с российской действительностью тех лет.
Итак, один из представителей второго поколения дворянских революционеров («Протест заявляют впервые декабристы, и потом идут вот такие люди, как Печерин», — скажет Л. Н. Толстой[98]), не видя внутри России реальных сил для борьбы с самодержавием, вырвался из «душной атмосферы рабства» на, как ему казалось, свободный и вольный воздух Западной Европы.
Посетив Лагранж, Печерин почти на год поселился в Лугано, который был в то время «фокусом революции», сборным местом мадзинистов. Из серии писем, отправленных оттуда Чижову, в архиве последнего сохранилась только часть. В одном из них, датированном декабрем 1836 года, Печерин, все еще ни слова не говоря о своих намерениях, «заклинает» друзей выслать ему денег. Догадываясь о роковом решении, принятом Печериным, Чижов показал письмо членам «пятницы». На совете, собравшемся в составе Чижова, Гебгардта, Поленова и Никитенко, постановили выслать Печерину нужную сумму для его скорейшего возвращения в Россию.
В апреле 1837 года на имя Чижова снова пришло письмо, в котором Печерин уже определенно сообщал, что решил навсегда оставить Россию, так как «не создан для того, чтобы учить греческому языку», что он чувствует в себе «призвание идти за своей звездой, а звезда эта ведет его в Париж» — «Мекку» для тех, чьи мечты всецело устремлены к переустройству мира[99].
Члены петербургской «пятницы» были огорчены полученным известием по двум причинам: во-первых, они теряли друга, на которого возлагали самые большие надежды (современники утверждали, что Печерину в России суждена была будущность главы московских западников Т. Н. Грановского); во-вторых, поступок Печерина, считали они, мог негативно сказаться на всей системе высшего образования страны и, в частности, привести к новому запрету стажировок молодых ученых за границей. Чижов же, может быть единственный из всего кружка, осуждал Печерина прежде всего за то, что тот посмел оставить родину, пусть несовершенную, но именно оттого как нельзя более нуждающуюся в умных, честных, совестливых людях, способных ее преобразить. Пересылая Печерину деньги, собранные членами «пятницы», Чижов с возмущением писал: «Теперь мы стоим в неприятельских лагерях; все, что мы можем иметь между нами общего, должно относиться собственно к нам или лучше к тому чувству дружбы, которое может идти независимо ни от каких внешних обстоятельств… Образ твоих мыслей, порядок вещей, понятия людей, тебя окружающих, совершенно противоположны моим… и потому все, что бы ты ни писал ко мне, кроме самого себя, будет мне чуждо… переписка с тобою, выходящая из пределов нашей дружбы, может навлечь подозрение, что я разделяю с тобой чувство нелюбви к родине[100]»[101].
В первые годы пребывания за границей Печерин стремился возобновить прежние связи с представителями революционной эмиграции различных стран, завязанные им еще в 1833–1834 годах, изучал «коммунизм Бабефа, религию Сен-Симона, систему Фурье». Однако, несмотря на страстное желание проявить себя на «блистательном и героическом поприще» революционно-политической деятельности, Печерин так и не смог найти применение своим знаниям и силам. Тем временем кошелек его истощился. Начались годы злосчастных скитаний по дорогам Западной Европы. Он распродавал свою одежду, просил подаяния, ночевал под открытым небом, с радостью принимался за любой труд: торговал сапожной ваксой, служил секретарем у английского капитана-масона, которому за ничтожную плату переводил его проповеди на французский язык… Печерин подбадривал себя: «Теперь мой идеал осуществился. Доселе я был теоретическим республиканцем, a priori разглагольствующим о нуждах рабочего класса; теперь же я буду жить между работниками их собственною жизнию!»[102]
Испытывая нужду в единомышленниках-соотечественниках, Печерин предложил нескольким русским, в том числе Чижову, фантастический проект, «любопытную русскую робинзонаду эпохи Кабэ и Фурье»: ехать в Америку и там основать «образцовую» русскую общину. Земледельческий труд в ней предполагалось совмещать с литературным творчеством и издательской деятельностью. Честолюбивая вера в свое незаурядное призвание и организаторские способности вселяла в Печерина убежденность в осуществимости этого намерения.
Среди бумаг Чижова сохранился черновик письма, написанный им в первой половине 1838 года некоему Лахтину, который являлся, как можно предположить, посредником в задуманном предприятии между Печериным и его друзьями в России. Оказавшись в сложной ситуации, когда участие в судьбе друга заглушалось страхом попасть в списки неблагонадежных за тайную связь с эмигрантом и участие в его секретных замыслах, Чижов подверг критике предложение Печерина в форме, рассчитанной на перлюстратора. Содержание письма говорит о стремлении Чижова уверить предполагаемого агента Третьего отделения в том, что он и лица, имена которых Печерин по неосторожности упоминал в своих корреспонденциях как потенциальных работников будущего фаланстера в Америке, — самые верноподданные сыны отечества. А донести правительству о печеринских письмах «самого странного содержания» он посчитал излишним потому, что не видел в них ничего, могущего отразиться на благосостоянии России, ибо предприятие тридцатилетнего Печерина — совершенно безрассудное и представляет собой всего лишь «бредни пылкого воображения», «поэтическую фантазию», «шалость осьмнадцатилетнего молодого человека».
Вместе с тем Чижов не отрицал того, что и он в прошлом всерьез увлекался социальными теориями Запада: «Я был в университете в то время, когда новая французская школа свирепствовала во всей Европе… К несчастью, мы подпали под эту струю истории и заплатили дань времени; многие из моих товарищей сформировались по образцам героев французских романов… Не могу вам сказать, что спасло меня, может быть, мои положительные занятия науками математическими…»
Хотя письмо к Лахтину для характеристики мировоззрения Чижова не показательно, ибо его автор не мог позволить себе быть искренним до конца, все же в нем явственно звучат те мысли и чувства, которые по прошествии нескольких лет лягут в основу убеждений будущего славянофила: «Я… воспитан в России, нет у меня… воспоминания, которое бы не соединялось с понятием о русском, нет надежды, не основанной на русском быте… Это одно невольно сливает мою будущность с моим отечеством». Ради этих взглядов Чижов готов был даже отказаться от дружеских связей с товарищем прежних лет «К Печерину я не могу отвечать ничего, — писал он Лахтину, — перепиской с ним я могу компрометировать себя, тем более что и нечего мне написать к нему утешительного… Мне горько думать, что, может быть, различие наших понятий разорвет узы нашей дружбы, — но я говорю ему и скажу каждому, что я готов пожертвовать всеми узами прежде, нежели решусь действовать, даже думать что-либо, могущее отделить меня от отечества, в котором только я и могу найти все элементы жизни и нигде больше».
Тем не менее Чижов оставлял за собой право писать к Печерину и предполагал летом того же года заехать к его отцу в Крым, чтобы передать просьбу сына о присылке денег[103]. Итак, друзья, оставшиеся в России, некогда с восторгом внимавшие дерзновенным мечтаниям Печерина и, казалось, готовые следовать за ним до конца, отвернулись, увидев в его предложении, да и во всех его поступках, не обдуманный и взвешенный план, а одну лишь юношескую поэтическую фантазию. Печерин при всем своем безграничном бунтарстве не имел качеств, необходимых для революционера: он был слишком «поэт» для будничной организационной работы. «Я хотел бы теперь заснуть и спать, спать до тех пор, пока судьба не разбудит меня и не скажет: твой час пришел! Ступай и делай!» — это признание Печерина из письма к Чижову весьма характерно для его образа мыслей и настроений[104]. На Голгофу революционной борьбы Печерина влекла театрально-аффектированная жажда личной славы: «Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь! О, Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни!..»[105]
Слепо с юношеских лет следуя за «своей звездой», будучи убежденным в своем избранничестве («Сам Бог с младенчества меня избрал, да буду я вождем Его народу»), Печерин, по мнению Чижова, столкнувшись с реальностью «иноземной» жизни, до этого знакомой ему лишь поверхностно, затаил обиду на тех, кто остался равнодушным к его идеям, кто «при его появлении не поднял знамя свободы и не провозгласил его своим диктатором»[106]. Он вынес горькое разочарование из общения с рядом «апостолов» западноевропейского утопического социализма: Грилленцони, Банделье, Угони, Бернацким, Фурденом, Лекуантом, Потоцким, — с их чрезмерным даже для него, истого мечтателя, прожектерством, суетностью, склонностью к патетике, нечистоплотностью в человеческих взаимоотношениях.
Любопытно, что в это же время, в октябре 1840 года, Н. П. Огарев писал А. И. Герцену: «Какая-то безнадежность и безысходность… Мы виноваты: мы вышли в жизнь с энергическим сердцем и с ужасным самолюбием и нагородили планы огромные и хотели какого-то мирового значения; право! Мы тогда чуть не воображали, что мы исторические люди. Ну, вот мы и разуверились, и нам душно; мы не знаем, куда приспособить потребности деятельности…»[107] В той же растерянности оказался и Печерин. Оторванный от родины физически, он оказался теперь оторванным от нее и духовно. Вскоре в Россию пришло известие, ошеломившее всех: в итоге четырехлетних скитаний на чужбине Печерин очутился… в католическом монастыре: 15 октября 1840 года он вступил в проповеднический орден редемптористов, известный своим крайним аскетизмом и подвижничеством.
Отныне тон и содержание его писем стали совершенно неузнаваемыми. «Верьте мне, друг, — обращался Печерин к Чижову, — что только Бог и Его бесконечная любовь может наполнить пустоту души, которая обманулась в самых дорогих стремлениях и которая, убедившись в бесплодности всех своих жертв, раздирается нестерпимым раскаянием… Да будет и вам дано понять когда-нибудь, как понял я эту великую истину, и оценить мир и его утехи по достоинству, то есть как пустоту и ничтожество!»[108]
Подобный переход от абстрактной, поэтически представляемой социальной утопии к религиозной вере был не единичным в то время: идейное развитие таких сенсимонистов, как Э. Буше и П. Леру, является наглядным тому подтверждением. Кроме того, автор монографии о Чаадаеве А. А. Лебедев отмечает, что «тот же, что и Печерин, в принципе путь прошел… к католицизму и Чаадаев. Но для последнего католицизм представлялся не формой отречения от своих былых воззрений, а своеобразным развитием их»[109].
В 1841, 1842 и 1844 годах Чижов трижды посетил «новообращенного» друга в Голландии, в монастыре города Виттема. Печерин выглядел умиротворенным и по-своему счастливым, еще не постигнув, по словам Чижова, «горького яда монашества и католицизма»[110]. В исполнении строгой регламентации, предписанной монахам-редемптористам, Печерин, казалось, находил пищу уязвленному самолюбию. Он упрекал Чижова и остальных друзей из петербургской «пятницы» за то, что они в свое время потворствовали его гордыне, внушали слишком высокое мнение о его дарованиях.
Чижов резко осуждал вероотступничество Печерина, произошедшее вследствие отрицания России, как заключительный момент этого отрицания. Он припоминал строчки из поэтических произведений друга: «Как сладостно — отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья!»; «Дотла сожгу ваш… храм двуглавый и буду Герострат, но с большей славой»… В них за кощунственной патетикой и авторским самолюбованием оказалось сокрыто пророчество всей дальнейшей трагедии Печерина.
Чижов пытался раскрыть другу глаза на те сети, которыми опутало его «латинство», убеждал, что монахам он полезен своею ученостью, обширными лингвистическими познаниями. В отношении к основам христианского вероучения у Печерина и Чижова было полное единодушие. Непримиримость возникала при обсуждении направлений христианства. Чижов отстаивал «соборный», религиозно-коллективный характер православного вероисповедания с его «первозданной чистотой и невмешательством в дела светской власти». Печерин же делал акцент на демократизме «обновленного католицизма», протягивающего руку науке, требующего свободы слова, совести, ассоциаций. Он был убежден, что посредством преобразования католической церкви во всемирный демократический союз человечество осуществит на земле чаемое веками царство счастья и справедливости. «Верь мне, друг, — писал он Чижову, — в звуках органа, сопровождаемых церковным песнопением, в дыме ладана, поднимающемся к небу сквозь солнечный луч, в любой иконе Богоматери — больше истины, больше философии и поэзии, чем во всем этом хламе политических, философских и литературных систем, которые меняются ежедневно, как картинки мод, и которые все неизменно, в конце концов, становятся смешными. История последних десяти лет дала нам важные и благотворные уроки… Мы стоим на пороге великого переворота в общественном мнении… Да, близится час, когда Церковь встанет победно над обломками мнимых философских систем»[111].
В свой последний приезд в Виттем к Печерину в сентябре 1844 года Чижов попытался поверить другу свои новые, сокровенные мысли, захватившие его целиком. Но Печерин не разделил его восторга. «Возведение на пьедестал славянских племен и поклонение им» Печерин расценил как очередное заблуждение, которое лишь на время может увлечь, но в конце концов разоблачит себя и пройдет, как проходит все в этом мире: «Истина одна и очень стара. Она не является принадлежностью какой-либо национальности. Нельзя изобретать новую религию, основанную на новой национальности… Истина — это Церковь»[112].
Чижов понял, что переубедить Печерина, склонить его «в свою веру» не удастся: как говорится, нашла коса на камень. Обиженный в своих лучших намерениях, он уехал из Виттема с твердой решимостью окончательно порвать с Печериным всяческие отношения.
Глава восьмая
СРЕДИ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ В РИМЕ
Зиму 1844/45 года, как и предыдущие, Чижов провел в Италии. К этому времени его искусствоведческие занятия приобрели определенную славянофильскую направленность и стали частью общеславянофильских эстетических исканий. Их основа — в убеждении: истинно художественное творчество невозможно вне национальных форм; произведения искусства должны основываться на народных началах. И наоборот: только тот народ имел отдельное, самостоятельное существование, который имел свое искусство[113].
Славянофилы считали, что искусство послепетровской России большей частью ненационально. Вопрос о «русской художественной школе… есть для нас вопрос жизни и смерти в смысле деятельности нравственной и духовной»[114]. С этим утверждением А. С. Хомякова Чижов был согласен безоговорочно: «Теперь, когда наша народность развивается и требует самостоятельности во всех явлениях жизни, должна ли она оставаться неподвижною в искусстве?» — спрашивал он в статье, написанной им в середине 40-х годов для одного из первых славянофильских сборников[115].
Свое пребывание в Риме Чижов использовал с максимальной пользой для пропаганды славянофильских эстетических воззрений. И полем его битвы за умы и сердца стала местная колония русских художников. В основном она состояла из лучших выпускников-пенсионеров Петербургской Академии художеств, отправленных на стажировку в Италию, а также из уже признанных мастеров живописи, скульптуры и архитектуры, которые подолгу жили и работали на Апеннинах (среди них были живописцы А. А. Иванов, И. К. Айвазовский, Ф. А. Бруни, А. В. Сомов, Ф. А. Моллер, В. А. Серебряков, И. С. Шаповаленко, скульпторы Н. С. Пименов, Н. А. Рамазанов, П. А. Ставассер, архитекторы К. А. Тон, Н. Л. Бенуа, И. А. Монигетти).
Как свидетельствовал Кривцов, инспектор над русскими художниками за границей, влияние Чижова как критика-искусствоведа, обладавшего основательными познаниями, природным даром убеждения и строжайшей самодисциплиной, было действительно благотворным. Федор Васильевич призывал развивать народные начала в творчестве, быть чуткими к главным вопросам времени, доказывал, что труд художника — род общественного служения.
Чижов был человеком веселым, общительным и открытым, умевшим привлекать и объединять вокруг себя людей, делая их единомышленниками. Поэтому не удивительно, что он стал одним из инициаторов создания, а впоследствии и лидером кружка, своего рода землячества, — еженедельных собраний русских художников в Риме. Они получили название «суббот». Если прежде цвет отечественного изобразительного искусства сходился вместе под небом Италии не иначе как для праздного времяпрепровождения: «кутежничества», игры в карты и бильярд, — то отныне молодые люди стали собираться вместе с целью художественного самообразования: для чтения и обсуждения лучших произведений русской и западноевропейской литературы и беллетристических опытов друг друга. Дневник Чижова того времени доносит до нас свидетельства о том, какие именно произведения выносились на суд кружка. Так, в одну из «суббот» декабря 1843 года был заслушан перевод с итальянского, выполненный Александром Поповым; затем, пишет Чижов, «читали мы русские вещи Хомякова. Я думаю всегда оканчивать чтение чем-нибудь русским, но только именно русским»[116].
Среди работавших в то время в Риме художников Чижов особенно выделял пейзажиста Е. Г. Солнцева, портретиста и мозаичиста И. С. Шаповаленко, исторического живописца В. А. Серебрякова. Каждый из них был чрезвычайно талантлив, но вдали от родины страдал от безденежья, сковывающего их созидательные силы. И Чижов в силу своей страстной натуры, принимавшей близко к сердцу идейные искания, творческие кризисы и неустроенность быта товарищей, стремился им помочь.
«Теперь в Риме появился дельный пейзажный живописец Солнцев, — писал он Н. М. Языкову в Москву, — он не пенсионер, у него нет средств»[117]. И Николай Михайлович, всецело доверяя художественному чутью и вкусу Федора Васильевича, живо откликнулся. Он заказал Егору Григорьевичу Солнцеву римский пейзаж, переслав через друзей щедрый аванс. Также по просьбе Чижова материальную и творческую помощь Солнцеву оказывали Н. В. Гоголь, А. А. Иванов и Г. П. Галаган.
Чижов нашел возможность поддержать и сына вольноотпущенного дворового человека, исторического живописца и портретиста Василия Алексеевича Серебрякова: меценатствующий торговопромышленник Голубков и его супруга заказали художнику картину «Вирсавия, пленяющая Давида», а Галаган — свой трехчетвертной портрет в украинском национальном костюме.
Обратил Федор Васильевич внимание друзей и на «препорядочного портретиста» 26-летнего Ивана Савельевича Шаповаленко. Молодой художник лишь недавно освободился от крепостной зависимости и был отправлен Обществом поощрения художников в Рим для изучения мозаичного искусства. Помимо решения проблем материальных, Чижов решил привлечь интерес публики к творчеству Шаповаленко особым образом. В своей пространной статье «О русских художниках в Риме», которая была напечатана в 1842 году в нескольких номерах «Санкт-Петербургских ведомостей» и была включена славянофилами в «Московский литературный и ученый сборник» за 1846 год, он посвятил талантливому украинскому живописцу несколько страниц с подробнейшим разбором его произведений[118].
Но наиболее близко в это время Чижов сошелся с Александром Андреевичем Ивановым. Гениальный художник занимал квартиру во втором этаже небольшого дома на склоне холма в окружении живописного сада со множеством яблонь, смоковниц, миндальных деревьев. Из его окон на фоне синих вершин альбанских гор открывалась величественная панорама Рима, уносившая воображение в первые века христианства. Именно здесь Ивановым было задумано грандиозное полотно «Явление Мессии», обессмертившее его имя. Впоследствии оно стало известно как «Явление Христа народу».
Густая виноградная аллея вела к мастерской Александра Андреевича, которая находилась в версте от его дома — на Via Sistina, возле церкви Святой Троицы. Она была нанята специально для работы над картиной огромных размеров. Стены ее сплошь были покрыты рисунками, расписаны углем и мелом; к ним были приставлены, а то и лежали прямо на полу эскизы, этюды, эстампы, картоны. И над всем этим художественным беспорядком возвышался легендарный холст, работу над которым хозяин мастерской, как правило, не прекращал с утра до позднего вечера: в пять часов он был уже на ногах у мольберта, в полдень — небольшой отдых и затем снова многочасовой труд вплоть до захода солнца.
Оказавшись впервые летом 1842 года в святая святых гениального соотечественника, Чижов был ошеломлен увиденным. «Иванов в нашей истории художеств будет одним из первых», — прозорливо предсказал он[119]. Александр Андреевич стал для Чижова воплощением идеала художника — бескорыстного, целеустремленного, безраздельно преданного искусству. Он горячо полюбил Иванова, и тот отвечал ему нежной привязанностью.
Александр Иванов испытал на себе влияние личного обаяния и глубоких искусствоведческих познаний Чижова. Кроме того, Федор Васильевич воспринимался им как советчик и опекун, обладающий неоспоримым авторитетом в житейских делах, в которых сам он был крайне несведущ. В ноябре 1844 года в письме к художнику Ф. А. Моллеру во Флоренцию Иванов писал: «У вас ли еще Чижов? Пожалуйста, скажите ему, чтобы он поторопился в Рим… Он сделался последней необходимостью для меня… Пожалуйста, Чижова… скорее в Рим!»[120]
Будучи свидетелем денежных затруднений, с которыми сталкивался скромный и порой излишне доверчивый Иванов, Чижов взялся ему помочь: без устали хлопотал о подыскании средств для успешного окончания многолетнего подвижнического труда художника, защищал его где только мог от обвинений в медлительности, доносившихся с разных сторон.
Чижов обратился с просьбой к В. А. Жуковскому, в то время воспитателю Наследника Великого князя Александра Николаевича, ходатайствовать перед своим Царственным учеником о денежном пособии Иванову. Через Федора Васильевича художник получал деньги и от других лиц, в том числе и от славянофилов.
16 декабря 1845 года студию Иванова посетил Император Николай I и удостоил незаконченный труд художника высокой оценки. «Цвет России много доволен, радуется и с нетерпением ждет моей картины, — поспешил сообщить Чижову Иванов. — Сам Царь тех же чувств»[121].
Итак, общими усилиями удалось добыть средства, дававшие художнику творческую свободу на определенный период. Но Федор Васильевич не успокоился. «Здесь затеяли <новую> подписку для Иванова, по просьбе Чижова, — писала Гоголю в мае 1846 года Александра Осиповна Смирнова-Россет, — не худо бы собрать 6000, это его обеспечит еще на два года; все это делается между людьми, его любящими как русского художника»[122].
«Ваша картина не только Ваше произведение, — убеждал Иванова Чижов, — мне в ней видна будущность целой школы»; «картина Ваша — достояние России»[123].
Столь же горячо об этом произведении Иванова отзовутся позднее и другие члены славянофильского кружка. Хомяков, подобно Чижову, увидит в «Явлении Мессии» новый уровень искусства. По его мнению, картина эта выражает не единичную сущность, но общую суть всего народа. Иванов является «в живописи тем же, что Гоголь в словесности и И. Киреевский в философском мышлении». В подобных шедевру Иванова произведениях «мы, русские, мы все, сдавленные тяжестью своего странного исторического развития, выбалтываем себе выражение и сознание». Картина Иванова, считал Хомяков, — произведение эпическое, ее можно сравнить лишь с «эпосом истинно народным». Та степень простоты, которой удалось достичь художнику, «встречается только в живописцах до-Леонардовского времени». Именно в верности «детскому», «иконописному» искусству и состоит новаторство Иванова[124].
Чижов сформулировал проблему соотношения искусства и христианства — одну из наиболее важных составляющих славянофильской эстетики — еще в Петербурге, заинтересовавшись историей искусств. Соседство в Риме с прославленным немецким художником Фридрихом Овербеком, автором вышедшего в 1840 году труда «Торжество религии в искусстве», посещение его мастерской и личное знакомство дали новый стимул размышлениям на эту тему.
Овербек основал в Италии братство «назарейцев», немецких и австрийских живописцев-романтиков, по идейным соображениям перешедших из протестантизма в католичество. Они уподобляли себя первым ученикам Иисуса из Назарета и считали своим покровителем евангелиста Луку, первого иконописца. «Назарейцы» стремились выразить в своем творчестве простоту и цельность христианского чувства, подражая художникам раннего Возрождения. «Благодаря им, — писал Чижов в своей статье „Джованни Анджелико Фиезолийский: Жизнеописание“, — мы открыли имена Перуджино, учителя Рафаэля, Доменика Гирландайо, Мазаччо, но более всего научились восхищаться едва земною чистотою произведений фра Беато Анджелико»[125].
Однако, по мнению Чижова, в творчестве «назарейцев» наглядно отразилась непреодолимая субъективность католицизма, подменявшая теплоту истинно христианского верования своеволием рационализма. Соотношение традиционной православной иконописи и западной религиозной живописи разрешалось в пользу «отечественного средневековья». Только русская икона создавала единство образа-молитвы. Только она сохранила в неприкосновенности верность преданию. Следовательно, и художнику XIX века надлежит подняться со степени живописца до уровня иконописца. Тем самым русское искусство спасалось как от мертвящего академизма, так и от рассудочной эклектики Запада.
«Искусство, — писал в это время Константин Аксаков, — есть язычество и несовместимо с жизнью христианскою… В нашей русской жизни, верою Православною основанной, оно быть, как искусство, самостоятельно не может: оно может принять лишь служебный характер, как принимает оно в иконописи»[126].
Чижов пытался определить, где проходит рубеж между личностью художника, искусством и велением Церкви, и приходил к выводу, что иконопись, выражая чувства религиозной общины, лишена индивидуального своеобразия, личностного переживания и потому наиболее полно и совершенно воплощает присущие русскому народу чувства глубокой религиозности и общинности. Именно она является исконным, природным для русского народа искусством. Чижов обращался к авторитету «Стоглава» 1551 года, наставлявшего иконописцев «отвергнуться в себе самом» и блюсти высоту нравственности: «Подобает быти живописцу смиренну, кротку, благоговейну… наипаче же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением».
«Иконопись ждет человека и ждет с нетерпением»[127], — провозглашал Чижов. Именно в творчестве Иванова уловил Федор Васильевич развитие древнерусской иконописной традиции. Он призывал художника быть творцом нового направления в живописи, возвращающей ее к простоте линий старых мастеров. «Пусть картины украшают стены салонов и гостиных, но им не место в церкви», — утверждал он. «… Какая должна быть у нас иконописная живопись? по моему крайнему убеждению, непременно старообрядская, то есть верная древним преданиям»[128], — и в качестве образцов посылал Александру Андреевичу древние раскольничьи иконы.
Иванов настолько увлекся идеями Федора Васильевича, что в конце 1844 года, едва прослышав о том, что Константин Тон будто бы хочет поручить ему создание монументального запрестольного образа «Воскресение Христово» для строящегося в Москве в русско-византийском стиле храма Христа Спасителя, приостановил на несколько месяцев работу над картиной «Явление Мессии», которую считал главным делом своей жизни, и приступил к воплощению замысла, давно вызревавшего в нем из бесед и переписки с Чижовым. Художник решил писать образ, а не историческую картину на религиозный сюжет. Чижов расценил это намерение Александра Андреевича как первую дельную попытку обратить русскую живопись к ее истокам. Столь ответственная работа стала бы продолжением художественного подвига Иванова, который бы непременно повлек за собой последователей[129].
Художник «двухмесячным чтением и думами приучал мысли… следовать в глубину нового предмета». Он делал соответствующие зарисовки в Ватикане, копировал старинные византийские образы[130]. В результате кропотливой работы стали последовательно появляться эскизы, основанные на соблюдении всех правил допетровской церковной живописной символики. Но предельно требовательный к себе Иванов был ими не доволен, о чем Чижов ставил в известность близкого им обоим Языкова, возвратившегося к тому времени в Москву: «Ал<ександру> Анд<реевичу> необходимо знать, как изображалось у нас „Воскресение Спасителя“.
Все, что он ни читает, сколько мы ни толкуем, а останавливаемся на одном: что эта минута соединяется в нашей Церкви с искуплением душ, то есть с сошествием во ад. Исторического рассказа о Воскресении нет. Когда дело пойдет дальше, я даже думаю написать Митрополиту Филарету, прося его руководить в этом истинно благом начинании»[131].
Однако напряженный труд нескольких месяцев так и остался до конца неосуществленным. Находясь во Флоренции, Чижов встретил направлявшегося в Рим Константина Тона и начал подготавливать его к нужному пониманию эскизов Иванова. Каково же было его разочарование, когда он узнал, что знаменитый архитектор решил передать заказ на запрестольный образ Карлу Брюллову. Еле сдерживая негодование, Чижов сообщал в Рим Иванову: «Я дал уразуметь Тону большую ошибку того, что в первом шаге к русской архитектуре не будет первого шага к нашей иконной живописи»[132].
Иванов мужественно пережил удар. И хотя по инерции он все еще продолжал разрабатывать новые художественные идеи для храма Христа Спасителя (к примеру, церковные стены Александр Андреевич намеревался расписать двумя ярусами ландшафтных изображений Палестины), расставание с мыслью об участии в возведении «тоновского шкапа» не было таким уж тяжелым. Он ясно понимал, что в новой грандиозной постройке не будет «ничего согласного с прадедными правилами симболики церковной»[133].
В 1846 году у Иванова родился новый план: соорудить в Москве по собственному проекту храм Христа Спасителя. Его архитектурный облик должен был восходить к формам храма Василия Блаженного на Красной площади и Успенского собора в Кремле. Иванов даже составил проект Царского Манифеста, в котором от имени Николая I повелевалось заложить новый храм. И в последующие два года художник продолжал работать над эскизами росписей церковных стен на темы сюжетов из Ветхого и Нового Заветов, которые позднее станут именоваться «протобиблейскими».
Неудачный опыт сотрудничества с К. А. Тоном побудил Чижова к раздумьям о путях развития отечественной архитектуры. «Наша народность, — писал он в своих искусствоведческих статьях, — начиная овладевать всеми сторонами жизни, непременно хочет на всем положить печать свою, и, разумеется, прежде всего на том, что к ней ближе, и что, так сказать, с нею сливается и составляет нераздельную часть ее, то есть на внешности нашей церковной жизни, именно на зодчестве наших храмов». А оно, это зодчество, как и иконопись, «в XVIII веке претерпело сильно… Особенно пострадала внешность наших церквей с тех пор, как по воле Петра Великого вошло к нам голландское зодчество»; затем на русскую почву стали переноситься модели храмов в «римском вкусе» или в стилистике французского рококо, образчиком которых стал Смольный монастырь в Петербурге[134].
Чижов посвятил не один вечер обсуждению этих проблем с Александром Ивановым. Когда же ему приходилось по делам на время отлучаться из Рима, обмен мнениями продолжался в письмах друг к другу. В марте 1845 года Чижов получил от Александра Андреевича очередное послание. «Очень бы я вас просил, — обращался Иванов к другу, — чтобы вы дали программу брату моему, как учиться архитект<уре> в чужих краях, и в особенности важный вопрос тут, наконец, решить, ехать ли ему в Париж для курса математики или прежде приехать в Рим»[135]. Дело в том, что младший брат Александра Андреевича архитектор Сергей Андреевич Иванов, которого художник оставил в Петербурге в 1830 году совсем еще ребенком, накануне был награжден за свой конкурсный проект золотой медалью Академии художеств и получил право на пенсионерство и завершение художественного образования в странах Западной Европы.
«Думаю написать письмо Серг<ею> Андр<еевичу> Иванову по тому случаю, что ему поручено составить проект во вкусе древних наших зданий, — записал Чижов в своем дневнике. — С ним надобно сблизиться и навести его на путь истинный, то есть славянский путь»[136].
В первом же письме к Иванову-младшему Федор Васильевич попытался увлечь юношу своей горячей любовью к русским национальным традициям и заодно убедить его в необходимости изучения точных наук — геометрии, тригонометрии, механики, без знания которых настоящий архитектор состояться не может. Вскоре в Риме произошла и их встреча. В показанных молодым зодчим ученических работах угадывались несомненные признаки таланта, и Чижов загорелся идеей выпестовать из него истинно русского архитектора.
Но в чем состоит русская народность в архитектуре — Чижов уточнять не брался, считая этот вопрос преждевременным. «Архитектура, — по его словам, — как и всякая другая сторона жизни, может явиться тогда вполне самостоятельною, когда сама жизнь получит полноту развития и полноту самостоятельности, — ни того, ни другого у нас еще не было… Начало русской архитектуры лежит не в формах древних храмов, а в основе русской души, ее складе. Когда она разовьется вполне, когда она сама будет самостоятельною, тогда и явления ее будут носить печать самостоятельности»[137].
А пока Чижов предложил начинающему архитектору серьезно позаниматься с ним математикой.
Глава девятая
ИДЕЯ ВСЕСЛАВЯНСТВА
В 1845 году Чижов снова едет к югославянам — на этот раз с определенной целью: вникнуть более обстоятельно в ход славянского национально-освободительного движения и уяснить, насколько идеалы славянофильства близки здесь к осуществлению. В письме к Языкову он сообщал, что отправляется в южнославянские земли с тем, чтобы решить для себя самого вопрос, «что славяне в отношении к нам и что мы — к ним. До сих пор я страстно любил их, не давая себе отчета»[138].
Середина 40-х годов XIX века была временем подъема в землях австрийских славян иллирийского движения, в основе которого лежала идея об этническом родстве всех славянских народов, общности их языков и исторических судеб. Его участники — хорватские писатели, ученые и общественные деятели — несли своему народу знание того, что хорваты принадлежат к великому и могущественному славянскому племени и обращались к австрийскому правительству с политическим требованием: предоставить внутреннюю автономию и равноправие словенцам и хорватам с австрийцами и мадьярами, а также признать хорватский («иллирийский») язык в качестве официального.
Первым, кто обратился к славянским народам с проповедью политического и культурного союза, был хорватский писатель XVII века Юрий Крижанич. Его идеалом было всеславянское государство под покровительством России, способное противостоять немецкой экспансии на Восток. Для пропаганды своих идей Крижанич изобрел «всеславянский язык» — смесь русского, хорватского и старославянского. Однако только спустя два столетия Крижанич был по-настоящему услышан.
Создатель хорватского литературного языка, признанный вождь иллиризма Людевит Гай посетил Россию еще в 1840 году. Он встретил восторженный прием в кругу славянофилов. Идея славянского единения получила тогда новое подкрепление: оказывается, границы славянского мира не ограничиваются Белградом и Варшавой! Строки из появившегося в те годы и ставшего чрезвычайно популярным русского вальса «На Драву, Мораву, на дальнюю Саву, на тихий и синий Дунай» удивительным образом перекликались с текстом хорватского гимна «Тече Драво, Саво тече, нит’ти Дунав силу губи».
Побывав в Загребе, Чижов дал высокую оценку культурно-языковым достижениям иллирийского движения, пробудившего у славян национальное самосознание: «… лет за десять, за двенадцать <об этом> и помину не было. Все стыдились говорить по-славянски»[139]. Вместе с тем он не нашел полного сочувствия славянофильским идеям в хорватской среде. Людевит Гай, по мнению Чижова, оказался больше иллиром, нежели «всеславянином». К тому же католик Гай никак не соглашался вернуть братьев-славян к Православной вере, которую все они когда-то исповедовали и которая могла бы их по-настоящему сплотить.
Чижов верно подметил один из существенных аспектов механизма господства Габсбургов в Хорватии, основанный на принципе «разделяй и властвуй» и направленный на разжигание венгеро-хорватских противоречий. «Все… погрязли в политических спорах с маджарами, а немцы в мутной воде рыбу ловят», — констатировал он[140]. Именно этого и добивался канцлер Австрии К. Меттерних, всерьез обеспокоенный ростом славянского национального движения в среде хорватов и составивший в 1843 году для своего императора меморандум «Состояние славянства и его влияние на монархию». В нем, в частности, говорилось: «Сегодня от правительства зависело бы довести борьбу между национальностями Венгрии до открытой схватки»[141]. Власти в Вене ввели запрет для своих подданных на употребление в устной и письменной речи слова «иллир» и установили строгую цензуру хорватской печати.
Несмотря на объективный — вширь и вглубь — рост славянского национально-освободительного сопротивления, для Чижова было очевидно, что консолидации антиавстрийской оппозиции мешает недостаточная связь лидеров иллиризма с народом, их нежелание вовлекать широкий спектр общества к активной политической жизни. «Главное дело в том, что народ здесь, как и у нас, ровно <ни в чем> не участвует»[142], — с горечью записал Чижов в своем дневнике. Верный славянофильскому принципу народолюбия, Чижов воспринимал крестьянство с его несомненным, хотя в большинстве случаев и стихийно выраженным этническим самосознанием, как своеобразный резервуар народности. Его возмущало социальное неравенство, пустившее глубокие корни в землях австрийских славян: «… здесь аристократический состав общества отнял всякое значение у кмета (крестьянина. — И.С.). Спаю <помещику> — всё, кмету — одно существование, купленное ценой тяжелой работы. Одна надежда на время и дальнейшее развитие народности… Я никак не могу понять, каким образом составилось такое резкое неравенство в народе; впрочем, не то же ли самое и везде? Славяне <осели> на земле, предводители взяли себе огромные участки, и вот первое начало аристократии; остальное доделалось временем»[143].
Дискриминационная религиозная политика Габсбургов делала особенно тяжелым положение славян православного вероисповедания. «Наши православные терпят здесь еще больше, — свидетельствовал Чижов, — кроме всех тягот, они несут еще одну — содержать духовенство… На их плечах и католические священники, и наши; первые потому, что им производится жалованье из общественных сумм, собираемых с тех же крестьян, вторые — непосредственно»; «Школы все содержатся самим обществом, без всякого пособия правительства, между тем как католическим оно помогает. Точно так же церкви строятся, поновляются и поддерживаются без всякого участия правительства»[144].
Тягостное впечатление на Чижова произвело далеко зашедшее онемечение в ряде славянских поселений, особенно в так называемой Военной Границе. «На это поколение нет никакой надежды, — сокрушался он. — Будет ли, нет ли что-нибудь от следующего, а это сильно понемечено»; «Как грустно мне видеть, что все это далеко и сильно далеко от того, что я предполагал[145], а предполагал не только a priori, но судя по Далмации. Вот тебе и раз — скоро начинают разрушаться понятия о близком славянском оживлении»; «идея всеславянства — пока решительно частная идея, нисколько не заметная в действительной жизни». Вывод напрашивался сам собой: так как Россия — единственная в славянском мире держава, сохранившая свою независимость, то очевидно, что «славянский период разовьется у нас и нами двинется»[146].
В одном из писем к Языкову из Загреба Чижов признавался: «… Я пока совершенно запутан всем, что вижу»[147]. Приезд в Хорватию «киевского славянофила» Н. А. Ригельмана, родственника Григория Галагана, был как нельзя кстати. Николай Аркадьевич отчасти уже имел налаженные контакты с местными политическими и общественными деятелями, что облегчало для Чижова задачу лучшего понимания сложного соотношения сил, определявшего ход освободительного движения в землях австрийских славян. Вместе они общались как с хорватскими лидерами, так и с простым народом, изучали все доступные книги и периодическую литературу по Иллирийскому краю.
Особо заинтересовал путешественников из России литературно-критический журнал «Коло», который редактировал видный деятель иллирийского движения хорватский поэт Станко Враз. «„Коло“ — очень недурная книга, — отозвался об этом издании Чижов, — в ней статьи весьма и весьма дельные»[148].
Федор Васильевич проявил себя горячим сторонником расширения контактов издателей «Кола» со славянофильскими писателями в Москве. Через А. Н. Попова он стал хлопотать о присылке славянофилами статей для ближайшего выпуска журнала. В одном из писем к Попову Чижов сообщал: «<В Загребе> Хомякова стихотворения читают как Священное Писание, и вообще все, что появляется в славянском духе, принимается с восторгом… Здесь сильно нуждаются в книгах нашей литературы»[149]. Именно в эти годы на хорватский язык были переведены Пушкин, Лермонтов, Веневитинов, а на страницах хорватских литературных журналов начинают регулярно помещаться статьи о русской литературе, музыке и театре. Высоко оценивая роль «матиц» (славянских литературно-научных и культурно-просветительных обществ) в деле общеславянского национального возрождения, Чижов планировал по приезде в Россию организовать сбор средств в пользу «матицы» у хорват. Также хорватские иллиры получили от славянофилов материальную помощь в размере 25 тысяч рублей для создания Национального хорватского музея и на продолжение издания журнала «Коло» и газеты «Даница».
Самое благоприятное впечатление произвело на Чижова посещение Сербии: «Под турками славяне меньше терпят, чем под австрийцами»[150]. Любовь сербов ко всему русскому, хорошее знание ими русского языка и литературы рождали ответное братское чувство. Он подробно познакомился с положением дел в народном просвещении, интересовался сербским законодательством.
В Песте по рекомендации Ригельмана Чижов посетил словацкого поэта и ученого Яна Коллара, автора концепции славянской взаимности, изложенной им в статье «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими». В свое время идея Коллара об избранности славянского племени и необходимости культурного общения между его отдельным ветвями «с целью предохранения славян от безумных порывов и пагубных заблуждений» нашла среди славянофилов горячих приверженцев. Статья была переведена на русский язык Ю. Ф. Самариным и опубликована в 1840 году в «Отечественных записках».
Беседы Чижова с Колларом выявили несовпадение их взглядов на различие вероисповеданий у славян. Чижов выражал уверенность в том, что с единением всех славянских народов в Православной вере их братский союз стал бы поистине нерушимым и смог бы противостоять опасному натиску безбожного Запада, заинтересованного в разжигании религиозных противоречий. «Коллар стал уговаривать меня быть проповедником терпимости и безразличия религий, — передавал Федор Васильевич в дневнике подробности тех споров. — Я возразил, что это у нас невозможно… у нас проповедовать терпимость — значит брать противуславянскую сторону»[151].
В гораздо большей степени общность взглядов на славянский мир и его будущее обнаружилась во время встречи Чижова в Пресбурге (Братиславе) с известным словацким публицистом Людевитом Штуром, адрес которого сообщил Чижову все тот же Ригельман. «В Штуре, — писал Чижов, — я нашел самого даровитого и умного из всех… славянских писателей»; «Штур понимает славянство в современном его виде… Странно, что идя совершенно иными путями в ходе мышления, воспитываясь под совершенно различными и обстоятельствами, и влияниями, мы беспрерывно сходимся с ним на одних заключениях»[152].
По просьбе знакомых славянофилов Чижов вел подробные записи о своем путешествии. Цель его путевых заметок — издание в России книги, которая дала бы читателям представление о жизни зарубежных славян.
Чижов хотел как можно скорее сообщить в Россию свои впечатления о поездке по славянским землям. Но из боязни перлюстрации не доверял письмам. «О многом хотелось бы мне говорить с Вами, с Хомяковым, с Киреевским, которых… по Вашим рассказам, считаю себе близкими, — писал Чижов Языкову. — Я думал Вам передать подробности… но, знаете ли? Неприятно, когда почте делаются известны все семейные дела… и под предлогом осматривания, нет ли вещей, могущих перенести чуму[153], раскрывают все письма»[154].
Он решил как можно скорее возвратиться в Россию и лично познакомиться с «москвичами» — членами славянофильского кружка — и принять на их стороне непосредственное участие в горячих общественных спорах. Тем более что и Языков торопил: «Ждем вас в Москву. У меня не достало бы ругательных слов описать вам все гнусности и подлости, которые печатаются о нас в „Отечественных записках“»; «Я вообще против вашего пребывания за границей. Вы сделаете больше пользы в Москве, нежели оттуда. Заочное лечение больных редко бывает удачно… Особенно когда болезнь сильно уже укоренилась в несчастном организме: тут врач необходим лично, при самой постели больного»[155].
Глава десятая
СЕРДЕЧНАЯ ТАЙНА
Путь в Первопрестольную лежал через Украину. Еще летом 1844 года Чижов обещал Языкову явиться в Москву в августе 1845 года[156]. Но вскоре дата приезда была отложена. Николай Михайлович и все члены славянофильского кружка насторожились: «В плане вашего возвращения восвояси смущают нас слова и в Киев в сентябре[157]: боимся, как бы вы не остановились надолго… в Малороссии; например, у Галаганов, которые вас любят и, конечно, ждут нетерпеливо, — но ведь и мы вас любим и ждем нетерпеливо, — и ждем в Москву»[158].
Переехав границу у Радзивиллова, Чижов проследовал далее в Киев, оттуда в «земной рай» — Сокиренцы. Он не был в этих краях ровно четыре года. Всю дорогу его сердце учащенно билось. Федор Васильевич нашел разительное сходство Малороссии со столь полюбившейся ему Италией: небо той же чистейшей синевы, та же сочность, насыщенность красок природы, такой же певучий, шумный, веселый и открытый в проявлении своих чувств народ.
В селах все еще сохранялись народные обычаи. «Дивчины» на Зеленую (Троицыну) неделю плели венки и пускали их по воде, а в Иванов день прыгали через огонь. Они укладывали перевитые красными и синими лентами и полевыми цветами косы в богатые короны, а шеи украшали тяжелыми коралловыми монистами.
По пути Чижов заехал в Ромны, на ярмарку, где встретил колоритные типажи, достойные пера Гоголя. Мужики, с длинными усами, чубами, бритыми подбородками и толстыми, лоснящимися затылками, чинно вышагивали между торговых рядов в широченных шароварах, заправленных в сапоги и перетянутых на талии цветными кушаками; из-под жупанов и казакинов у них белели свитки с вышитым воротом. Молодухи и замужние бабы носили все больше плахты с запасками, делавшие их фигуры ладными и стройными, да затейливо повязывали на головах яркие намитки.
Торговля шла живо и весело. Тут же играли на скрипках подгулявшие музыканты. Продавалось и покупалось все, чего только душа могла пожелать: множество красного товара, соль, сало, деготь, посуда, шерсть, рыба, свиньи, птица, лошади… Не говоря уже о земледельческих продуктах. Чижов разговорился с одним ученым агрономом, утверждавшим, что здешняя почва — лучшая в Европе.
Оказавшись в Сокиренцах, Чижов был приятно удивлен, обнаружив хозяйку Екатерину Васильевну Галаган нисколько не состарившейся, напротив, «ее неумолкаемая деятельность… сильно развила ее умственные способности»[159].
У дочери Екатерины Васильевны графини Марии Павловны Комаровской подрастали двое прелестных детей: четырехлетний сын Граня и годовалая дочь Катя.
Воспитанник Чижова Григорий Павлович Галаган уже более года служил в Черниговской палате государственных имуществ. Он занимался улучшением положения крестьян, пострадавших от неурожая, и распределял хлеб и деньги среди наиболее нуждающихся. В один из дней, познакомившись с жизнью крестьян в селе Ичня, он приехал домой сильно расстроенный. О причине душевного разлада он рассказал Чижову: «Сердце сжимается при мысли, какую я видел там нищету… Надобно быть закоснелым таким, как я, чтобы после этого спокойно есть и пить и быть веселу, довольствовавшись только приказом о перестройке хат. О, когда-нибудь воздастся мне за это от Бога, от Брата бедных: тут будет плач и скрежет зубов…»[160]
И снова, как когда-то в юности, — понимающий взгляд и дельные советы наставника, доверительный разговор о планах на будущее, о необходимости приложения знаний и сил на достойном поприще, мечты о жертвенном служении на благо отечества…
Впрочем, не только стремление к социальному переустройству окружающего мира волновало юношу. В это время Григорий делает попытку сватовства к одной из дочерей соседа по имению, впрочем, окончившуюся ничем.
И у самого Чижова сердце в это время было во власти страсти. Едва он приехал в Сокиренцы, первой его мыслью было узнать, как Катенька Маркевич? Что с ней? Помнит ли его? Состоявшаяся, как бы случайная, встреча рассеяла все сомнения.
…Федор Васильевич был натурой крайне увлекающейся, не только в профессиональной и общественной, но и в личной жизни. В годы учебы и преподавания в Петербургском университете он пережил немало романтических историй, в подробности которых нередко посвящал свою мать Ульяну Дмитриевну. Не раз он писал ей, что наконец-то встретил свой идеал и готов жениться, и в качестве подтверждения серьезности своих намерений посылал в Кострому портрет очередной избранницы. В ответ трезвая и лишенная сантиментов Ульяна Дмитриевна стремилась как могла остудить пылкое сердце сына. Она уверяла, что если бы ей пришло в голову развесить на стенах все портреты когда-либо нравившихся ее Феденьке «петербургских чаровниц», то, право, не хватило б и места…
Но чувство к Катерине Васильевне Маркевич, пережитое Чижовым на Украине, перед поездкой за границу летом 1841 года, не шло ни в какое сравнение с предыдущими его влюбленностями.
Первые месяцы жизни вдали от предмета страсти стали для него «решительно адом». Об этом он писал из Дрездена в Петербург своему «пятничному» конфиденту Никитенко: «В Малороссии я оставил все, с чем связалась, и, может быть, связалась нераздельно, моя жизнь внутренняя, по крайней мере, главная часть ее — жизнь сердца»[161].
Спустя два года он всё так же воодушевлен сильным любовным чувством, отголоском которого являются строки из письма к Александру Иванову: «Мы все в руках судьбы, а я? Судьба повелевает мною в образе женщины»[162].
Тем не менее во время четырехлетнего путешествия по странам Западной Европы Чижов отнюдь не напоминал средневекового рыцаря-аскета, который запечатлел в своем сердце образ единственной Прекрасной Дамы и не допускал даже мысли о том, чтобы приподнять стальное забрало перед искушавшими его прелестницами.
В Германии Федор Васильевич был не прочь поухаживать за симпатичной соседкой, которая обучала его немецкому, а он ее — в порядке взаимообмена — французскому языку. В одном из писем к Языкову из Рима он признавался: «Итальянки! Боже мой, что за существа! Теперь, слава Богу, я отрезвел; но поверите ли, что как-то так одурел, что не знал, чем и кончится…»[163]
Но любовь к «незабвенной Катеньке» была особым чувством. Эта женщина стала в жизни Чижова той, о ком говорят: «Она — и все остальные».
Когда Чижов вновь появился в Сокиренцах, Катерина Васильевна Маркевич приходила в себя после очередных родов — недавно у нее появилась на свет третья дочь, Верочка. Но возвращение любимого человека всколыхнуло прежние переживания и в конце концов окончательно перевернуло всю ее жизнь. В то время она жила близ Новгород-Северска Черниговской губернии, на хуторе Деньков, и оттуда Чижов отправил в Рим Иванову восторженную исповедь любящего и любимого человека:
«Браните, Александр Андреевич, браните; но скрывать от Вас не буду. Вот уже больше недели я живу сердцем… Если нет ее подле меня, если не придет хотя раз в полчаса, занятия идут плохо, потому что с нею соединено все: и ум, и воображение. Если она тут — не поцеловать ее, не поцеловать ее чудных глаз, не любоваться ею мне кажется преступлением. Бывают минуты, я не знаю что делать: встаю на колени пред нею и молюсь ей. Что хотите, но это не женщина, или если и женщина, то только для того принявшая человеческий образ, чтоб моление и благоговение к ней сделать любовью. Она не понимает существования без меня; без меня она только влачит жизнь и страждет. Поверите ли, что даже при мне она видимо, телесно здоровеет: она полнеет; в ее глазах видно, что она живет… При мне она вся в движении, и спросите себя, что бы сделали вы, если бы имели такое существо? Не я увлек ее, не обстоятельства нас сблизили; она дана мне Богом, — mia costarella[164]; только случай, ведомый счастьем, столкнул меня с этою половиною. Она принимает мои понятия, просит меня развить их; и когда ее взгляд, ее ласки, ее поцелуи все расставляют на свои места, я… и сам смотрю светлее на предмет. Животворящими лучами любви ее согреваются мои понятия, и дело мое идет, кажется, лучше в те минуты, когда она, осенив меня своим ангельским поцелуем, оставляет одного. Едва электричество ее поцелуя пройдет, она сама это почувствует, — и снова поцелуй подвигает меня на новые труды. Еще около месяца блаженства, потому что около 15 декабря, едва откроется дорога, я еду в Москву…»[165]
Но установился санный путь, настало 15 декабря, потом пришло Рождество, за ним Святки, Новый 1846 год, ударили Крещенские морозы, а Чижов все еще оставался на хуторе Леньков, находя все новые и новые отговорки для переноса даты своего отъезда.
Глава одиннадцатая
МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ
Январь 1846 года подходил к концу. Федор Васильевич по-прежнему пребывал «у Галаганов». «Чижова жду к себе с часу на час вот уже целый месяц, — жаловался Языков Александру Иванову, — он обещался быть в Москву к 20 декабря прошлого года…»[166]
В конце концов моления друзей были услышаны. Чижов нашел в себе силы вырваться из сладостного малороссийского плена. Но прежде чем попасть в Москву, сделал крюк, заехав по служебным делам в Петербург.
Северная столица, в которой прошла большая часть сознательной жизни Чижова, на этот раз поразила бездушием своей чиновничьей жизни и чуждым его новым представлениям об истинно русской национальной архитектуре западноевропейским обликом. «Кто из нас так сильно изменился — я или Петербург?» — риторически спрашивал сам себя Чижов[167].
В Петербурге, «болоте всех скверностей», он встретил лишь ученых-славистов, которые были поглощены изучением славянских языков и вовсе не интересовались ставшей ему близкой в последние годы идеей о слиянии славянских племен между собою. Здесь, «кроме Царя, его семьи и народа все какого-то космополитического направления», — заключил он[168]. Не найдя единомышленников в Петербурге, Чижов уехал в Москву, где в феврале 1846 года через посредничество Языкова произошло его личное знакомство с кружком московских славянофилов.
Взгляды Чижова на судьбу России и всего славянского мира, сформировавшиеся в большинстве своем на основе личных впечатлений и опыта, нашли благодатный отклик и полное понимание у его новых знакомых. Прежде всего, со славянофилами Чижова сближала вера в великую, спасительную для всего человечества будущность славян, обусловленную двумя исторически сложившимися факторами: извечным существованием общины («мира») и Православной религией.
Община — краеугольный камень славянофильских теоретических построений. С ней связаны все их надежды на справедливое общественное устройство славянских народов и человечества в целом. Подобно всем славянофилам, Чижов видел подлинную демократию и особый нравственный климат «в составе „мира“ и мирской сходки… в поголовной подаче голосов старших в семье… в единогласном решении, не подчиненном случайности одного голоса при решении большинством». «Круговая порука и общинность землевладения, держащие всю деревню в полном соединении», служили, по его мнению, гарантией против зла индивидуализма, разъедающего западную цивилизацию и высшие слои русского общества[169]. Именно существованием в южнославянских землях крестьянской общины, схожей с русской, объяснялся пристальный интерес к югославянам Чижова и других членов славянофильского кружка.
Уверенность в том, что надежды на социальное равенство при общинном устройстве народной жизни неизбежно сбудутся, славянофилы черпали в преобразующей силе духовного влияния славян, а именно в их Православном вероисповедании. Торжество формального разума в католицизме и протестантизме над верою и преданием в Православии — единственной из христианских религий, сохраненной в чистоте и неизменности со времен апостольских, — определило, по их убеждению, судьбу Европы. В одном из писем 1848 года к Александру Иванову Чижов утверждал: «Революционные смуты на Западе неизбежно вызовут там духовный голод и нравственное борение, которое должно решиться в пользу Православия… Люди западные поймут, что ум человеческий» не высший судия в делах «человеческих и… обратятся к тому источнику, без которого трудно ждать улучшений, — к Церкви»[170].
Как и все славянофилы, Чижов получил в семье религиозно-патриархальное воспитание; в юности, пережив непродолжительный период безверия, вновь вернулся к религиозному мировоззрению и философскому идеализму. В его дневниках первой половины 40-х годов есть упоминания об увлечении идеями Гегеля и Гердера, выписки из сочинений Фихте и Шеллинга. На общественно-политические взгляды славянофилов определенное влияние оказали идеи, почерпнутые ими из социально-утопических учений Запада. Подобно И. Киреевскому, Хомякову, Самарину, Кошелеву, Чижов изучал произведения Жорж Санд, Фурье, Сен-Симона, Прудона.
Славянофилы верили, что грядущая мессианская роль славянства может быть достигнута лишь с помощью самоочищения современной им славянской жизни от чужеродных элементов, опутавших и исказивших ее. Ход исторического развития России укладывался в гегелевскую триаду: тезис (допетровское прошлое России) — антитезис (послепетровское настоящее) — синтез (обновленное будущее, основанное на разумном диалектическом соединении «старого» и «нового»).
Требование отмены крепостного права было одним из главных в ряду основных положений славянофильской доктрины. Славянофилы подводили под него экономический базис, основанный на теоретическом анализе и собственных хозяйственных наблюдениях: «…Производительность труда находится в прямом отношении к свободе трудящегося», — утверждал Ю. Ф. Самарин[171]. Об этом же говорил Чижов: «Чем свободнее и шире будет у нашего народонаселения право переходить с одного места на другое, из городов в села, из сел в города, тем ровнее можно распределяться народному труду… Это — главное и могучее условие в развитии и умножении народного богатства»[172]. О том, что слова у Федора Васильевича не расходились с делом, говорит тот факт, что ему удалось в 1846 году уговорить сестер сделать «вольными хлебопашцами» несколько десятков принадлежавших им в усадьбе Озерово крепостных крестьян.
Сформировавшийся у Чижова еще в 1830-х годах либерализм в понятиях и убеждениях стал с начала 1840-х годов частью его славянофильских воззрений. В сословной структуре общества он видел одно из препятствий для народного единства, так как каждое сословие выдвигает на первый план свои особые интересы, а они закономерно ведут к вражде сторон. Поэтому, подобно многим славянофилам-эгалитариям, он выступал за отмену кастовости и дворянских привилегий. «Неравное разделение имущества не может быть следствием предвечного порядка, или еще того менее, его последним определением, — полагал он. — Как все устроится — нельзя вдруг понять, однако… мне кажется, что в славянском мире больше данных ко всеобщему равенству. Первое преобразование — и у нас должны полететь к черту все богатые… Только богатое сословие, по крайне мере относительно богатое, пользуется всеми выгодами», «везде работающий класс народа в ужаснейшем угнетении. Неужели следующий, наш, славянский, период жизни не переменит нравственное состояние в мире?»; «Вся надежда на общий ход истории»[173].
Экономическому неравенству, разделившему народ на сословия высшие, правящие, и низшие, бесправные, противопоставлялось опоэтизированное прошлое славян, свободное от каких бы то ни было социальных противоречий. Между властью и народом на протяжении веков существовали добрые, патриархальные отношения; славяне смотрели на владение землею как на грех; «негосударственный» русский народ не посягал на политические права и государственную власть, а власть, в свою очередь, не вмешивалась в дела народа, но в необходимых случаях собирала Земские Соборы для выяснения мнения «земли». «Петр Великий разделил нас на два народа, — утверждал Чижов, — и дворянское сословие резко отделилось от остального»[174].
В пылу критической запальчивости славянофилы подвергали резкому осуждению правление «онемеченной» династии Романовых, засилье иностранцев в России, бюрократизм и взяточничество чиновников. «Немецкая семья два века безобразничает над народом, а народ все терпит», — записал однажды в сердцах Чижов в своем дневнике[175]. В силу своей страстности и максимализма он шел дальше остальных славянофилов, не ограничиваясь критикой отдельных сторон самодержавно-крепостнического строя России и неоднократно высказываясь в своем дневнике против монархической идеи как таковой.
Целую бурю негодования вызвала у него однажды попавшаяся на глаза французская газета, описывающая ход торжеств, связанных с приездом в Англию Короля Луи Филиппа: «Я читал, читал и, наконец, не мог продолжать; неужели суждено бедным людям так протянуть весь век людской? Неужели не придет время, когда имя Короля будет тем же, что теперь имя бургомистра, головы и тому подобное?»[176]
Чижов отводил славянам всемирно-историческую, мессианскую роль преобразования мира естественным путем, без революционных потрясений, силой своего духовного влияния. «Вот вам славянское племя без королей, — аргументировал он свою мысль, — правда, что Россия имеет Царя, но Царь ее — отец по понятию русских, только уничтожится временем это понятие, — прощай и Царство»[177].
О том, что Чижов до конца дней своих оставался убежденным противником монархического образа правления, можно судить по дневниковой записи, сделанной им за два месяца до смерти: «Пока существуют монархи и монархии, не достигнет человечество своего полного развития, или лучше наоборот: чем полнее будет развитие человечества, тем более будут стираться с лица земли монархии и монархи, — разумеется, они сойдут со сцены управления… не вдруг, но сойдут непременно»[178].
Однако подобные крамольные суждения Чижов поверял лишь своему дневнику и нескольким наиболее близким членам славянофильского кружка. В публичных выступлениях, в частности, в статьях, предназначенных для печати, Чижов из осторожности подобных тем не касался. При этом у него вызывали зависть фрондерские поступки друзей-славянофилов. Так, уже в 70-е годы, прочитав вышедший в Берлине четвертый том сочинений Ю. Ф. Самарина «Окраины России», Чижов записал в дневнике: «Не столько восхищаюсь содержанием, сколько благородством и, если хотите, бесстрашием (Самарина. — И. С.). Он пишет о Царе, разбирает его слова, его дела совершенно свободно… часто со всею колкостью иронии, и ставит на заглавном листе: издание Ю. Самарина. Сознаюсь, что я не способен к такому открыто благородному поступку»[179].
Для Чижова идеалом политического устройства славян была федеративная республика. Идея федерализма не чужда была и остальным славянофилам. «В панславизм мы не верим и считаем его невозможным, — писал И. С. Аксаков, — …пусть все славянские племена, сколько бы их ни было, составят союз конфедеративный, оставаясь вполне независимыми, сохраняя каждое свою личную самостоятельность». Правда, в состав этого союза, по мысли Аксакова, не входила Россия, сохранявшая за собой Украину и Белоруссию, но отказывавшаяся от Польши[180].
В борьбе за достижение прогресса в обществе славянофилы, в том числе и Чижов, придерживались исключительно ненасильственных, эволюционных методов. Движение вперед никогда не сочетается с кровавым принуждением, считали они. Нет таких возвышенных идей, ради которых следовало бы убивать друг друга.
«…Москва приняла меня превосходно», — сообщал Чижов в Рим Иванову[181]. Он нашел, что все русское общество разделилось здесь на «обожателей своего отечества» и «западопоклонников», и разделилось резко. Настало время для России показать на деле то, что до сих пор являлось в надеждах: она может быть самостоятельной во всем, на всех поприщах, во всех видах деятельности.
Чижов стал завсегдатаем славянофильских гостиных Свербеевых, Елагиных, бывал в домах Хомяковых, Аксаковых, Смирновых, где знакомил собравшихся с написанными им в Риме искусствоведческими статьями. И отовсюду слышал громкие похвалы в свой адрес. Особенно льстила высокая оценка со стороны Александры Осиповны Смирновой-Россет, ближайшей приятельницы Пушкина, Жуковского, Гоголя. А Авдотья Петровна Елагина, отметив горячий пафос литературных трудов Чижова, скажет: «Немногие так душевно пишут»[182].
Языков торжествовал. В письме к Гоголю он утверждал: «Чижов — муж доблести великой, он славно бы поднял наш кружок, наши души, нервы, если бы имел средства в Москве остаться. Он теперь со свежими сведениями, глубокими убеждениями и притом красноречив: его можно назвать звездой Востока»[183].
Среди новых друзей «всех выше по уму, по таланту, по обширности взглядов и по начитанности» Чижов находил Алексея Степановича Хомякова, в котором ему виделась «сила необъятная, самостоятельность во всем, нигде нет и помину… подражательности или заимствования, везде он сам, со своею гигантскою личностью; за что ни борется (а борется за все) — везде первенствует»[184]. «В весьма частых с ним свиданиях наши разговоры и споры имели предметом всегда нравственное и умственное развитие России»; «Он один понимает вполне историческое значение слова „славянский мир“»[185].
Иван Васильевич Киреевский произвел на Чижова впечатление человека, совершенно погрузившегося в учение Православной Церкви. Высокие нравственные качества, кротость, чистоту и девственность души обнаружил Федор Васильевич в старшем из братьев Аксаковых. По его словам, Константин Сергеевич Аксаков оказался таким «пламенным русским», что бранил остальных славянофилов за чрезмерное увлечение славянством и убеждал их в том, что России пока «не до славян»[186].
Из молодых славянофилов Чижов наиболее сблизился с Юрием Федоровичем Самариным, в котором его восхитили глубокие историко-литературные познания. Он писал Гоголю: «Молодые москвичи сильно мне нравятся, одно меня от них немного отталкивает, — это их вражда к европейскому… а согласитесь с тем, что на вражде далеко не выедешь»[187].
Пребывание в Москве, знакомство на месте с расстановкой сил в противоборствующих лагерях славянофилов и западников позволили Чижову сделать некоторые предварительные выводы. Бросалась в глаза инертность славянофилов и как следствие — меньшая популярность их идей в обществе. Чижов неоднократно критиковал своих московских друзей за их чересчур ленивую, созерцательную любовь к России: «Сколько данных для деятельности и никакой существенной деятельности», — негодовал он. Западники «сильнее не собственными силами — средствами. Европа дает им способ обольщать народ русский. Они в нескольких журналах набивают листы всем, что попадается в Европе, и этою кое-как подготовленною кашею кормят умственные желудки. Наши ленивы, но их бранить трудно. Все вызвать из самих себя нелегко, особенно когда этого требуют не в тишине и спокойствии, а посреди борьбы мнений, при криках общественных споров и при грубых выходках противников»[188].
По мнению Чижова, немаловажную роль в пропаганде славянофильских идей должен был сыграть собственный периодический печатный орган. Но о его основании не могло быть и речи: по повелению Николая I число журналов в России было строго ограничено. Приходилось идти на компромиссы с владельцами уже существующих изданий.
Когда в 1845 году И. В. Киреевский взял на себя редактирование погодинского «Москвитянина», Чижов поделился своими опасениями с Языковым. «Нет ничего хуже, как оживлять полуистлевшее тело, — писал он, — имя Киреевского для нас так целомудренно, так почтенно, что его нельзя бросать на <рискованное дело>… Необходимо… чтобы имя Погодина совершенно уничтожилось в управлении и ведении журнала: оно так дурно представилось пред лицом общества, что с ним журнал не будет иметь никакого доверия… Ради Бога, поговорите с Киреевским, чтобы он <все> обдумал прежде, нежели примется за редактирование»[189].
В 1845 году Киреевский выпустил три номера «Москвитянина» и затем отказался от журнала ввиду сложных взаимоотношений с официальным издателем М. П. Погодиным.
Языков, ценивший Чижова за активность, одержимость и преданность общему делу, а также за «страстность и забористость» его литературного дара, предложил ему издавать новый журнал «Православного, русского направления». Он надеялся, что Чижов сможет «разбудить уснувших», «возбудить их к деятельности»[190].
Летом 1846 года в основном на деньги Языкова славянофилами был куплен у петербургского издателя С. Н. Глинки журнал «Русский вестник». Главное управление цензуры разрешило перенести издание журнала из Петербурга в Москву. При этом редакция «Русского вестника» поручалась Чижову.
Московский «Русский вестник» Чижов собирался противопоставить журналам петербургским, в которых ему виделось «все уж чересчур нерусское, начиная с языка и до понятий»[191]. «Петербургские журналисты с убеждениями не знакомы, — писал Чижов Иванову. — Это космополиты во всем: в жизни, в верованиях, в добродетелях и пороках, — то есть люди, собирающие все. Но для сбора нужно что-нибудь иное, не один мешок и крючок, которым таскают сор из помойных ям»[192].
В славянофильском «Русском вестнике» Чижову хотелось представить русскую народность «не на словах, а в сущности». Он планировал делать регулярные обзоры литератур славянских народов, публиковать критические разборы всех значительных европейских литературных новинок и сочинений о России, выходящих за границей, печатать отрывки из своих дневников о путешествиях по славянским землям.
В письмах к Языкову Чижов восторженно сообщал: «Теперь журнал стал для меня единственной возможностью нравственного существования»[193]. Поприще литератора, так некогда его манившее, становилось реальностью.
Глава двенадцатая
АРЕСТ
Осенью 1846 года Чижов отправился на Украину и оттуда — за границу, в земли южных славян, для ведения переговоров с потенциальными корреспондентами «Русского вестника». В его планы также входило посещение Италии, где он собирался написать ряд статей для художественного отдела будущего журнала.
Начало издания «Русского вестника» Федор Васильевич решил отложить до 1848 года. Языков его всецело поддержал. «Чижову необходимо заготовить, по крайней мере, на год статей для журнала, своих собственных, — сообщал он Гоголю, — на московских писателей и сотрудников он мало надеется, — и справедливо! С ними того и жди, что на мель сядешь, а наобещают с три короба»[194].
Но большинство славянофилов было недовольно отсрочкой. За границу Чижову шли многочисленные письма с требованиями поскорее вернуться в Москву. Чиновниками Третьего отделения была снята копия с письма к Чижову «неизвестной дамы», близкой к славянофильскому кругу[195], в котором та сообщала, как ждут в Москве его возвращения: «Я вам могла надоесть моими беспрестанными письмами. Теперь ожидаю нетерпеливо вашего решения ехать сюда скорее… Не отлагайте ради Бога и приезжайте… Петр Васильевич (Киреевский. — И. С.) засел за работу, и, конечно, никакое другое издание не будет иметь его труда, кроме вашего… Иван Васильевич (Киреевский. — И. С.) принимается писать и разбирать Гоголя… Хомяков ждет вас нетерпеливо и очень занят мыслью <о> журнале. Все наши здесь ждут деятельности и возможности помешать статьи; теперь просто некуда. „Москвитянин“ упал совершенно; „Листок“[196] дурен. Где печатать?.. Расписались наши, и охота смертная у всех писать, да печатать негде. Приезжайте, приезжайте, приезжайте… поскорее, пожалуйста»[197].
Но Чижов предполагал вернуться в Москву не раньше июня 1847 года.
«В своем путешествии, — вспоминал И. С. Аксаков, — как-то удалось ему помочь черногорцам выгрузить оружие на Далматском берегу. Это обстоятельство, а равно и посещение им австрийских славян вызвало донос на него австрийского правительства русскому»[198]. Последним по времени было агентурное донесение из Бреславля, полученное Третьим отделением в конце 1846 года через наместника Царства Польского. В нем приводилось смутившее агента простодушное объяснение Чижова, отчего он, дворянин, носит бороду: «… около Москвы много помещиков запущают бороды, дабы сблизиться с русскими купцами и крестьянами… Это для них очень нужно, дабы скорее уничтожить разницу между дворянством и низшим классом жителей»[199].
Когда в начале 1847 года на Украине было раскрыто тайное «Славянское общество святых Кирилла и Мефодия», ставившее целью создание конфедеративного союза всех славян на демократических началах наподобие Северо-Американских Штатов, причастность Чижова к деятельности общества не вызвала у Третьего отделения сомнений. Чижов неоднократно, с 1838 года, бывал на Украине и подолгу жил там (последний раз — в 1845–1846 годах), когда создавалось тайное общество и шла активная работа по вовлечению в организацию новых членов. В круг его украинских знакомых входило немало кирилло-мефодиевских братчиков (среди них были Т. Г. Шевченко, П. А. Кулиш, Н. И. Костомаров, А. В. Маркович, В. М. Белозерский, Н. И. Савич), которые знали про оппозиционные настроения и прославянские симпатии бывшего петербургского профессора и не могли не попытаться привлечь его в число своих сторонников. У шефа жандармов графа А. Ф. Орлова были даже сведения, что на Чижова члены общества возлагали «особо большие надежды»[200].
Призванный, как ему казалось, быть апостолом всеславянства, Чижов широко пропагандировал свои взгляды, не опасаясь навлечь на себя подозрение. Так, в 1845 году по дороге из Киева в Сокиренцы, имение Григория Павловича Галагана, имя которого впоследствии также фигурировало в деле о кирилло-мефодиевцах, он записал в дневнике: «Я успел пропустить мысль о славянстве во все слои общества, — многие узнали, что есть славяне, и многие из таких, которые о том никогда не мыслили»[201].
С тем чтобы убедиться в неблагонамеренности Чижова, чиновниками Третьего отделения были взяты свидетельские показания у знавших его лиц. Титулярный советник А. Галлер, бывший в 30-е годы студентом Петербургского университета, подтвердил, что «Чижов всегда был в высшей степени либерал, как в политическом, так и в нравственном отношении»[202].
П. А. Зайончковский в своей монографии о Кирилло-Мефодиевском обществе пишет, что непосредственным поводом для ареста Чижова послужили его письма, взятые при обыске у Гулака, одного из организаторов и руководителей общества[203]. Но ни в деле Гулака, ни в деле Чижова таковых писем не обнаружено, о них не упоминается и в материалах следствия.
Удостоверившись в своих предположениях, Третье отделение направило в западные пограничные губернии Российской империи «весьма секретные отношения» с предписанием арестовать Чижова в числе двух других выехавших в 1846 году за границу кирилло-мефодиевцев: Савича и Кулиша. При этом сообщалось, что «Государь Император Высочайше повелеть соизволил при возвращении означенных… в Россию задержать их на самой границе, опечатать, не рассматривая на месте, все их бумаги и вещи и тотчас вместе с оными отправить в С.-Петербург, в Третье отделение Собственной Его Величества канцелярии»[204].
Самарин узнал о предстоящем аресте за несколько дней и поспешил сообщить об этой огорчительной для всего славянофильского кружка вести Попову и Хомякову. Одновременно он искал путей предупредить Чижова, чтобы тот не вез с собой в Россию компрометирующие его бумаги. «Одна капля — и все перельется, — предостерегал Самарин. — На всякий случай примите меры и особенно просмотрите свои бумаги; мои бумаги, в том числе стихи Аксакова, письма Гагарина, Хомякова, одно письмо Киреевского, находятся в том портфеле, который я дал вам на сохранение. Передайте его под каким-нибудь предлогом Оболенскому или Вяземскому, если они остаются в Петербурге. Худо дело»[205].
Об обстоятельствах ареста и первых днях заключения Чижова мы можем получить представление из воспоминаний самого Федора Васильевича, занесенных им в дневник через тридцать лет после происшедшего, буквально за несколько месяцев до смерти, в назидание будущим поколениям — как свидетельство «беззакония» и «лютого произвола», чинившегося над человеческой личностью в николаевскую эпоху[206]. («О, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих лет!»)
…Рано утром 6 мая 1847 года со стороны Австрии к Радзивилловской таможенной заставе подкатила коляска. Из нее вышел невысокого роста коренастый мужчина лет тридцати пяти, с купеческой бородой, в синем длиннополом сюртуке и небрежно переброшенным через руку легким манто.
— Бывший профессор математики Петербургского университета, надворный советник Федор Васильевич Чижов, — представился он таможенному чиновнику и предъявил паспорт.
Едва заслышав фамилию прибывшего, таможенник спешно удалился и вскоре вернулся с жандармами, в руках которых посверкивали сабли наголо. Бывшего профессора обыскали, при этом была отобрана спрятанная в голенище сапога запрещенная в России книга француза Пьера Жозефа Прудона «Что такое собственность?» Доставленный из коляски багаж тут же без досмотра был опечатан.
На бурно выраженное Чижовым требование объяснить, «в чем, в конце концов, дело» и «по какому праву…», жандармы, не вдаваясь в подробности, объявили, что он арестован и что в том же экипаже, в котором он приехал, его повезут не в Черниговскую губернию, куда он направлялся «по личной надобности», а в Петербург.
Чижова усадили в коляску. Подле него сел жандармский офицер, сзади — унтер-офицер с заряженным карабином. Арестованного предупредили, что в продолжение всей дороги он не должен отходить от жандармов далее трех шагов, не должен говорить ни с кем ни полслова, а что ежели ослушается, сопровождающие имеют приказание заковать его в кандалы. С таким напутствием и пустились в дорогу.
Через восемь дней, 14 мая, коляска с тремя пассажирами подъехала к стоящему в Петербурге у Калинкина моста зданию Третьего отделения Собственной Его Величества канцелярии. Чижова отвели в довольно просторную комнату с двумя большими окнами, выходящими во двор. В углу — печь, у одной стены — кровать с тюфяком, подушками и одеялом, у другой — диван, кресла, стол и даже фортепиано, правда, запертое на ключ. Обстановка почти домашняя, если бы не двое вооруженных солдат у дверей комнаты. Их присутствие было одной из главных пыток ареста.
Самих солдат Чижов не воспринимал одушевленными — они стояли, как вкопанные. Жили только их глаза. Если Чижов стоял, сидел или лежал, глаза отрешенно отдыхали. Но стоило арестанту пошевелиться — они тотчас оживали и неотвязно следовали за ним, если он начинал нервно ходить из угла в угол.
Спустя какое-то время в комнату зачастили посетители.
Первым вошел солдат с бритвенным ящиком, обернутым в полотенце.
— Чего тебе надобно? — спросил недовольно Чижов.
— Я цирюльник, прислан к вашему высокоблагородию.
— К чему? Ты же видишь, что я не бреюсь.
— Его превосходительство генерал Дубельт послал меня…
— Пошел вон, ты мне не нужен. Вероятно, генерал велел позвать тебя к себе! Пошел!
Цирюльник вышел. Вслед за ним стали приходить какие-то люди — все под ничтожными и пустыми предлогами: один спросит, есть ли ключ от фортепиано, другой — чиста ли комната… Видно было, что приходили из любопытства.
Свое возмущение Чижов сорвал на штаб-офицере, заглянувшем к нему.
— Скажите, — не выдержал он, — вы все приходите ко мне из собственного интереса или по приказанию начальства?!
Штаб-офицер смутился не столько от вопроса Чижова, сколько от тона, каким это было сказано. Ему неловко было при солдатах ретироваться. Между тем арестант пришел в бешенство, подбежал к столу, схватил принесенный накануне поднос с едой и с размаху швырнул его на пол, да так, что бывшая на нем посуда разбилась вдребезги.
— Что я вам, обезьяна, что ли, что вы все меня разглядываете?! Ступайте к Дубельту и скажите, чтобы он соизволил немедленно явиться ко мне и объяснить причину моего ареста!
Штаб-офицер что-то пробормотал и выскользнул из комнаты.
Вскоре действительно пришел сам начальник Штаба корпуса жандармов, управляющий Третьим отделением Леонтий Васильевич Дубельт. Окинув взглядом обстановку, в которой содержался подследственный, и задержавшись на еще не просохшем пятне на полу после только что убранных остатков пищи и осколков посуды, он укоризненно покачал головой, опустился в кресло и пригласил сесть Чижова.
— Вас арестовали как члена тайного общества, опасную деятельность которого удалось вовремя пресечь, — сообщил Дубельт. — Сознайтесь, каковы ваши убеждения, назовите людей, с кем вы были преступно связаны, и вы облегчите свою участь.
— Я славянофил, — ответил Чижов с вызовом. — Русского или точнее сказать, — он сделал ударение, — московского направления. Надеюсь, этим все сказано…
Темпераментный, не терпящий чьего бы то ни было диктата и принуждения, Чижов был чрезвычайно возмущен арестом, ломавшим все его издательские планы. Просидев под следствием в Третьем отделении две недели, он оставил по себе память на многие годы. Дубельт, ведший дело кирилло-мефодиевцев, так вспоминал о Чижове: «Это был какой-то черт, а не человек, очень бедовый, упрямый и пресердитый»[207].
Подобно Н. И. Гулаку, Н. И. Костомарову, Т. Г. Шевченко и П. А. Кулишу, Чижов упорно отрицал свое отношение к «преступному обществу», находившемуся к моменту ареста его членов лишь в стадии организационного оформления. Среди вещей Чижова не оказалось главных улик — кольца и образа во имя святых Кирилла и Мефодия. На первом же допросе Чижов показал, что принадлежал к кружку московских славянофилов, и в дальнейшем последовательно отстаивал это утверждение.
Из близких друзей Чижова к дознанию по делу кирилло-мефодиевцев был привлечен Николай Аркадьевич Ригельман. В 1843–1845 годах, путешествуя по славянским землям, он общался с видными деятелями чешского и словацкого национального возрождения: В. Ганкой, Л. Штуром, Л. Шафариком, Я. Колларом — и впоследствии в письмах к ним из России употреблял, по словам перлюстраторов из Третьего отделения, «сомнительные выражения о славянском развитии, о возвышении простого народа, о чувстве общего братства и равенства»[208].
Центральное место в его взглядах занимала идея о возвращении всех славян к единой Православной вере и распространении среди них единого письменного языка — русского, как наиболее употребительного; по мнению Ригельмана, единение на религиозной и языковой основе в совокупности с особой духовной организацией славян обеспечит в будущем славянскому племени всемирно-историческую роль.
Кроме Чижова, Ригельман имел тесные контакты со всеми московскими славянофилами, но особенно был близок к А. Н. Попову, И. С. Аксакову и А. И. Кошелеву. Живя на «благословенной Украйне», он часто приезжал к друзьям в Москву (последний раз был в Москве за год до ареста — в начале 1846 года, вместе с Чижовым).
В то же время Ригельман поддерживал связи с кирилло-мефодиевцами в Киеве и с позиций «славянофила киевского»[209] критиковал москвичей за забвение культурно-языковых интересов украинцев. Значительную роль в грядущем единении славянских народов он отводил Киеву. В одном из писем к Чижову, шутливо называемому им «ужасным москалем», Ригельман подчеркивал: «Киев — очень важное место в системе русского славянства; тут можно завязать и скрепить узел, соединяющий Восточную и Северную Русь с Южною и Западною»[210].
И впоследствии, в 50–70-е годы, оставаясь на славянофильских позициях, являясь членом Славянского комитета, сотрудничая в славянофильских печатных органах и участвуя в промышленно-банковском учредительстве (Ригельман являлся пайщиком возглавляемых Чижовым частных банков и железнодорожных акционерных обществ), он все же не забывал интересы собственно украинских предпринимателей. Так, в 1866 году Ригельман писал Чижову, собравшемуся продлить Московско-Троицкую железную дорогу до Ярославля: «Тебе бы следовало поработать и для нашего края, который играл не последнюю роль в твоей жизни… Гораздо бы ты лучше сделал, если бы приехал к нам да построил дорогу из Багеты в Киев или из Витебска в Киев, — последняя дорога, по мне, более всего необходима: мы до сих пор строили дороги, кажется, только для иностранцев, чтобы снабжать их более дешевым хлебом и дать им более удобный сбыт для их продуктов…»[211]
К следствию о Кирилло-Мефодиевском обществе Ригельман был привлечен после того, как у кирилло-мефодиевца П. А. Кулиша, командированного Академией наук за границу для изучения славянских языков, при аресте были отобраны данные ему Ригельманом рекомендательные письма к идеологам и руководителям чешского и словацкого национального движения — поэтам и филологам В. Ганке и Л. Штуру. Из писем следовало, что Кулиш, «известный своими замечательными заслугами в отношении к Украйне», должен сообщить братьям-славянам на Западе «обстоятельные известия» о ходе славянского культурно-национального движения в России[212].
С неудовольствием отмечая равнодушие отечественной журналистики (и как следствие — публики) к проблеме славянской взаимности, славянофилы и кирилло-мефодиевцы были объединены в это время общностью стоявших перед ними просветительских задач. Большие надежды связывали они с изданием в Москве Чижовым первого «самостоятельного русско-славянского журнала» «Русский вестник». Кулиш, например, в ноябре 1846 года дал Чижову согласие стать постоянным сотрудником журнала и передать в него для публикации свой роман «Черная рада». От лица славянофилов и кирилло-мефодиевцев Ригельман писал Ганке и Штуру: «Известные вам доблестные качества издателя делают почти несомненными наши ожидания всего хорошего от этого издания. Это будет явление замечательное в нашей словесности, если только Чижову удастся исполнить его сообразно своим предположениям… Мы все просим наших западных братьев не отказывать ему в своем живом содействии»[213].
Идейные воззрения славянофилов и кирилло-мефодиевцев во многом были тождественны. Их объединяла общность взглядов на особую, мессианскую роль славянского мира с его общинным бытом и верой, сентиментально-романтизированное представление о прошлом славян и неприятие современной им крепостнической действительности. Славянофилы и кирилло-мефодиевцы выступали за отмену сословных привилегий, требовали предоставления буржуазных прав и свобод, звали высшие слои общества к опрощению и слиянию с народом.
В то же время между славянофильством и идеологией Кирилло-Мефодиевского общества были и существенные различия. Из славянофилов антимонархические воззрения кирилло-мефодиевских «братчиков» разделял лишь Чижов. Ему же была близка мысль членов общества объединить всех славян в федеративную республику, с тем лишь уточнением, что члены Кирилло-Мефодиевского общества видели в создании единого Славянского союза путь обретения Украиной подлинной национальной свободы, ибо самостоятельное ее политическое существование невозможно.
Что же касается позиции славянофилов в этом вопросе, то они, хотя и признавали крутость перехода от казачьей вольницы к самодержавию и порицали произвол представителей государственного начала по отношению к украинцам, все же категорически не соглашались с утверждениями кирилло-мефодиевцев о «владычестве Москвы, убивающей народность Украины». «Что бы ни говорили, — писал Ю. Ф. Самарин, — а Московское государство спасло материальное существование простого народа на Украине… оно положило конец притязаниям Польши, спасло Православие и вывело ненавистную Унию. Всего этого Украина для себя не могла сделать. Пусть же народ украинский сохраняет свой язык, свои обычаи, свои песни, свои предания; пусть в братском общении и рука об руку с великорусским племенем развивает он на поприще науки и искусства… свою духовную самобытность… Историческая роль его — в пределах России, а не вне ее, в составе государства Московского…» [214]
Чижову, стороннику реформаторского пути общественного развития, было близко либеральное течение в Кирилле-Мефодиевском обществе. Его представители: Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш, В. М. Белозерский, Д. П. Пильчиков, А. Д. Тулуб, А. В. Маркович — в отличие от радикальной части кирилло-мефодиевцев в лице Т. Г. Шевченко, Н. И. Гулака, А. А. Навроцкого, И. Я. Посяды, разделяли тактические положения общества, зафиксированные в «Главных правилах»: «Как все общество в совокупности, так и каждый член должны свои действия соображать с евангельскими правилами любви, кротости и терпения; правило же — цель освящает средство — общество признает безбожным»[215].
В противоположность заговорщической тактике кирилло-мефодиевцев славянофилы всегда стремились действовать легально, используя любую возможность печатно высказать свое мнение по волнующим их вопросам, порой отнюдь не академического свойства. Ни о каком организационном оформлении своего кружка и превращении его в тайное общество с далеко идущими политическими целями они не помышляли. Предпринимавшиеся же попытки создать общеобязательную писаную славянофильскую программу так и не увенчались успехом[216].
Когда дело кирилло-мефодиевцев «вышло наружу», славянофилы поспешили отмежеваться от «преступных заблуждений» киевлян. 30 мая 1847 года Хомяков писал Самарину: «Малороссиян, по-видимому, заразила политическая дурь. Досадно и больно видеть такую нелепость и отсталость… Не знаю, до какой степени преступно заблуждение бедных малороссиян, а знаю, что бестолковость их очень ясна. Время политики миновало. Это Киреевский напечатал тому уже два года…»[217]
Идейная связь Кирилло-Мефодиевского общества с московским славянофильством была понята еще современниками[218]. Не ускользнула она и от внимания правительства. Помимо фактов, свидетельствовавших о личных контактах кирилло-мефодиевцев с участниками славянофильского кружка в Москве, а также непосредственной причастности к делу о раскрытом обществе двух славянофилов, Чижова и Ригельмана, — Третье отделение приняло к сведению показание предавшего кирилло-мефодиевцев студента А. М. Петрова, из которого следовало, что заговорщики, «стремившиеся произвести переворот в государстве… составляли огромное общество с главным центром в Москве»[219].
Шеф жандармов граф А. Ф. Орлов предписал чиновнику особых поручений Н. А. Кашинцову подробнейшим образом разузнать «как о каждом из московских ученых и писателей, преданных славянству, так и о том, не соединяют ли они свои занятия с какими-либо политическими идеями». Лично за А. С. Хомяковым, «скомпрометировавшим» себя «участием в намерении Чижова издавать журнал в духе славянофилов», учреждалось «секретное, но бдительное наблюдение». Поручено было обратить особое внимание на все выходящие в Москве журналы, сборники и книги славянофилов, «перечитывать их тотчас по напечатании и о всех возгласах полуполитических и двусмысленных, равно обо всем, что может скрывать в себе вредную цель или порождать сомнительные толки, доносить… немедленно»[220].
Власти были столь напуганы существованием в Москве «славянофильской противуправительственной партии», что ими было дано указание поощрить А. А. Краевского — издателя выходивших в Петербурге «Отечественных записок», рупора «западной идеи», — «к продолжению помещения в его журнале статей в опровержение славянофильских бредней»[221].
Анализ сочинений славянофилов, проведенный чиновниками Третьего отделения, показал, что они написаны в тех же «темных выражениях», как и бумаги, найденные у участников преступного общества; отсюда делался вывод: «…первое, что… киевские славянисты не так виновны, как с первого раза представлялось, ибо делали то, что <другие> делают печатно… и второе… надобно положить, наконец, предел опасным возгласам московских славянофилов, тем более что здесь одних преследуют, а там другие продолжают делать то же самое»[222].
Во Всеподданнейшем докладе Царю граф А. Ф. Орлов писал: «Производство дела о Славянском обществе св. Кирилла и Мефодия показало, что идеи о восстановлении в каждой земле народности, языка, собственной литературы, об улучшении положения людей и соединении всех славянских племен в одно целое не принадлежат одним лицам, прикосновенным к делу Славянского общества. В Париже… Мицкевич, в землях западных славян Шафарик, Ганка, Штур, Гай и другие знаменитые ученые… убеждают славян нашего поколения соединиться в одно патриархальное, народно-представительное государство. Славянские идеи проникли в Россию. Особенно в Москву. Там многие молодые люди называются и сами именуют себя славянофилами… Выражаясь напыщенно и двусмысленно, они нередко заставляют сомневаться, не кроются ли под их патриотическими возгласами… противные нашему правительству цели. Киевские ученые пошли еще далее и составили… общество святых Кирилла и Мефодия, присоединяя к ученым рассуждениям политические… Если правительство не примет мер и в отношении великороссийских славян, то легко случиться может, что они сами впадут в преступление…»[223]
27 мая 1847 года министром народного просвещения С. С. Уваровым по Высочайшей воле был написан и разослан попечителям Московского, Петербургского, Харьковского и Киевского учебных округов циркуляр, разъяснявший официальную точку зрения на славянофильство в связи с делом кирилло-мефодиевцев. Друг Чижова, историк литературы, критик и цензор А. В. Никитенко, присутствовавший при чтении уваровского циркуляра на чрезвычайном собрании совета Петербургского университета, так передавал в своем дневнике его общий смысл: «Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, а мы сами по себе… Оно и не заслуживает нашего участия, потому что мы без него устроили свое государство, без него страдали и возвеличились, а оно всегда пребывало в зависимости от других, не умело ничего создать и теперь окончило свое историческое существование. На основании всего этого министр желает, чтобы профессора с кафедры развивали нашу народность не иначе, как по этой программе и по повелению правительства…»[224]
Таким образом, официальный Петербург, чувствуя угрозу со стороны «подрывных сил», заботясь об «охранении духа народного от заразы возмутительных идей», а также опасаясь ухудшения дипломатических отношений с Габсбургской и Османской монархиями, исходил из мнения о вредности каких-либо мечтаний о культурном и политическом объединении славян и подменял их «идеей русской национальности», культивирующей патриотизм не из созданного игрой воображения «всеславянства», но из «русского первоисточника», другими словами — из «теории официальной народности».
Одновременно продолжалось следствие по делу об арестованных. Чижову было предложено письменно ответить на ряд вопросов. С кем он виделся за границей? В чем сущность славянофильских идей? Какие он имеет суждения о соединении славянских земель? Кто в Москве разделяет его убеждения? Зачем он отрастил бороду, запрещенную чиновникам к ношению указом от 2 апреля 1837 года? По какому случаю он состоял в переписке с филологом Людовиком Люсьеном Бонапартом, племянником Наполеона? Как он объяснит происхождение найденной в его бумагах при аресте записки профессора Московского университета Погодина к раскольнику купцу Большакову с просьбой допустить ее подателя к рассмотрению образов в раскольничьих молельнях и скитах?..
Ответы Чижова, составившие свыше пятидесяти листов, по отзыву И. С. Аксакова, были полны «достоинства и благородной смелости»[225]. Так, давая разъяснения на вопрос о том, действительно ли он «обнаруживал либерализм в политическом и нравственном отношении» и занимался тайно в Петербурге в 1834 и 1835 годах какой-то статьей, Чижов, отвергнув обвинение в последнем, от своих либерально-оппозиционных взглядов не отрекся. Вместе с тем Чижов, не желая «подставлять» товарищей, обошел в своих ответах молчанием «демократические начала славянофильской проповеди» и постарался представить своих единомышленников «горячими патриотами», безоговорочными сторонниками триединой формулы: «Самодержавие, Православие и народность». Чижов настаивал: «…все понятия о славянстве, как мои, так и других московских писателей, суть чисто дело науки, принадлежат чисто историческому взгляду, без всякого политического направления»; все славянофилы «убеждены, что Россия и Царь слиты в одно нераздельное <целое>, что любить одну, не любя другого, нет возможности»[226].
Подобно остальным, привлеченным по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе, Чижов повторил версию, подсказанную во время следствия чиновниками Третьего отделения. В обобщенном виде она была выражена графом А. Ф. Орловым в докладе на имя Царя. Орлов писал, что «доносы и первые сведения, как всегда бывает, преувеличили важность, и дело оказалось в виде менее опасном… они (кирилло-мефодиевцы. — И. С.) полагали соединить славянские племена под скипетром Вашего Императорского Величества. Не касаясь до настоящего образа правления в России, они желали только, чтобы имеющие присоединиться к нам иноземные славянские племена устроены были по примеру Царства Польского. Им казалось, что Ваше Величество, по силе духа Вашего, одни можете совершить это великое дело; но сомневаясь, что Ваше Величество, занятое внутренним благоустройством государства, соизволили принять участие в этом предприятии, они надеялись достигнуть соединения славян своими средствами»[227].
Провоцирование Третьим отделением заведомо ложных, в верноподданническом духе показаний объяснялось желанием правительства уверить вступавший в революционные бури 1848 года внешний мир во внутренней мощи и сплоченности самодержавной России. Невольно напрашивается параллель с официальной версией восстания декабристов. Согласно ей, «происшествие», имевшее несчастье случиться 14 декабря 1825 года, было незначительным и маловажным инцидентом, который никоим образом не мог нанести урон престижу нового Императора и монархии в России. В нем, убеждало Министерство иностранных дел своих представителей за границей, приняли участие лишь «несколько молодых офицеров, которые со свойственной их возрасту неосторожностью дали себя завлечь в общество, преступные цели которого они не понимали и печальные результаты не могли предвидеть»[228].
«Откровенные» ответы Чижова были прочтены Николаем I, который увидел в них, как и в показаниях других арестованных, «ученый бред» молодых людей, проистекающий от избытка любви к отечеству. Граф А. Ф. Орлов в своем представлении по поводу Чижова дал ему следующую характеристику: «…без сомнения, он есть только славянофил, вроде других московских славянофилов, даже патриот русский, но патриот, не знающий никаких пределов, и мечтатель бесполезный. Самыми занятиями и направлением своим он не только не обещает ничего существенного и истинно важного, напротив того, может сбивать с толку молодое поколение и сделаться источником вреда… Посему я полагал бы освободить Чижова из-под ареста, но не дозволять ему издание журнала, воспретить выезд за границу и учредить над ним секретное наблюдение»[229].
Это предложение было утверждено Императором. Чижову отныне запрещалось проживать в обеих столицах. Вместе с тем ему было «Высочайше разрешено, отстранив все идеи и мечты славянофилов, продолжать литературные занятия, но с тем, чтобы он свои произведения вместо обыкновенной цензуры представлял на предварительное рассмотрение шефа жандармов»[230].
Никитенко, у которого Чижов побывал перед своим отъездом из Петербурга, записал 1 июня 1847 года в своем дневнике: «Как он вперед соединит свои славянофильские идеи с тем, что теперь должен будет писать и делать, не знаю…»[231]
Другого славянофила, проходившего по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе, Н. А. Ригельмана, предложено было перевести на службу в одну из великороссийских губерний, но благодаря поручительству Д. Г. Бибикова, киевского военного генерал-губернатора, он был оставлен в Киеве под строгим полицейским надзором, без права выезда за границу.
Члены Кирилло-Мефодиевского общества были приговорены к различным мерам наказания.
Шевченко был отдан в солдаты под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать — за сочинение стихов «самого возмутительного содержания», в которых он «с невероятною дерзостию изливал клеветы и желчь на особ Императорского Дома, забывая в них личных своих благодетелей» («Карл Брюллов, — упоминалось в деле Шевченко, — написал портрет В. А. Жуковского, который представил его Государю Императору. Его Величество и прочие члены Августейшей фамилии сделали складку и деньги послали через Жуковского Брюллову, а Брюллов на эти деньги выкупил Шевченко на свободу…»)[232].
Гулак как главный руководитель общества, «человек, способный на всякое вредное для правительства предприятие», был осужден «за упорное запирательство» к трехлетнему заключению в Шлиссельбургскую крепость.
Остальные члены Кирилло-Мефодиевского общества были сосланы. Третье отделение выдало каждому из них (в том числе и Чижову) «денежное вспомоществование на обмундирование и первоначальное обзаведение» — по 200 рублей серебром.
Не забыты были и родственники. Невесте Костомарова, арестованного накануне свадьбы, было выдано 300 рублей на обратный путь в Киев. Матери Костомарова, приехавшей в Петербург вместе с невестой сына, кроме возмещения расходов на дорогу (300 рублей), было выдано жалованье сына за все время его заключения (600 рублей). Также жене Кулиша было произведено жалованье мужа[233].
В «Деле о Кирилло-Мефодиевском обществе», находящемся в настоящее время в Государственном архиве Российской Федерации, в фонде Третьего отделения, сохранился любопытный отчет, свидетельствующий о том, во что обошлось казне содержание в течение полугода подследственных. На стол с вином и водкой был употреблен 221 рубль 10 копеек серебром; чаю, сахару, сливок и булок поставлено на 33 рубля 70 копеек; куплено: «очки, бандаж, пиявок, горькой воды, коньяку, бумаги ватманской Шевченко, сигар, папирос, табаку…» — на 22 рубля… [234]
Выйдя из-под стражи, Чижов уехал на Украину и некоторое время жил в Киеве, на квартире у Ригельмана. Он все еще надеялся, что ему будет разрешено издавать журнал. В одном из писем к Гоголю он сообщал, что «избрал себе поприщем деятельности — быть писателем… Начинания огромны, замашки велики». Но в то же время в душу закрадывались сомнения, особенно усугубившиеся со смертью Языкова, «нашего ангела-соединителя»: «Пришло ли время издавать журнал, могу ли я вполне удовлетворить тем требованиям, каким теперь должен удовлетворять журнал московский, — эти вопросы не дают мне покоя… Может быть, просто надобно всего ждать от времени, просто созреть…»[235]
События 1847 года, надолго лишившие Чижова и всех славянофилов надежды на издание собственного периодического печатного органа, упрочили их оппозиционность в отношении правительства Николая I. В то же время 1847 год, как и урок, вынесенный из трагедии на Сенатской площади в 1825 году, укрепил их в уверенности, что альтернативы прогрессу путем мирных, постепенных изменений «сверху» при активном участии общественных сил не существует. В свою очередь, официальный Петербург, так и не решившись провести политический процесс по делу славянофилов и их «малороссийской партии», продолжал видеть в славянофильстве «подрывную силу», вполне способную «посягнуть на правительство и общее спокойствие отечества».
Революционные события 1848 года на Западе возбудили у властей новые опасения. Аресты в 1849 году Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова преследовали цель запугать славянофилов и раскрыть их «преступные замыслы». Исключительной ловкостью «московских словен» объясняло правительство то обстоятельство, что ни один из них не оказался замешан в «заговор петрашевцев». Лишь последовавшая за смертью Императора Николая I «александровская весна», открывшая для России эпоху либерально-буржуазных реформ, позволила славянофилам вздохнуть несколько свободнее.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Судьба с колыбели воспитала меня Дон-Кихотом в деле любви, страстной любви к России. Жить для нее, отдать ей все до последней капли крови, — это руководит всею моею деятельностью.Ф. В. Чижов
Глава первая УТРАТА
На Украине Чижов долгое время не мог прийти в себя: «Время идет все одинаково, то есть в бездействии; это меня мучит, мучит сильно»[236].
Крушение планов общественных сопровождалось крушением планов личных. Катерина Васильевна Маркевич, любимая женщина Чижова, с которой, по его словам, было связано все его «личное, внеобщественное существование», сильно занемогла, едва узнав от Галаганов об аресте своего возлюбленного при въезде в пределы России. Накануне, весной 1847 года, она родила четвертую дочь, Катеньку, отцом которой, как можно предположить, был Федор Васильевич. После долгих проводов и мучительного расставания в январе 1846 года Чижов еще несколько раз, в течение весны и лета, приезжал на Украину, к Катерине Васильевне; от нее же осенью того же года он отправился в свою последнюю поездку на Балканы, закончившуюся двухнедельным заключением и ссылкой.
Супруг Катерины Васильевны Михаил Андреевич Маркевич вряд ли не догадывался о том, что на самом деле связывало его жену и мать его троих детей с «другом дома» Федором Васильевичем. Но стремясь отдалить неизбежность окончательного разрыва, он закрывал глаза на существование любовного треугольника.
Известие о рождении дочери застало Чижова за границей. Поэтому можно понять то нетерпение, с которым после полугодичной разлуки ожидалась назначенная на конец мая встреча. Но в отношения двух любящих сердец вмешалась большая политика. С Катериной Васильевной случился «удар», она потеряла зрение, затем произошло «разлитие молока»… «Я нашел ее в страждущем состоянии, — сообщал Чижов в Рим своему главному поверенному в сердечных делах Александру Иванову, — она начала поправляться, как вдруг непредвиденные обстоятельства до того взволновали ее, что только теперь, после двухмесячных страданий, она подает кое-какую надежду на выздоровление, и то одну слабую надежду»[237].
Но чуда не случилось. 16 декабря 1847 года Катерина Васильевна Маркевич умерла. Чижов стал крестным отцом оставшейся без матери малышки, тайну рождения которой он унес с собой в могилу…
«Сегодня осьмой день, как меня постигло несчастие, — делился Федор Васильевич постигшим его горем с Александром Ивановым. — Я потерял все, что имел на земле. У меня есть мать, сестры, друзья; но потерявши ту, в которой Бог давал мне зреть самого себя, я уже отрекаюсь от всего… Ничто не занимает в душе моей того места, какое дано было этому небесному ангелу, посланному на землю для того, чтобы очистить и улучшить всё и всех, что и кто ни соприкасался с нею. Ваша душа чиста, ей чистота доступна; поэтому вы примите слова мои не за восторженность любовника, а за грусть человека, лишившегося счастия осязательно очами зреть присутствие Божие. Святая жизнь этого ангела, незлобливая душа ее, все являло ее святую природу; но последние четыре месяца Богу угодно было показать, что избранные Им поколебались в вере и любви к Нему. Четыре месяца невообразимых мучений, таких, что, случалось, сутки на трое слышно было одно скрежетание зубов и невольно, насильно вырывавшиеся крики, четыре месяца почти безотдохновенных страданий, — и ни одного… ропота! Она при малейшем отдыхе только-что молилась Богу и говорила одно: как ни велики мои страдания, но грехи мои заслуживают больших. Александр Андреевич, во всю мою жизнь я знал двух существ такой высоты: Языкова и ее, и Бог сподобил меня быть близку тому и другому. Она вверилась мне, как дитя, любила меня, как нечто высшее, и при этой истинно-неземной любви была строга ко всему, не стоящему любви ее… и святости, которою преисполнена была чистая душа ее. В самой любви она создала меня, и как дружба Языкова, так и любовь ее возвышали меня в собственных глазах моих. Теперь одна мольба к Богу, чтоб Он навел на путь, которым бы мог я соединиться с этими святыми душами в другом мире… Богу угодно послать испытание; прошу одного — выйти из него чистым, снести без ропота и утешиться не земными надеждами и мечтами, а одним упованием в вечность и покорность воле Божией»[238].
Чижов чувствовал себя виноватым в смерти «незабвенной Катиньки» и оттого еще больше страдал. Желая высказаться, выговориться и быть услышанным, он уже через два дня шлет в Италию новое письмо: «Впервые испытываю я такую грусть, какой никогда и представить себе не мог, — исповедовался он другу-художнику. — Грусть нападает на меня минутами, постоянно же какая-то непонятная отрада молиться ангелу, улетевшему с земли. Ее комната для меня священна… Оставаться в ней одному, часто без мысли, пред тем, что после нее осталось, — для меня невыразимое наслаждение. Боюсь <того момента>, когда придется обратиться к действительной жизни; но любовь к ней так свята, что она только может укрепить силы. Теперь у меня как будто бы одною надеждою больше, что есть представитель за меня перед Богом. На земле все так мимолетно, что даже, кажется, не будет грустно и жить: жизнь пройдет, как сон. Дай только Бог, чтобы в ней приготовить себе будущее существование… Одно лишь бы исполнить, что назначило Провидение, и не заснуть бы пред приходом Жениха. Бог дал мне счастие на земле, больше просить не смею и даже не имею охоты; пора начинать за него расплачиваться»[239].
Вскоре из Озерова от сестер пришло известие о кончине матери. Чижов был безутешен. Его дневник и письма того времени полны терзаний и неутешной скорби: «…Мое положение… ужасно грустное. Я выбит из колеи, ничего не вижу впереди себя»; «…иногда боюсь сойти с ума, до того осаждает меня тоска…» Он поселяется при Киево-Печерской лавре, в гостинице для паломников, и проводит дни и ночи в постах и молитвах: «У меня одна жизнь и в ней одно утешение — панихида…»[240]
Часами Федор Васильевич вел душеспасительные беседы с монахами лавры — «людьми глубокими и чистыми душою», — с приходящими в Киев со всех краев России богомольцами. И постепенно тон его писем становится другим, смиренным и более покорным судьбе. Он писал Иванову из Киева: «Бог ведет так или иначе; без несчастий трудно доискаться в собственной душе до истины. Она там, на дне; надобно, чтобы горе, и горе не условное, а истинное, потрясло душу до основания. „Блажен же человек, его же обличи Бог; наказание же Вседержителева не отвращайся. Тот бо болезни творит и паки восставляет: порази, и руце Его исцеляет. Шестижды от беды изымет тя, в седьмий же не коснетися зло“. Трудно, очень трудно дойти до чего-нибудь без сильнейшего, убийственного горя. Оно же и оселок силы духа: выдержишь, — будешь служителем Божиим, падешь, — значит и не годен был бы на делание»[241].
В конце концов сильная натура Чижова взяла свое, и он обрел волю к жизни.
Желая иметь подле себя портрет умершей возлюбленной, он обратился за советом к Александру Иванову, кто бы из находившихся в то время в Италии живописцев мог бы выполнить его заказ. В качестве образца Федор Васильевич предложил взять портрет святой великомученицы Екатерины Александрийской работы Джованни Анджелико Фиезолийского, небольшую гравюру с которого он привез когда-то в Рим в подарок другу. Лик этой особо чтимой в христианском мире святой удивительным образом напоминал Чижову дорогие ему черты. «Портрет умершей и истинной великомученицы… не оскорбит никого, — уверял он, — потому что вся жизнь ее проведена в нравственных борениях, а смерть мучениями… очистила ее еще на земле и дала узреть преддверие рая»[242].
К сожалению, нет свидетельств того, что просьба Чижова была исполнена…
Глава вторая
ССЫЛКА
Подробности жизненного уклада русского крестьянства интересовали Чижова, сколько он себя помнил. Еще за двадцать лет до народников, в простом платье, с «купеческой» бородой, он предпринял своеобразное «хождение в народ». В его показаниях на следствии в Третьем отделении есть любопытное свидетельство: «Когда я проехал (в 1845–1846 годах. — И. С.) от Радзивиллова до Киева, потом до Прилук, Новгород-Северска, съездил в Москву и в… Костромскую губернию, я нашел, что борода моя дала мне много способов прямее и лучше смотреть на ход вещей, потому что все были со мной запросто, мужики рассказывали все подробности их быта и их промышленности, что меня очень занимало»[243]. Тогда он не мог предположить, насколько добытый таким путем опыт знакомства с жизнью крестьян и состоянием народных промыслов пригодится ему вскоре…
Славянофилы в большинстве своем принадлежали к числу крупных помещиков, хозяйство которых самым непосредственным образом было связано с промышленным производством, которое было основано на переработке сельскохозяйственного сырья. А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, князь В. А. Черкасский, А. И. Кошелев (последний, по утверждению историка и археографа П. И. Бартенева, был одним из прототипов гоголевского «примерного хозяина» Костанжогло[244]) располагали обширными земельными угодьями, тысячами душ крепостных крестьян и одновременно владели винными, сахарными, полотняными заводами. Они занимались активной хозяйственной деятельностью у себя в имениях, широко применяли передовые методы возделывания сельскохозяйственных культур с помощью наисовременнейших машин, в том числе и с использованием энергии пара. Втянутые в товарно-денежные отношения, они с особой ясностью понимали, что непроизводительный крестьянский труд тормозит развитие их хозяйств, и выступали с требованием отмены крепостного права как «чуждого основам народной жизни» института[245].
«Полуразночинец» Чижов, не имевший, подобно И. С. Аксакову, ни земли, ни крепостных крестьян, оказался, по определению американского историка П. Христоффа, «одним из наиболее разносторонних и предпринимательски настроенных славянофилов»; по словам другого американского исследователя Т. Оуэна, Чижов, «самый практичный из славянофилов», «добивался усиления промышленной мощи России с помощью внедрения в жизнь несметного числа проектов», тем самым «бросая вызов доминированию Западной Европы в мировой экономике»[246]. Для него XIX век был прежде всего «веком промышленности, веком деятельности»[247].
Еще в середине 30-х годов, встречаясь в доме своего учителя академика М. В. Остроградского с преподавателями Института путей сообщения, Чижов зарекомендовал себя горячим сторонником освоения российского бездорожья с помощью парового рельсового транспорта. Причем, уверял он, уровень теоретических познаний и начатков практического опыта в России таков, что у нас вполне в состоянии справиться с этой задачей, опираясь на собственные силы[248].
Начиная с 1833 года на знаменитых уральских металлургических заводах Демидовых уже бегали по чугунным «колесопроводам» паровозы с прицепленными к ним вагончиками, груженными рудой. Изобретенные крепостными мастерами-самоучками отцом и сыном Черепановыми, они именовались в заводских производственных рапортах «пароходными дилижанцами» или «сухопутными пароходами». Однако правительство, сомневаясь в конкурентоспособности отечественного железнодорожного строительства, отдало его развитие на откуп иностранцам.
В 1837 году Петербург, Царское Село и Павловск соединила железная дорога, построенная специально приглашенными из Европы инженерами и рабочими во главе с австрийским коммерсантом Францем Герстнером. Расстояние длиною в 24 версты пассажирские составы из восьми вагонов преодолевали за тридцать минут. По тем временам это казалось фантастическим. Именно открытию Царскосельской железной дороги посвящена «Попутная песня» М. И. Глинки на слова Н. В. Кукольника: «Веселится и ликует весь народ! В чистом поле мчится поезд!..»
По завершении строительства дорога перешла в собственность государства, а Герстнер, заработав на ее сооружении изрядную сумму, уехал в Америку.
Чижов отлично понимал значение железных дорог для страны, видел в них символ прогресса и процветания нации («Железные дороги для меня — девиз нашего века!»). Чтобы приблизить тот день, когда железнодорожное строительство будет вестись на русские средства, силами русских специалистов, Чижов считал полезным как можно раньше познакомить соотечественников с зарубежным опытом в этой области. Он издал в 1838 году в Петербурге первый на русском языке труд о паровых машинах, основанный на сочинениях англичан Пертингтона, Стеффенсона и Араго: «Паровые машины. История, описание и приложение их». Одна из глав книги была посвящена паровозам. В приложении Чижов поместил большое количество чертежей: общий вид паровоза, его продольный и поперечный разрезы, детали.
Периодическая печать высоко оценила труд Чижова, назвав его чрезвычайно своевременным и содержащим неоспоримые доводы в борьбе с противниками строительства железных дорог[249]. Спустя два года в статье «Жизнь и открытия Джемса Уатта», напечатанной в журнале «Сын отечества», Чижов предсказал, что изобретение паровых машин повлечет за собой в будущем большие материальные и моральные изменения в жизни целых народов[250].
В аграрной России Чижов выступал популяризатором идеи механизации сельскохозяйственных работ. Он опубликовал на страницах журнала «Библиотека для чтения» описание изобретенной им сеяльной машины, приспособленной к потребностям отечественного сельского хозяйства, и настоятельно рекомендовал предприимчивым помещикам использовать ее для облегчения труда крестьян и улучшения качества производимой ими продукции. «Всякому хозяину известно, как много урожай зависит от посева, — писал он в своей статье. — У нас, во всей России, обыкновенно сеют от руки… Устройство же этой машины так просто и так дешево, что для наших мужиков ничего нельзя желать лучшего… Насыпав зерна и закрыв ящик крышкою… мужик везет ее по ниве, как простую тачку. Число дырочек зависит от рода хлеба и почвы (щетины, задевая за зерна, толкают ее в дырочки и разбрасывают по ниве)… При обыкновенном сеянии ветер есть непреодолимое препятствие; при употреблении машины вы не боитесь ветра: она так низка, что разве что сильная буря помешает сеять. Но главная выгода та, что при этой машине с засевом можно соединить заборонку… Употребляя вместо человека лошадь, то есть заложа ее в оглобли и везя не как тачку, а как простую телегу, можно сзади привязать борону, и она тотчас будет заборонывать то, что засеется».
За основу своей сеяльной машины Чижов взял английскую базовую модель, которую он видел на выставках в Петербургском технологическом институте и Земледельческой школе. Однако английская машина нуждалась в «доводке». «В состав ее, — пояснял Чижов, — входят четыре чугунных колеса, которых негде достать внутри России, да и не по деньгам они для небогатых помещиков. К тому же, если такие колеса разобьются, их нельзя уже поправить. Между тем как эту, упрощенную машину, смастерит каждый мужик и сам ее починит: железная ось… — просто железная палка в полдюйма квадратных в разрезе; ее сделают во всякой деревенской кузнице»[251].
Оказавшись в ссылке на Украине, Чижов пытался найти здесь дело, которое могло бы увлечь, а кроме того, стать для него, лишенного средств к существованию, источником дохода. Его внимание привлекли большие посадки тутовых деревьев в Киевской губернии. Еще в 1843–1844 годах, живя в Италии и Франции, он специально ездил в районы развитого шелководства, осматривал плантации, интересовался ходом работ по разведению шелковичных червей. Тогда же у него зародилась идея: обучить крестьян средней полосы России и Украины шелководческому промыслу, который бы мог стать неплохим подспорьем к их полевому хозяйству. Кроме того, в 1840-е годы вынужденная уплата «дани» Франции и Италии за шелк была весьма велика. Достаточно сравнить стоимость итальянского шелка, шедшего по 1300 рублей ассигнациями за пуд, с отечественным, главным образом закавказским, стоимость которого не превышала 300–500 рублей. Развитие шелководства позволяло в скором времени насытить потребности российской промышленности в шелке и освободиться от его иностранного ввоза.
Следует иметь в виду, что шелк в эти годы, помимо удовлетворения текстильно-фабричных нужд, был важнейшим стратегическим сырьем. Из него делались «картузы» — мешочки для артиллерийских снарядов; при выстреле шелк полностью сгорал, не образуя тлеющих обрывков, которые при следующем выстреле могли вызвать саморазрушение пушечного орудия.
В мае 1850 года Чижов взял в аренду у Министерства государственных имуществ шестьдесят десятин шелковичных плантаций (четыре тысячи старых, запущенных деревьев) на хуторе Триполье, в пятидесяти верстах от Киева вниз по Днепру; они в течение многих десятилетий не приносили казне никакого дохода и потому были отданы Чижову в бесплатное 24-летнее содержание. Встав на стезю предпринимательства, Чижов записал в дневнике: «Теперь промышленное начинание должно решить все. Надобно будет на нем основать свое существование»[252].
Прежде чем приступить к непосредственной деятельности на арендованных землях, Чижов, привыкший все делать основательно, посетил лучшие плантации юга России, где познакомился с организацией хозяйств видных русских селекционеров — ставропольца А. Ф. Реброва и одессита Н. А. Райко. Для закрепления на практике полученных знаний он некоторое время работал на плантациях Райко в качестве ученика и рядового работника.
По возвращении в Триполье Чижов начал налаживать шелководческое хозяйство на отведенных ему землях: работал от зари до зари, жил, где придется, перебивался с хлеба на воду, затем выстроил себе небольшой домик, окруженный рвом, в полверсте от казенной деревни, — и уже вскоре с дозволения правительства отправился в Москву для продажи первого пуда собственноручно выработанного шелка.
А. А. Иванов, получив известие от друга-искусствоведа о его шелководческой деятельности в ссылке, поспешил выслать ему из Италии яички шелковичных червей лучшей миланской породы. «Москвичи» также были в курсе успешного хода чижовского хозяйственного эксперимента. И. С. Аксаков, командированный в начале 1850-х годов Русским географическим обществом на Украину для составления обзоров местных ярмарок, заехал в Триполье повидать Чижова. «Шелковое его заведение, — сообщал Иван Сергеевич родителям, — идет отлично: он получил уже две медали за свой шелк…»[253]
Однако не только интересами своего личного хозяйства жил Чижов. Он рассматривал шелководство как «источник вещественного благосостояния всей средне-южной России», видел в нем отрасль промышленности, «прямо развивающую личность человека»[254]. «Народ должен оставаться в сельском быту, — утверждали славянофилы, — но в улучшенном, возрастающем состоянии, и продолжать заниматься, как теперь, в семейном кругу, ремеслами, промыслами, торговлею и мануфактурной деятельностью, отнюдь не сосредоточивая сих действий, как в чужих краях, в столь часто развратном быту городском»[255].
Для Чижова было важно на практике доказать, что промышленность сельская (и шелководство в частности) превращает работника в «привольного хозяина» в противоположность промышленности фабричной, «для которой человек — работник и ничего больше»[256]. Прозванный в округе «шовковым паном», он раздавал бесплатно местным крестьянам тутовые деревья и личинки шелковичных червей, и уже спустя два-три года около его плантаций несколько сот крестьянских семей стали заниматься новым для себя промыслом и получать относительно высокие доходы. Кроме того, он организовал при своих плантациях практическую школу для мальчиков — учеников церковно-приходских школ различных губерний Украины. Оставаясь убежденным антикрепостником, он для пользы дела даже допускал временную возможность принудительного обучения крестьян шелководству: «Будь я с капиталом, можно было бы переселить народу из населенных губерний, хотя и совестно говорить о покупке душ, но я купил бы их с твердым намерением выкупить на волю… после приучения их к новой отрасли промышленности»[257].
Небогатые соседи-помещики, наслышанные об успешном ведении дел на чижовских шелковичных плантациях, стали заводить у себя в имениях шелководческие хозяйства, обращаясь при этом к Федору Васильевичу за советом и помощью. В 1855 году Чижов попытался привлечь к шелководству в качестве компаньона-пайщика Ю. Ф. Самарина, но тот вскоре был выбран в ротные командиры Симбирской дружины, и задуманное совместное предприятие расстроилось.
Итогом деятельности Чижова-шелковода стало издание им в 1853 году в Петербурге «Писем о шелководстве», а через 17 лет переиздание их в Москве с обширными дополнениями. В этой книге, удостоенной Московским обществом сельского хозяйства медалью, Федор Васильевич знакомил читателей с шелководством и его историей и на примере собственного многолетнего опыта доказывал его перспективность и прибыльность.
В доме Чижова, как правило, не было отбоя от гостей. По воспоминаниям Николая Кононовича Беркута, к хозяину трипольского хутора приходили «трактовать не об одних коконах, но о разных предметах, в знании которых виден был его выдающийся ум, многостороннее образование; характер же он проявлял сильный, энергичный»[258]. Некоторое время у него гостил художник Александр Алексеевич Агин, первый иллюстратор «Мертвых душ» Гоголя.
Иван Сергеевич Аксаков оставил следующее свидетельство о Чижове периода ссылки: «Человек умный и деятельный, сознающий свои силы и дарования… он успел так себя поставить, что все начальства и власти, около него живущие, его боятся и слушаются»[259].
Нередко на хутор к Чижову заезжали его давние сокиренские знакомые: Екатерина Васильевна Галаган, ее дочь с мужем и внуками и, конечно, сам Григорий Павлович Галаган. Бывший воспитанник Чижова с конца 40-х годов и вплоть до назначения его в 1883 году членом Государственного совета по департаменту законов не занимал оплачиваемых должностей: в 1848 году он был избран предводителем дворянства Борзенского уезда Черниговской губернии, а с 1851 года состоял совестным судьей.
В роковой для его наставника 1847 год Григорий Павлович женился. Его избранницей стала Катенька Кочубей. Ее род восходил к крымским татарским князьям, а прямым предком был генеральный судья Левобережной Украины Василий Леонтьевич Кочубей, казненный вместе с полковником Иваном Ивановичем Искрою в 1708 году по настоянию Мазепы. Отец Екатерины Васильевны, Василий Васильевич, хотя и имел чин тайного советника, но мало был на действительной службе и почти все время проживал в одном из родовых имений в Глуховском уезде Черниговской губернии. Его же брат Аркадий Васильевич был сенатором, а двое других, Демьян и Александр Васильевичи, являлись членами Государственного совета.
У Григория Павловича и Екатерины Васильевны Галаган в 1853 году родился сын Павлусь (Павел), и Федор Васильевич взялся его опекать. Время от времени наезжая в Сокиренцы с гостинцами для мальчика, он ненавязчиво внушал родителям мысль о необходимости воспитывать Павлуся «в среде народности», для чего советовал взять ему в няни простую малороссийскую женщину.
Рекомендации Чижова пришлись по душе Галаганам. Они одевали мальчика в национальную украинскую одежду и до пяти лет говорили с ним только на украинском языке.
В начале 50-х годов в Сокиренцах Чижов познакомился с родственником одного из соучеников Григория Павловича Галагана по Петербургскому университету живописцем Львом Михайловичем Жемчужниковым, работавшим в то время над серией гравюр на темы украинского народного быта. В доме Галаганов ему были отведены несколько комнат, в том числе и под художественную мастерскую, куда приходили натурщики, простые крестьяне. Его старшие братья, Алексей, Александр и Владимир, вместе с кузеном Алексеем Константиновичем Толстым были создателями легендарного образа Козьмы Пруткова, а сам украинофил Лев являлся автором широко известного портрета «директора Пробирной палатки». Столбовой русский дворянин, сын сенатора, родной племянник министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского, он женился на беглой крепостной крестьянке и был близким другом Тараса Григорьевича Шевченко. С хозяевами Сокиренец и Чижовым его роднила любовь к славянам, вера в близость их освобождения и слияния в единое союзное государство.
Лев Михайлович Жемчужников подолгу жил и в соседнем с Сокиренцами селе Восковцы — имении вдовца Михаила Андреевича Маркевича. Он писал акварелью и маслом пейзажи здешних мест, «все в ярах и прудах», находя их необычайно выразительными в любое время года. После смерти Катерины Васильевны на руках у Михаила Андреевича остались четыре дочери: Ольга, по-взрослому мудрая, начитанная и добрая, заменявшая младшим мать, красавица Надежда, бедовая шалунья Верочка и младшая Катенька, миловидный и ласковый ребенок. Зачастую в Восковцы наведывался и «друг дома» Чижов. Он обожал свою «крестницу» и мог часами играть с ней, забывая обо всем на свете…
В пореформенные годы, пойдя по стопам Чижова и не без его протекции, художник Лев Михайлович Жемчужников вполне в духе времени станет железнодорожным деятелем и поступит на службу в правление Московско-Рязанской железной дороги.
Иногда Чижову по хозяйственным делам приходилось бывать в Киеве. Тамошнее так называемое «образованное общество» он находил ничтожным и пошлым. Молодое поколение пребывало в совершеннейшей апатии: несколько часов на службе и потом игра в преферанс, с вечера — и до утра. «Разумеется, по моему характеру я… молодым людям не давал покоя, пробуя всеми путями пробудить в них искру жизни, — вспоминал Чижов. — Не знаю, надолго ли, но успел переменить картежные вечера на музыкальные»[260].
Используя приятельские отношения со многими высшими чиновниками Киевской губернии, Чижов пытался содействовать развитию промышленности и транспортного сообщения в крае: «Здесь в Триполье следовало бы устроить… пристань и… заботиться о дорогах, по которым идет подвоз хлеба. Потом вблизи есть превосходная глина для устройства кирпичных заводов…»[261] На протяжении всей жизни он испытывал стойкое отвращение к чиновничьей службе, пренебрежение чинами и званиями; однажды даже проснулся в страшном поту от привидевшегося кошмара — его наградили орденом с повышением в чине! Но в начале 50-х годов, ненадолго изменив своим принципам, он раздумывал, не взять ли себе место управляющего Киевской палатой государственных имуществ, надеясь быть «в состоянии на этом… поприще сделать что-нибудь доброе». Назначение это не состоялось скорее всего потому, что Чижов рассматривал свое пребывание в Киевской губернии как вынужденное, а потому временное. Душой он изо всех сил стремился в Москву: «Москва — сердце России», тогда как «Киев — русская святыня»[262].
Кратковременные наезды в Москву, официально — с коммерческой целью, а в действительности — для встреч с членами славянофильского кружка (в Москве «он (Чижов. — И. С.) посещает Алексея Степановича Хомякова, Сергея Тимофеевича Аксакова, живущего со своими сыновьями… и Дмитрия Николаевича Свербеева», — говорилось в одном из секретных донесений начальника 2-го округа корпуса жандармов шефу жандармов графу А. Ф. Орлову от 28 марта 1849 года[263]), не могли удовлетворить Чижова; он жаждал применения своих знаний и сил на широком поприще общественной деятельности. Но пока был жив Государь Николай Павлович, о разрешении на переезд в Москву на постоянное место жительства рассчитывать не приходилось. У Третьего отделения Чижов все еще находился под подозрением. Его перевод с итальянского «Записок Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел мастера и скульптора», позволивший знаменитому художнику эпохи Возрождения впервые заговорить по-русски, по цензурным соображениям был издан анонимно: имя опального Чижова было снято с титульного листа двухтомника, вышедшего в Петербурге в качестве приложения к первому номеру журнала «Современник» за 1848 год[264]. А Л. В. Дубельт, основываясь на слухах о том, что Чижов продолжает работать над историей Венецианской республики, приказал в 1849 году конфисковать у него подготовительные материалы — дневник с программой задуманного сочинения — и отослать для прочтения в Петербург.
Глава третья
«МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ИСТИННЫМИ ДРУЗЬЯМИ»
В ссылке Чижов узнал о выходе в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя и о реакции на них в обществе. «О Гоголе в Петербурге ходят престранные слухи, будто он помешался, — подлый, очень подлый Петербург», — писал Федор Васильевич в сердцах Александру Иванову[265].
Чижов был не на шутку встревожен очерняющими писателя сплетнями. Как и все славянофилы, он видел в Гоголе старшего и ближайшего своего союзника, пытающегося воссоединить в русском сознании истину всеобщую с истиной конкретно-национальной («Правда там именно и есть, где они ее ищут», — говорил о славянофилах Гоголь[266])…
После Италии Чижов и Гоголь встретились на Украине, в мае 1848 года. Гоголь только что вернулся из паломничества в Иерусалим, ко Гробу Господню, и гостил у матери и сестер. На неделю заехал в Киев повидать друзей. Остановился у А. С. Данилевского, приятеля детских лет, с которым отправился когда-то из родной Васильевки завоевывать Петербург.
Гоголь был наслышан о репрессиях, обрушившихся на Чижова, и попросил его разыскать. «Мы… встретились истинными друзьями», — припоминал подробности тех памятных дней Чижов[267].
Их многое объединяло, и прежде всего любовь и грусть по оставленной Италии. Вечера у Данилевского, у попечителя Киевского учебного округа М. В. Юзефовича, совместные прогулки по городу, утренние встречи в общественном саду, в Киево-Печерской лавре… Говорили мало, но и в молчании понимали друг друга. Разбитой и больной в то время душе Чижова была понятна болезнь души Гоголя. Высказываемые вслух автором «Выбранных мест» мысли о путях спасения России на началах разумного устройства труда падали благодатным семенем в душу начинающего предпринимателя и побуждали к деятельности.
Недоброжелатели нередко упрекали Гоголя в «трактовке окружающих свысока», требовании не только внешних знаков почтения, но и нравственного подчинения. По мнению же Чижова, Николай Васильевич, осознавая исключительность ниспосланного ему Всевышним дара, обладал величайшим христианским смирением. Своего рода «оригинальность» в поведении Гоголя, его замкнутость, в которой некоторые усматривали гордыню и надменность, Чижов объяснял тем, что истинный гений, творец обречен судьбой на одиночество. После очередной встречи с Гоголем в Киеве он в письме к Александру Иванову в Рим утверждал: «Назначение нашего писателя высоко, потому и жизнь его должна быть своего рода иночеством»[268].
Как-то в одной из бесед Гоголь поинтересовался, где Федор Васильевич намеревается обосноваться после ссылки.
— Не знаю, — отвечал в раздумье Чижов, — вероятно, в Москве.
— Да, — согласился Гоголь. — Кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться…[269]
В конце 1848 года Николай Васильевич и сам поселился в Москве, в доме Талызина на Никитском бульваре, у графа Александра Петровича Толстого. Бывая с кратковременными визитами в Белокаменной, Чижов часто виделся с Гоголем у Хомяковых и Смирновых, сопровождал его в неспешных прогулках по московским бульварам. К этому времени здоровье сорокалетнего писателя оказалось расшатано, силы были на исходе.
Однажды они сошлись на Тверском бульваре.
— Если вы не торопитесь, проводите меня, — предложил Гоголь.
Шли большей частью молча. Чижов поинтересовался самочувствием спутника.
— У меня все расстроено внутри, — быстро заговорил Гоголь, словно желая поскорее высказаться, быть понятым и найти сочувствие. — Я, например, вижу, что кто-нибудь споткнулся, тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают спать и совершенно истощают мои силы…[270]
Известие о смерти Гоголя потрясло Чижова. Отныне, руководствуясь «единственно высоким побуждением служить памяти покойного писателя», Федор Васильевич становится душеприказчиком наследства, оставленного Гоголем небогатому своему семейству, и издает его полное собрание сочинений. Чижов сверяет тексты с рукописями, предоставленными матерью Гоголя и его сестрами, впервые восстанавливает все цензурные купюры 1847 года в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Даже корректуру, столь кропотливое и требующее особого внимания дело, и то берет на себя.
Обращаясь как-то к своим почитателям, Гоголь просил их покупать только тот его портрет, на котором написано: «Гравировал Иордан». Поэтому Чижов заказал Федору Ивановичу Иордану, в 40-е годы входившему в организованный Чижовым кружок русских художников в Риме, а в 60-е — профессору и ректору Петербургской Академии художеств, выгравировать портрет их общего друга для помещения на фронтиспис.
Полное собрание сочинений Гоголя под редакцией Чижова вышло тремя изданиями: первое — в типографии П. Бахметева в 1862 году в количестве 6 тысяч экземпляров, второе — в 1867-м и третье — в 1873–1874 годах в типографии А. Мамонтова тиражом соответственно 10 тысяч и 12 тысяч.
Выручаемые от продажи книг деньги — до 7 тысяч рублей в год — Чижов исправно, по мере их накопления, посылал семье Гоголя. О чрезвычайной щепетильности Федора Васильевича свидетельствует признание его секретаря А. С. Черокова: нуждаясь время от времени в мизерных суммах — рубля полтора на обед или на извозчика, Чижов предпочитал занять эти деньги, нежели взять их из ящика своего письменного стола, где лежала не одна тысяча рублей, полученная накануне от книгопродавцев сочинений Николая Васильевича[271].
Как опекун наследников Гоголя, Чижов не единожды в 60-е годы выступал в роли «докучливого просителя» перед близким ко Двору князем Петром Андреевичем Вяземским и «утруждал» его просьбами замолвить слово перед Государем о единовременном из Кабинета Его Императорского Величества денежном вспомоществовании племянникам Николая Васильевича, оставшимся сиротами после смерти его сестры Елизаветы Васильевны Гоголь-Быковой. После длительных и упорных ходатайств 12-летний племянник писателя Николай был определен на казенный счет в Полтавский кадетский корпус, а племянницы, близнецы Варвара и Анна, приняты в Полтавский институт благородных девиц[272].
Чижов ревностно следил за всеми публикациями, касающимися Гоголя, — будь то воспоминания людей, знавших Николая Васильевича, или работы литературных критиков о его жизни и творчестве, — и откликался на них всегда живо и темпераментно. Спустя почти два десятилетия после кончины писателя, уже сам смертельно больной, он негодовал, прочитав в сентябрьской книжке «Русской старины» за 1875 год «престранную» статью о некогда близком ему человеке: «Всё из его переписки подобрано так, чтоб изобразить Гоголя почти что пройдохою, обирающим всех, даже мать свою, не говоря уже о друзьях. Ну, признаюсь, после этой… статьи проф. Миллер[273] является весьма ничтожным человеком. В Гоголе было много странностей, страшно много нравственной гордости, весьма мало образования, — что вместе с сильною талантливостью и с тем, как у нас балуют и портят талантливых людей, делало Гоголя часто несносным; но Гоголь был всегда чист, неподкупен и благороден!»[274]
Забегая вперед, скажем, что упокоился прах Федора Васильевича Чижова на кладбище Свято-Данилова монастыря в Москве, в шести саженях от могилы Николая Васильевича Гоголя — снова в одном «доме», как было в их земной жизни, когда на Via Felice (улице Счастья) в Риме жили они под одной крышей.
Глава четвертая
НА ЛИТЕРАТУРНОЙ НИВЕ
К середине 50-х годов среди жизненных приоритетов Чижова шелководство стало отходить на второй план. С его неуемным характером невозможно было ограничиться каким-нибудь одним делом: «Взятая мною работа (шелководство. — И. С.) ниже объема сил моих, то есть не требует полного их напряжения, тогда как, например, история искусств или что-нибудь тому подобное требует всего напряжения ума и потому не оставляет никакой возможности спрашивать себя, точно ли это деятельность»[275].
Он возвращается к давно составленной им программе сочинения о различии между иконописью и живописью, встречается с иконописцами-старообрядцами, изучает соборные постановления, Четьи Минеи, Прологи.
В 1852 году в Москве после долгого перерыва славянофилам удалось возобновить «Московские сборники», которые они собирались превратить в периодическое издание. Но, как и прежде, их намерениям не суждено было осуществиться. Уже в августе 1852 года вторая книжка «Московского сборника» была подвергнута двойной цензуре — Министерства просвещения и Третьего отделения. Мнение последнего было однозначно и не ново: «Московские славянофилы смешивают приверженность свою к русской старине с такими началами, которые не могут существовать в монархическом государстве, и, явно недоброжелательствуя нынешнему порядку вещей… дерзко представляют к напечатанию статьи, которые обнаруживают их открытое противодействие правительству»[276].
В марте 1853 года «Московские сборники» были окончательно запрещены. Славянофилы снова лишались возможности печатать свои произведения, а И. С. Аксакову (редактору сборников), сверх того, запрещалась редакторская работа. За братьями Аксаковыми, А. С. Хомяковым и И. В. Киреевским учреждалось секретное наблюдение.
Между тем в письменном столе Чижова на хуторе в Триполье накопилось немало статей, которые он берег для славянофильских изданий. «Напишите, нет ли каких литературных предприятий?» — спрашивал он у Ю. Ф. Самарина в одном из писем 1854 года[277]. Но в журнальной деятельности «москвичей» наступил очередной вынужденный перерыв.
Лишившись печатного органа, славянофилы потеряли возможность обнародовать свои взгляды, открыто участвовать в общественных полемиках на злобу дня, рекрутировать среди читательской аудитории новых своих сторонников. «Нет великого слова, нет знамени, нас ведущего; мы ходим, как слепцы, ищем деятельности ощупью; беспрестанно спотыкаемся», — подводил итог общим настроениям Федор Васильевич[278].
Начавшаяся в 1853 году Крымская война дала толчок росту в стране оппозиционных настроений. Смерть в самый разгар войны Николая I пробудила надежды на либерализацию российской общественной системы. Эти ожидания, правда, с известной долей скептицизма, разделил Чижов. «Был я в Москве, — восстанавливал он спустя годы в памяти подробности тех событий, — <когда> пронеслась весть о кончине Николая Павловича. Вступил на престол Александр Николаевич. В первую минуту как-то полегче стало дышать, но едва прошла первая минута — все радовались,<на что-то> надеялись, — я спрашивал… не рано ли? Точно, мы вздохнем легче, но легкость нашего дыхания не отзовется ли тяжелым дыханием народа? Мы живем в ту минуту, когда слабость характера едва ли не хуже самого страшного деспотизма… Время требует не барского, а человеческого внимания к народу»[279].
Летом 1855 года Чижов получил несколько писем из Москвы от Ю. Ф. Самарина, в которых тот уведомлял о возможности новой передачи «Москвитянина» в руки славянофилов. Участвовать в журнале намеревались, кроме Самарина, А. С. Хомяков, А. И. Кошелев и князь В. А. Черкасский. «Редактором будет какой-то Филиппов, — пометил в своем дневнике Чижов. — Он (Самарин. — И. С.) предлагает и мне участие. Я от души рад тому, что будет где приютиться…»[280]
Московские славянофилы надеялись, что «трипольский сиделец» помимо прямого, литературного, участия в задуманном предприятии возьмет на себя труд подыскания корреспондентов для журнала в Киеве. Чижов ответил сразу же, обстоятельно изложив свои соображения по поводу рентабельности издания и высказав ряд дельных советов, как поднять его тираж.
«Весть о приобретении „Москвитянина“ меня порадовала, — писал он Самарину, — она предупредила мои начинания… Я намерен был нынешнею зимою поговорить с Вами и Кошелевым, не хочет ли Александр Иванович (Кошелев. — И. С.) быть издателем журнала, которого редакторами, я думал, быть мне и Аксакову по полугодно, во-первых, потому, что год напряженной деятельности страшно утомляет; во-вторых, что это уладилось бы с моими сельскими занятиями… На „Москвитянина“ я смотрел как на крайность, в случае отказа».
Вновь, как и десять лет назад, Чижова смущало имя приверженца «теории официальной народности» М. П. Погодина, который долгие годы был связан с изданием «Москвитянина» — журнала, подкармливаемого правительством и находящегося под покровительством министра народного просвещения С. С. Уварова. «С Погодиным надобно вести дело весьма осторожно и до последней степени определенности, — советовал Чижов, — иначе он может все испортить. Это я знаю по десяткам опытов. Потом, поднимать павший и не однажды уже падавший журнал гораздо труднее, чем начинать новый»[281].
Но передача «Москвитянина» в руки славянофилов так и не состоялась. «Все дело рухнуло, как я и ожидал, — сообщал Самарин Чижову, — и, слава Богу, что до начала. По крайней мере, мы не осрамились перед публикой»[282].
В самом конце 1855 года после долгих проволочек славянофилам было наконец разрешено издание журнала с поквартальной периодичностью — «Русская беседа». Вслед за появлением его первых номеров редактор журнала Александр Иванович Кошелев, владелец шести тысяч душ крестьян, управлявший своим же имением непосредственно, без приказчиков, попытался передать обременительные для него редакторские полномочия Чижову. Славянофилы его всецело поддержали. «Из всех наших знакомых Вы более всех и Вы одни способны быть редактором — в этом все мы убеждены»[283].
Чижов, накануне освобожденный от унизительной обязанности посылать свои статьи, предназначенные для печати, на просмотр в Третье отделение, с готовностью откликнулся: «…редактором быть очень хочется, потому что это более чем что-нибудь по мне…»[284]
Во второй половине 1856 года появилась возможность издания еще двух славянофильских журналов: «Московского толка», выходящего два раза в месяц в качестве приложения к «Русской беседе», и ежемесячного «Сборника иностранной словесности». И здесь надежды возлагались на Чижова. Требовалось лишь личное его присутствие в городе.
Но сразу сорваться с места и выехать в Москву Чижов не мог. Получив разрешение жить в столицах, он стал приводить в порядок дела в своем шелководческом хозяйстве, которое приходилось оставлять на специально нанятого управляющего… А между тем время оказалось безвозвратно упущено.
«Очень сожалею, дражайший Федор Васильевич, что вы не приехали в Москву, — писал в Триполье Кошелев, — ибо без вас, лица, принимающего на свою ответственность журнал, оказалось много препятствий и невозможностей»[285].
Издание «Московского толка» и «Сборника иностранной словесности» пришлось отложить до лучших времен. Кошелев оставался во главе субсидируемой им «Русской беседы» вплоть до начала 1859 года, когда к руководству журналом пришел И. С. Аксаков.
Перед переездом в Москву, осуществленным летом 1857 года, Чижову было сделано еще одно заманчивое предложение. Директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел Е. П. Ковалевский вел с ним заочные, через графиню А. Д. Блудову, переговоры о замещении вакантного места консула в Боснии — славянской области в составе Оттоманской империи. Но министр иностранных дел князь А. М. Горчаков это назначение не утвердил — видимо, за Чижовым все еще тянулся шлейф неблагонадежности.
Тем временем в 1856–1857 годах в «Русской беседе» Чижов поместил свои интересные в этнографическом плане «Заметки путешественника по славянским странам», которые он начал печатать еще в 1847 году в «Московском литературном и ученом сборнике»; там же была опубликована и его статья «Джованни Анджелико Фиезолийский и об отношении его произведений к нашей иконописи»[286]. Вместе с искусствоведческими статьями Чижова, изданными в 1840–1850-е годы[287], эти работы стали частью общего комплекса материалов, составивших эстетику славянофильства, и внесли свой вклад в изучение живописи итальянского Предвозрождения, традиционного православного иконописания, в понимание сущности, задач и путей развития русского изобразительного искусства и архитектуры XIX века.
За заслуги в области искусствоведения Чижов был удостоен в 1857 году почетного звания вольного общника Российской Императорской Академии художеств. Через год «Общество любителей российской словесности» избрало его своим действительным членом. А с февраля 1860 года он стал членом организованного накануне в Петербурге А. В. Дружининым, И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым и Л. Н. Толстым «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» — Литературного фонда.
Глава пятая
В ЦЕНТРЕ ДЕЛОВОЙ РОССИИ
Переезд в Москву стал новым рубежом в жизни Чижова. Отныне его мечты о всеславянстве и вера в особый строй русской души, находящий свое выражение в шедеврах отечественного искусства и литературы, трансформировались в одержимость «черновой, поденной работой» во славу русского экономического процветания.
Полученные в ходе Крымской кампании убедительные доказательства крайне бедственного состояния российской промышленности и финансов побудили Чижова с утроенной энергией взяться за устранение тех препон и препятствий, которые чинила на пути хозяйственного подъема страны бюрократия. Если при Императоре Николае I даже «самая возможность обсуждения в печати всяких общественных и политических вопросов представлялась… как бы государственной ересью» и «господствовало убеждение, что только управляющие страной в состоянии сообразить, что именно нужно и полезно для управляемых»[288], то с воцарением Александра II на страницах периодической печати стали открыто дебатироваться волнующие общество проблемы.
Уже в «Русской беседе» были сформулированы основные положения славянофильской программы обустройства России. В социально-экономической области требования «москвичей» сводились к необходимости покровительства отечественной промышленности путем протекционистских таможенных пошлин, сооружения сети железнодорожных линий, расширения и улучшения качества технического образования.
После снятия в 1858 году запрета на обсуждение в печати крестьянского вопроса славянофилы стали издавать специальное приложение к «Русской беседе» — журнал «Сельское благоустройство». В нем они излагали свои взгляды на условия упразднения крепостного права и улучшения быта крестьян.
«Какие странные, смешные и нелепые толки ходят о нем (о славянофильстве. — И. С.) в различных слоях общества! — недоумевала в 1857 году появившаяся вслед за „Русской беседой“ и вскоре запрещенная славянофильская газета „Молва“. — Для иных славянофилы — враги просвещения, люди отсталые, вздыхающие о прежних порядках вещей, желающие батогов и пытки. Для других — они враги всего иностранного, они ополчаются против французского языка, предпочитают соленые грибы трюфелям и квас — шампанскому. Для иных — как бы общественные раскольники, не принимающие нововведений моды и отстаивающие древние обычаи и платья». Подобный вздор проистекал, по мнению «Молвы», из-за того, что «славянофильство долго не имело своего журнала и более определялось отзывами противников, нежели объяснениями последователей своих»[289].
С появлением первых славянофильских журналов и газет вокруг них стали группироваться представители тех социальных слоев, чьи интересы совпадали с выдвинутой славянофилами программой необходимых в стране преобразований, — промышленники и купцы, заинтересованные в широком развитии национальной промышленности, в резком уменьшении влияния иностранного капитала. Они подписывались на печатные органы славянофилов, выступали на их страницах со статьями, а в случае издательских затруднений оказывали щедрую материальную помощь. Так, еще в 1852 году, когда вышел в свет славянофильский «Московский сборник», А. С. Хомяков сообщал в одном из писем, что «сбыт его удивительно хорош. Уже с лишком 700 экземпляров разошлись, и все еще требуют. Купечество Ростовское и Ярославское выписало 50 экземпляров. Видно, в пору пришелся»[290].
Свои особые отношения с купечеством славянофилы обосновывали идеологически, исходя из теории славянофильства: промышленная и торговая сила — чисто земская по своему характеру; промышленная и торговая среда — ближе прочих образованных классов к народу. Так как Москва, носительница и хранительница русского народного духа, являла собой средоточие земской жизни, то не удивительно, что самые тесные узы стали соединять славянофилов с «именитым московским купечеством».
Уже в середине 30-х годов XIX века допетровская столица России стала превращаться в город по преимуществу купеческого сословия. А. С. Пушкин, наблюдая перемены, происходившие в характере московской жизни, обращал внимание на то, что «Москва, утративши свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством»[291]. Об этом же спустя десять лет писал путешествовавший по России прусский барон Август Гакстгаузен: «Москва, средоточие русской промышленности, превратилась из дворянского города в фабричный… Если спросите теперь, кому принадлежит этот дворец, то получите ответ: „фабриканту такому-то“ или „купцу такому-то“, а раньше „князю А или Б“»[292].
Безусловно, возвышение представителей торгово-промышленного сословия воспринималось славянофилами, противниками аристократических отличий и привилегий, одобрительно. Для них рост значения купечества был сродни усилению земских, народных начал в жизни общества.
Оказавшись в Москве в центре группы предпринимателей, стремившихся к сближению со славянофильскими идеологами, Чижов стал развивать экономическую сторону славянофильской теоретической программы. При этом идеал славянофильства — свобода земской, общинной жизни — распространялся им на новую область — область свободы частного предпринимательства.
Глава шестая
«ЗАПИСКА НЕИЗВЕСТНОГО»
С началом нового царствования в правительственных кругах стал активно обсуждаться вопрос о том, какому ведомству и в какой его форме следует отныне осуществлять торгово-промышленную политику в стране. В Российском государственном историческом архиве, в фонде Комитета финансов, хранится «Записка неизвестного», датированная 31 марта 1856 года, о необходимости реорганизации системы управления промышленностью и торговлей[293]. Историк Л. Е. Шепелев автором «Записки» называет Чижова, в личном фонде которого найден ее черновой вариант[294]. К подготовке документа Чижов, возможно, привлек также князя В. А. Черкасского.
В преамбуле «Записки» речь идет о значении промышленности и торговли — «коренных источников богатства всякой страны». При этом подчеркивается, что «внутренние промышленные силы государства» развиваются тем деятельнее, чем больше они пользуются свободой и меньше подвергаются притеснениям.
«Нас губит централизация, это детище французского порядка вещей», — напишет спустя несколько лет в одной из своих статей Чижов[295]. Но уже в «Записке» 1856 года мысль эта проходит красной нитью, связуя весь документ: «Нынешняя война указала нам слабые наши стороны, недостатки нашего управления, происходящие большей частью от излишней его централизации, которая обратила администрацию в весьма сложный механизм, вовсе не соответствующий духу народа и его потребностям»; «Не показали ли… обстоятельства последнего времени как несовершенна у нас система казенных заготовлений материалов, потребных для армии, и во сколько крат соревнование частных лиц, при денежных средствах казны, могло бы в этом отношении быть плодотворнее»; «судьба торговли и промышленности у нас в руках чиновников, наименее способных понимать их нужды и потребности»; «отсутствие посредующего звена между промышленным и торговым сословиями, с одной стороны, и правительством, с другой стороны, представляет один из самых важных недостатков»[296].
Чижов предлагал изъять управление промышленностью и коммерцией из ведения Министерства финансов и передать эту функцию особому ведомству — Министерству торговли и промышленности. Главным и единственным распорядительным органом нового министерства становился Мануфактурный и коммерческий совет, а министру отводилась лишь роль формального главы ведомства. Председатель Совета назначался Царем из числа лиц, сведущих в предпринимательской деятельности. Кроме председателя и еще трех членов от правительства в состав Совета на три года избирались четыре члена от купечества и четыре — от фабрикантов и заводчиков. Тем самым документ предусматривал обеспечение двукратного преобладания в руководстве промышленностью представителей предпринимательских кругов и устанавливал не имевшее в то время прецедента ни в России, ни в странах Западной Европы самоуправление частной деловой активностью. Из всех известных концепций преобразований управления торговлей и промышленностью середины XIX века это было наиболее далеко идущее требование в защиту интересов предпринимателей.
Император Александр II направил «Записку» на рассмотрение в Комитет финансов, который, в свою очередь, нашел, что образование министерства на предложенных основаниях представляется совершенно невозможным. В частности, утверждалось, что самый порядок решения дел по большинству голосов в Совете, в котором значительная часть членов принадлежит к купеческому сословию, «соделывая их судьями собственных дел», нигде не допускается и допускаем быть не может. Тем более в России, при недостаточной просвещенности купечества. Поэтому Комитет финансов рекомендовал проект сочинителя «Записки» «по ее неудобоисполнимости» оставить без последствий.
Однако два члена комитета — председатель Департамента экономии Государственного совета граф А. Д. Гурьев и известный специалист в области русской и отечественной промышленности Л. В. Тенгоборский — выразили «особое мнение». Суть его сводилась к тому, что в принципе образование Министерства торговли и промышленности «не представляет никаких затруднений и неудобств» и могло бы на практике принести существенную пользу, хотя структура организации нового министерства все же не приемлема.
Точка зрения большинства Комитета финансов была учтена Императором. 12 июня 1856 года он отклонил идею образования Министерства торговли и промышленности.
Но Чижов был борцом. Неудачи только раззадоривали его и подталкивали к поиску новых путей в достижении намеченных целей.
Глава седьмая
«ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ» И «АКЦИОНЕР»
Итак, попытка убедить Царя посредством аргументов, изложенных в анонимной «Записке», в необходимости перестройки управления промышленностью и торговлей окончилась провалом. Но отрицательный результат — тоже результат. Он заставил Чижова действовать по-иному — путем создания в стране с помощью авторитетного печатного слова соответствующего общественного мнения, с которым правительство не могло бы не считаться.
Чижов принял предложение богатых заводчиков костромских дворян братьев Александра Павловича и Дмитрия Павловича Шиповых стать редактором-издателем специального ежемесячного журнала для защиты интересов русских предпринимателей в связи с экономической политикой правительства в духе фритредерства[297]. Одновременно Чижовым и Шиповыми было образовано «Общество для содействия русской промышленности и торговли», не принесшее, однако, существенной пользы ввиду косности и инертности купечества.
Первый в России специализированный журнал для предпринимателей получил название «Вестник промышленности». На его издание братьями Шиповыми был собран среди ближайших единомышленников капитал в 30 тысяч рублей. Чижов разработал программу журнала и 20 февраля 1857 года обратился через посредничество К. С. Аксакова в Московский цензурный комитет за разрешением. Необходимость издания нового журнала и его цель Чижов излагал следующим образом: «Промышленность день ото дня усиливается… Вместе с тем усиливается и потребность следить за ее успехами, способствовать им <как> изучением нашего отечества в промышленном отношении… <так и> живыми известиями и указаниями на то, что делается в промышленном мире у народов и во всех странах. Главным… предметом <журнала> будет… развитие промышленности русской; но он ставит себе в обязанность постоянно следить за развитием ее и вне пределов России»[298].
Вопрос о предоставлении Чижову права быть редактором «Вестника промышленности» рассматривался в Главном управлении цензуры в течение полугода, причем до последнего дня не было никаких гарантий на получение положительного ответа. В письме к С. Т. Аксакову от 21 апреля 1857 года Чижов сообщал: «Журнал мне еще не разрешили, и не знаю, когда разрешат, думаю, что не разрешат, потому что Министерство финансов неохотно допускает косвенную поверку его действий»[299].
Тем не менее слухи о скором появлении у славянофилов нового печатного органа получили широкое распространение. Так, известный беллетрист и публицист Н. А. Мельгунов в письме к А. И. Герцену из Парижа делился с ним свежей новостью: «Имеешь ты понятие о Чижове, что был адъюнктом математики в Петербургском университете и пр.? Он ведь тоже славянофил, хоть и умеренный, был призываем в Третье отделение по делу Кулиша, Костомарова и пр. и напоследок жил в своей киевской деревеньке. Этот Чижов получил разрешение издавать политическую и экономическую ежедневную газету[300] в Москве. Это будет, вероятно, орган умеренно славянофильский. Ты видишь после этого, что нельзя же так-таки вовсе пренебрегать славянофилами…»[301]
К формированию состава редакции будущего журнала Чижов приступил в феврале 1857 года, то есть одновременно с подачей прошения в Цензурный комитет. «Затеял я в Москве дело — издание „Вестника промышленности“, — записал Федор Васильевич в своем дневнике. — Опять сбился с пути: прочь история искусства, принимайся за политическую экономию, за торговлю и промышленность. И то сказать, это вопрос дня; это настоящий путь к поднятию низших слоев народа. Здесь, по моему предположению, купцы должны выйти на свет общественными деятелями. А купцы — выборные из народа. Купцы — первая основа нашей исторической жизни, то есть жизни собственно великорусской в лице Новгорода и Пскова»[302].
Одним из первых, к кому Чижов обратился с предложением участвовать в издании «Вестника промышленности», был профессор политической экономии Московского университета Иван Кондратьевич Бабст — личность во многом замечательная.
Бабст происходил из семьи обрусевшего немца, коменданта крепости Илецкая Защита в Оренбургском крае. Поступив в Московский университет на историко-филологический факультет, он вскоре стал одним из любимейших учеников Т. Н. Грановского и после окончания учебы в 1846 году был оставлен на кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию. Через пять лет его магистерская диссертация на тему «Государственные мужи Древней Греции в эпоху ее распада» была успешно защищена, и молодой ученый занял место на кафедре политической экономии Казанского университета. В 1852 году в стенах того же университета Иван Кондратьевич с блеском защитил докторскую диссертацию на историко-экономическую тему «Джон Ло, или Финансовый кризис во Франции в первые годы регентства». Тем самым подающий надежды историк заявил о себе как о состоявшемся экономисте, особенностью работ которого было освещение народнохозяйственных проблем с позиций исторического метода.
Имя Бабста приобрело особую популярность в либеральных кругах русского общества в 1856 году после чтения им на торжественном собрании в актовом зале Казанского университета доклада «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала». Речь профессора была преисполнена пафосом, направленным против национального самообольщения, приведшего к экономическому застою и поражению в Крымской войне. В упрек администрации ставился недостаток в стране капиталов, неумение производительно употреблять их и звучал призыв к распространению в русском обществе здравых экономических понятий.
Бабст приветствовал новую общественную силу, появившуюся в условиях крепостнической России и с каждым днем все сильнее расшатывающую ее устои: «…интересы русской буржуазии приходят теперь в непримиримое противоречие с интересами абсолютизма, — патетично провозглашал он. — Наша буржуазия переживает теперь важную метаморфозу: у нее развились легкие, которые требуют уже чистого воздуха политического самоуправления, но в то же время у нее не атрофировались еще и жабры, с помощью которых она продолжает дышать в мутной воде разлагающегося абсолютизма. Корни ее сидят еще в почве старого режима, но верхушка ее достигла уже развития, указывающего на необходимость и неизбежность пересадки»[303].
Критический, обличительный характер речи Бабста вызвал одобрение со стороны революционных демократов, и в частности Николая Гавриловича Чернышевского. Через несколько лет в рецензии на переведенный ученым труд немецкого политэконома В. Рошера «Начала народного хозяйства» Чернышевский писал: «Читатель знает наше пристрастие к г. Бабсту; знает, что мы ставим его гораздо выше всех писателей, известных у нас за знатоков политической экономии»[304].
Впечатление от публичных лекций Ивана Кондратьевича, прочитанных в дни подготовки крестьянской реформы, было столь велико, что социалисты, в том числе эмигрировавший из России в 40-е годы литератор Н. И. Сазонов, увидели в них, а именно в положениях: «у труда и капитала нет общих интересов… мы видим сосредоточение капиталов в одних руках, — беспомощность, а вследствие того неполноправие и угнетение, с другой стороны»; «труд — это главный носитель, главное основание каждого свободного общества», — изложение взглядов идеолога революционного пролетариата, автора «Коммунистического манифеста» Карла Маркса.
Несмотря на то, что Бабст по мировоззрению был западником, его выступления против крепостничества, в защиту социальных и экономических преобразований, вера в буржуазию как флагман строительства будущей великой России привлекли к нему внимание славянофилов. «Я здесь прочел великолепную речь Бабста[305], — восторженно писал Чижову Ю. Ф. Самарин, — по ясности взгляда, широте основ… и мастерству изложения у нас это вещь единственная. Мне хочется прочесть ее еще раз и два, а возможно, и более… Знаю, что ее трудно достать; но Вы можете это сделать; Вам все удается. Пожалуйста, добудьте мне экземпляр…»[306]
С середины XIX века все большую популярность среди экономистов и политиков разных стран стали приобретать идеи так называемой «свободной торговли», или фритредерства, как средства не стесненного государством, свободного развития капитала. Родоначальницей этого направления в международной экономической политике была Англия — на тот момент самая богатая и развитая в промышленном отношении держава мира. Нуждаясь в новых рынках сбыта, она в 1846 году в значительной степени с пропагандистской целью отменила пошлины на импортируемые ею товары. Реакцией остальных стран Западной Европы и Северо-Американских Штатов стал переход к протекционистской таможенной политике, основанный на стремлении оградить свою экономику от иностранной конкуренции.
Россия решила пойти в фарватере английской таможенной политики, рассматривая ослабление таможенного барьера в качестве средства пополнения государственной казны. Кроме того, поощрение ввоза в страну машин, паровозов, вагонов, оборудования для строившихся железных дорог, фабрик и заводов должно было, по мнению русских фритредеров, стимулировать развитие народного хозяйства.
Еще в 1843 году между Россией и Англией был заключен коммерческий трактат, по которому значительно снижались ввозные пошлины на ряд английских товаров. Новый отход от традиционной для России политики покровительства национальной промышленности был осуществлен в связи с принятием таможенного тарифа 1850 года: число иностранной продукции, запрещенной к ввозу в страну, сократилось с 200 до 90 наименований и, сверх того, пошлины на некоторые изделия были понижены. Это не могло не встревожить фабрикантов и заводчиков Центра России, района, где к тому времени была сосредоточена значительная часть крупной промышленности страны. Предприниматели справедливо опасались, что наплыв иностранных, главным образом английских товаров погубит пока еще неконкурентоспособное отечественное мануфактурное производство. Их беспокойство разделили славянофилы. Для них было очевидно, что без собственного высокоразвитого угледобывающего производства, металлургии, машиностроения, железнодорожного транспорта, легкой промышленности Россия не сможет в будущем претендовать на роль индустриальной державы. «Все, защищая свободу торговли, ссылаются на Англию, но промышленность в Англии расцвела при покровительственной системе», — аргументировал точку зрения «москвичей» Чижов[307].
В этом вопросе со славянофилами был солидарен И. К. Бабст. Если в начале своей политико-экономической карьеры он, подобно остальным экономистам-западникам (В. П. Безобразову, Е. И. Ламанскому и другим), был сторонником фритредерства, то по мере того, как правительство стало все больше прислушиваться к фритредерам и взяло курс на ослабление таможенных барьеров, Бабст сблизился с рядом крупных московских предпринимателей и стал отстаивать идею покровительства развивающейся отечественной промышленности. Протекционистские взгляды Бабста полностью отвечали задаче организуемого Чижовым журнала: безоговорочной поддержке интересов русской буржуазии в противовес притязаниям иностранных предпринимателей. Задача сотрудничества облегчалась и переездом Ивана Кондратьевича из Казани в Москву — ему было предложено возглавить кафедру политэкономии Московского университета, оставленную незадолго до этого профессором И. В. Вернадским.
Привлечение славянофилом Чижовым к участию в журнале западника Бабста объяснялось еще одним обстоятельством: по утверждению Чижова, для работы в «промышленном журнале» требуется главное условие, примиряющее все разногласия, — стремление содействовать экономическому росту и процветанию России. Позднее, уже в 70-е годы, Чижов вспоминал, что от сотрудничества в своем журнале он не отказывал не то что западникам, но даже и «нигилистам»: «Когда я был редактором „Вестника промышленности“, у меня этих господ было довольно. Они обыкновенно являются и рекомендуют себя: „Я такой-то, не знаю, могу ли быть Вам полезен, потому что я до конца ногтей социальных убеждений и не переменю их ни за что в мире“. Я обыкновенно принимал их весьма радушно: „Это, господа, не мое дело, я не посягаю ни на чьи убеждения, — будете работать, я очень буду рад работникам. Журнал мой чисто фактический, он не допускает теорий, вероятно, мы не будем иметь повода к раздору“»[308].
В 1857 году Чижов заверил в своей приверженности этим принципам Бабста, пытаясь тем самым предупредить возможные с его стороны возражения: «В направлении <журнала>… не задается никакой системы; его задачей будет стремление к истине. Наука в нем должна будет освещать путь промышленной и экономической деятельности… тем более, что мы сильно нуждаемся в такой помощи и должны дорожить ясным, светлым и образованным взглядом». Одновременно Чижов сообщил Бабсту, что намеревается развивать в «Вестнике промышленности» те начала, которые ранее были высказаны в его лекциях и статьях. Изложив программу «Вестника промышленности» и его структуру, Чижов писал: «Я как редактор только тогда буду убежден в… успехе <журнала>, когда получу Ваше согласие на полное в нем участие, которого буду просить в двух видах. Во-первых, собственными Вашими статьями, особенно если бы Вы приняли на себя <труд> писать обозрения хода промышленности и торговли… Во-вторых, просматриванием статей, преимущественно по части политической экономии»[309].
После недолгих размышлений Бабст дал согласие на сотрудничество, о чем уведомил Чижова в начале марта 1857 года.
Параллельно с формированием состава редакции журнала Чижов начал комплектовать портфель его ближайших номеров. Причем, заказывая серию статей по истории русской промышленности и торговли, он отошел от заверений в своей объективности и оказался вовсе не безразличен к идейной платформе автора: «Пришлите мне, пожалуйста, адрес Беляева[310], — просил Чижов К. С. Аксакова, — я хочу с ним списаться, не знает ли он кого, кому бы (разумеется, не из западников) можно было поручить написать историю русской промышленности и еще историю русской торговли. Тут хотелось бы мне не ограничиваться голыми фактами, затронуть вопросы, в которых бы шла речь о том, что свободные торговые города были первыми явлениями русской жизни, что боярства еще и слыхом не слыхать, а торговые наши люди уже были известны миру… что все купцы не выходцы, из чужих земель не пришельцы, а прямая сила народная и пр. и пр. Очень хотелось бы найти человека с глубоко русскими убеждениями и усидчивого. Княжили князья в Киеве, а русские законы, „Русская правда“ явились в Новгороде. Хоть бы несколько статей было бы не дурно, только писаны были бы просто и вразумительно»[311].
Таким образом, несмотря на пестрый состав редакции, «Вестник промышленности» задумывался Чижовым все же как печатный орган, разрабатывающий социально-экономическую часть славянофильского учения, в основе которой лежала защита интересов русских торгово-промышленных кругов. «Открывая страницы журнала всем мнениям и всем промышленным требованиям», Чижов оставлял за собой право в передовых статьях излагать свой «партийный» взгляд на злободневные вопросы времени, что, без сомнения, придавало изданию определенную идеологическую окраску. В этой связи утверждение Л. Б. Генкина, изучавшего взгляды русской буржуазии на примере «Вестника промышленности», о том, что «в направлении журнала ничего славянофильского не было», ибо ближайший сотрудник Чижова Иван Бабст был западником, а сам журнал «стремился помочь торговцам и промышленникам овладеть именно западноевропейским опытом в области организации торговли и промышленности»[312], представляется недостаточно обоснованным.
Рассматривая просьбу Чижова об издании журнала, Главное управление цензуры обратилось в Третье отделение за выпиской из заведенного на него дела от 1847 года, а также потребовало свидетельство киевского губернатора о благонадежности хозяина шелководческих плантаций. В конце концов было признано возможным дозволить Чижову издание в Москве «Вестника промышленности» по представленной им программе. В августе 1857 года решение Главного управления цензуры было утверждено Императором Александром II, и спустя месяц новоиспеченный главный редактор отправился на средства издателей в Западную Европу.
В крупнейших городах Германии, Бельгии, Англии, Франции, Италии и Австрии Чижов знакомился с местными периодическими торгово-промышленными газетами и журналами и одновременно вел интенсивную работу по подбору иностранных корреспондентов. Ему удалось установить контакты с видными экономистами своего времени: издателем и редактором выходившего в Брюсселе русского заграничного официоза «Le Nord» Н. П. Поггенполем, немецким ученым Вильгельмом Рошером. После встречи с бельгийским политэкономом Густавом Молинари Чижов удовлетворенно отметил, что хотя ими и были высказаны противоположные убеждения — один стоял на позициях протекциониста, другой — либрэшанжиста[313], — бельгиец все же согласился ежемесячно присылать в Москву обозрения промышленности объемом не менее восьми страниц.
В молодости Чижов не был чужд интереса к специальной политико-экономической литературе и даже написал в 1843 году критическую статью о трехтомном сочинении Луиджи Чибрарио «Политическая экономия средних веков». Теперь же, начиная новую для себя редакторско-публицистическую деятельность в экономической сфере, он с особой ясностью ощутил, сколь недостаточны его теоретические познания. Чтобы ликвидировать существующие пробелы в знаниях, он слушал курсы лекций по политической экономии в лучших западноевропейских университетах, читал и конспектировал многочисленную иностранную литературу, составлял библиографию.
Готовясь написать для «Вестника промышленности» статью о свободной торговле и несвоевременности ее приложения к условиям российской действительности, Чижов внимательно изучал доводы как западноевропейских протекционистов, так и фритредеров, и обстоятельно записывал в дневнике свое отношение к ним.
«Принялся читать Росси[314], — комментировал он очередной фундаментальный труд. — Во второй лекции превосходно рассмотрено различие между политическою экономиею отвлеченною и политическою экономиею прикладною. Оно мне прекрасно может послужить в развитии вопроса о свободной торговле; отсюда я могу привести множество мест в доказательство своих убеждений».
Тем не менее взгляд Чижова был отнюдь не зашорен идеями протекционизма. Он вполне отдавал себе отчет в их уязвимости. «…Нельзя не видеть в покровительственной системе вражду общественному благосостоянию, — записал он после прочтения сочинений фритредера Молинари. — Путь защитника временного покровительства весьма скользкий, — не впасть в защиту эгоистических выгод меньшинства».
По убеждению Чижова, Россия не должна слепо подражать Западу, но применять его достижения творчески, с учетом своеобразия своего исторического развития. Народы Западной Европы развивались одновременно, почти в одних и тех же условиях. Русский же народ, идя своими путями, призван на деятельность позднейшую, процесс его формирования протекал медленно и самобытно. Оттого забыть все особенности этого развития и преобразоваться вдруг, в соответствии с требованиями экономической моды было бы ошибочно. «„Natura non labet saltus“, в природе нет скачков, в истории тоже. На горьком опыте можно было бы уже убедиться нам, как вредны подобные скачки в истории. Как тяжело ложатся их следствия на всю массу народа… Кто отвергнет, что цель Петровского преобразования не была высокая… но избравши средством одно жалкое, мелкое подражание внешности, это преобразование исказило высоту и истину начал» народной жизни.
Чижов считал, что переход к системе свободной торговли в России должен произойти только постепенно. «Я, — пояснял он, — не в состоянии был бы ни слова сказать против свободной торговли во Франции, где она… способствует благосостоянию бедного класса народонаселения. Но у нас прежде надобно уравнять положение рабочего нашего с рабочим <в> других странах; уравнять тремя путями: улучшением дорог, более правильным разложением податей, чтоб они не ложились всею массою на бедных, и третье — увеличением средств к народному образованию. Все пошлины таможенные… увеличивающие цену произведений, нужных бедняку, должны быть уничтожены; а все другие поддержаны…» На том же этапе общественно-экономического развития, на котором находилась Россия, свобода торговли могла лишь отнять «то небольшое приволье в жизни труженика (то есть купца и промышленника. — И. С.), которое он успел приобрести себе своим настойчивым… трудом и своею смелою предприимчивостью»[315].
Д. П. Шипов высоко оценил подготовительную работу, проделанную Чижовым. «Я вижу, что никто не мог приняться за дело нашего общего журнала так горячо, как Вы», — удовлетворенно констатировал он[316].
И действительно, еще только приступая к изданию журнала, Чижов целиком освоился в новой для себя роли. «Вот уже несколько времени как я редактором журнала „Вестник промышленности“, и точно таким же бешеным редактором, как был бешеным шелководом… Работаю, как вол…»[317]
«Вестник промышленности» начал выходить в свет с июля 1858 года. Журнал состоял из семи разделов. Каждый 400-страничный выпуск открывался «Обозрением промышленности и торговли в России», который, как правило, готовился И. К. Бабстом. Он представлял собой нечто вроде передовой статьи, определявшей направление издания. Вслед за «Обозрением» публиковались корреспонденции о положении промышленности и торговли в западноевропейских странах и Северной Америке для содействия усвоению иностранного опыта. Раздел «Современная промышленность» посвящался «живым практическим вопросам». В нем печатались подробные сведения о развитии железнодорожного транспорта и торгового пароходства, о состоянии и перспективах различных отраслей отечественного предпринимательства. Раздел «Науки» информировал о технических открытиях и усовершенствованиях за рубежом, которые можно было бы с успехом применить в России. Раздел «Биографии» задумывался как свод жизнеописаний лиц, ставших известными на поприще промышленности и торговли; их пример должен был воодушевлять русское купечество, «возвышать <его> в собственных… глазах и понятиях общества».
В «Вестнике промышленности» существовали также такие разделы, как «Критика и библиография», в котором рецензировались главным образом русские книги и журнальные статьи, «Смесь» — с краткими сообщениями об отдельных промыслах, ярмарках, обозрениями экономической жизни различных городов, «Часть справочная», где публиковались торговые прейскуранты, уставы акционерных обществ, публичные лекции (например, профессора И. К. Бабста по политэкономии, профессора М. Я. Киттары по товароведению и другие).
Первый год «Вестник промышленности» издавался в основном на средства братьев Шиповых и ту незначительную сумму денег, которую удалось собрать среди купечества на Нижегородской ярмарке. В 1859 году после неудачной попытки ряда акционерных обществ начать выпуск собственного журнала в Петербурге владелец Саратовской железной дороги Г. А. Марк предложил частично финансировать «Вестник промышленности» при условии публикации в нем статей и других материалов, предоставляемых правлением его дороги. Это дало возможность помимо журнала «Вестник промышленности» начать с 1860 года выпуск еженедельного приложения к нему — газеты «Акционер». С этого же времени И. К. Бабст стал официальным соредактором обоих изданий.
Как и «Вестник промышленности», «Акционер» был призван оказывать всемерную поддержку строительству железных дорог, развитию промышленности и банковского дела без участия иностранного капитала. Но в газете преобладали материалы более конкретного, частного характера, что видно уже из одного перечисления ее отделов: «Передовая статья», «Торговые дела», «Баланс и состояние отчетов Госбанка», «Вексельные и денежные курсы», «Поезда железных дорог», «Последние цены акций на Санкт-Петербургской бирже», «Объявления».
«„Акционер“, — говорилось в первом номере газеты, — имеет в виду сообщать текущие новости и является, так сказать, передовым гонцом, предоставляя старшему брату своему строгий, подробный и окончательный разбор предприятия или хода дел разных отраслей промышленности». Первые акционерные компании, вызванные к жизни наличием в стране свободных капиталов, ищущих себе выгодного помещения, назывались газетой «авангардными промышленными отрядами». Они вели разведку полезных ископаемых, на разработку которых отдельными промышленниками не доставало ни смелости, ни энергии, ни средств. Учитывая «трудность и новизну многих предприятий, принимая в расчет недостаток в людях, бедность сведений и неудобства, на каждом шагу затрудняющие каждое дело, а также невыработанность и недостатки законодательства относительно промышленных товариществ и компаний», редакция «Акционера» собиралась публиковать в помощь предпринимателям свои соображения, касающиеся того или иного промышленного начинания, следить за их ходом и правильной отчетностью. «Мы глубоко убеждены, — писала газета, — что добросовестная критика может послужить… в пользу самих компаний… удерживая их от излишних расходов или отклоняя от планов и затей, общему делу и их собственной пользе не соответствующих»[318].
«Вестник промышленности» и «Акционер» начали выходить в канун отмены крепостного права. Поэтому не удивительно, что многие статьи в них в той или иной мере касались этой злободневной для России проблемы. В условиях жесткой регламентации, предусмотренной существовавшими на тот момент Правилами публикаций сочинений по крестьянскому вопросу, оба издания последовательно выступали за ликвидацию принудительного крепостного труда и за предоставление крестьянам права свободно распоряжаться своей рабочей силой.
Уже в первом номере «Вестника промышленности», в передовой статье, Чижов писал: «Эта отвратительная ненаемность рабочих, куда ни обернись, везде страшная помеха. Слава Богу, нам сулят скорое от нее избавление. Уничтожение крепостного права будет важным приобретением нашей промышленности. Свободный труд есть непременное условие каждого промышленного дела».
«Переход к свободному труду, — подхватывал тему „Акционер“, — у нас на дворе, мы ждем его с нетерпением, он оживит нашу производительность… Сколько еще у нас фабрик, заводов и разных производств, основанных на труде обязательном! Это очень грустно и дурно»; «устранение каких бы то ни было препятствий к свободному… размещению производительных рабочих сил — это верный шаг к преуспеянию народного хозяйства». В двадцати миллионах освобожденных крестьян газета усматривала источник, «к которому промышленность могла бы обращаться за подкреплением слабых и немощных сил своих»[319].
Хотя на страницах «Вестника промышленности» и «Акционера» не прослеживался ход подготовки реформы и не обсуждались конкретные условия отмены крепостного права (такого рода вопросы с достаточной полнотой и с близких Чижову позиций освещал журнал «Сельское благоустройство»), все же и эти «сугубо промышленные и торговые» периодические издания время от времени заявляли о своем отношении к правительственным мероприятиям, касающимся крестьянства. В частности, являясь сторонником привлечения крестьян к работе губернских комитетов, Чижов в одном из номеров журнала резко критиковал то ненормальное положение дел, когда «целое народонаселение, участь которого решается, не имеет ни права голоса, ни своих представителей»[320].
Отмена крепостного права была встречена журналом и газетой с восторгом. «Одной из величайших современных общественных реформ» назвал ее «Акционер». «С чего начать нам сегодня, как не с того великого события, которое, наконец, совершилось, — говорилось в передовой статье газеты от 10 марта 1861 года. — Русское государство начинает жить новой жизнью… новым духом на него повеяло… Свободно начнем мы дышать: крепостного права больше нет… Крестьяне могут производить свободную торговлю, законами им предоставленную, открывать и содержать на законном основании фабрики, заводы и ремесленные заведения, записываться в цехи и гильдии». «Сколько выиграют от освобождения крепостного сословия торговля и промышленность — это теперь невозможно было бы исчислять, даже приблизительно», — вторил «Акционеру» «Вестник промышленности»[321].
С выходом крестьян из крепостного состояния Чижов связывал осуществление надежд на ликвидацию феодальной сословной системы, несовместимой с буржуазным принципом гражданского равенства. Сословные льготы и привилегии препятствовали консолидации различных групп предпринимателей, мешали их политическому самоопределению. Еще в 1845 году во время путешествия по славянским землям Чижов записал в дневнике: «Уничтожьте только крепостное сословие, и все граждане сблизятся между собой, время истребит различие между богатыми и бедными, а развитие народных способностей возвысит народ и приблизит его к тем, кто составляет теперь какую-то исключительность и пользуется особыми правами…»[322]
И вот почти через двадцать лет Чижов вновь заговорил об этом, но теперь уже публично, в передовой статье газеты «Акционер». Отмена крепостного права есть первый шаг «к полному, всеобщему братству. Сословия остановились в раздумье и стараются решить <для> себя вопрос — на что эти средневековые перегородки между людьми, между согражданами одной страны, ничем существенно не разделенными, вышедшими из одного племени». В единстве всей нации Чижов видел непременное условие быстрого экономического роста страны и обращался к образованным слоям русского общества с призывом, в котором звучал традиционный славянофильский лейтмотив: «Посблизимся только с народом, будем чутки к его нуждам и к его требованиям, тогда… и наши главные промышленные препятствия: недостаток кредита и путей сообщения, — устранятся… общими народными средствами. Для нас все впереди и все в слиянии с народом…»[323]
На страницах чижовских периодических изданий нередко появлялись критические материалы, направленные против творимого чиновниками и полицией произвола в отношении предпринимателей, приводились факты вопиющих нарушений промышленного законодательства. Политическая инертность русской буржуазии делала ее неспособной самостоятельно формулировать и добиваться от вступившего на путь реформ правительства таких изменений во внутренней политике, которые бы в наибольшей степени удовлетворяли ее интересам. И Чижов вновь и вновь оказывался рупором купцов и фабрикантов, невысказанных ими политических требований. «Теперь время выдвинуло промышленность и промышленников в первые ряды деятельности и деятелей; оно поставило в зависимость от них всякое движение вперед, — писал он. — С освобождением 23 000 000 душ из-под крепостного состояния… в России начинается новая жизнь и для нашей промышленности и торговли, следовательно, для всех, кто занимается или будет заниматься ими. Купцу, как человеку опытному, прибавляется к его обязанностям еще новая — руководить, направлять дело, или, по крайней мере, смело, прямо и громко заявлять о насущных нуждах нашей промышленности и торговли, подавать за них свой, до сих пор редко раздававшийся голос»[324].
Чижов убеждал купцов в том, что они образуют собой новую общественную силу, несущую необходимые для России социально-политические изменения, и призывал их повысить общественную активность и сплоченность. В своей речи на одном из собраний предпринимателей он, обращаясь к конкретным примерам из всемирной истории, в частности, говорил: «В Европе все имеет органическую связь. Там развитие умственное, развитие гражданское и развитие промышленности шли рука об руку. Там путем промышленности люди выходили на степень властителей страны. Так, господа, многие венециане были государями своей страны благодаря только промышленности и торговле… Генуэзские патриции были точно так же властителями страны благодаря торговле. Наконец, мы знаем во Флоренции одно из великих имен, именно Медици, который прямо из-за прилавка купеческого стал герцогом… Вы видите, как высоко там была поставлена промышленность и торговля (браво!)»[325].
Нередко Чижову-редактору приходилось в разговоре со своими читателями прибегать к эзоповому языку. Так, купцы, недовольные введением в 1857 году нового таможенного тарифа, снизившего пошлины на ввозимые в Россию иностранные товары (хлопчатобумажные ткани, чугун и железо), читали в «Вестнике промышленности» материал о разгоревшейся в Австрийской империи дискуссии по поводу возможных изменений в таможенной политике. «На одном должны бы непременно настаивать промышленники, — советовал журнал, — чтобы никогда пошлина не понижалась без совещания… с фабрикантами и промышленниками, и непременно совещаний гласных, где бы последнее решение было точно свободным приговором общественного мнения…»[326]
Заявить о своих требованиях, выработать общую позицию по тому или иному торгово-промышленному вопросу купцы и фабриканты могли на съездах предпринимателей, прецеденты созыва которых уже имели место в Западной Европе. В статье «Съезд прусских купцов в Берлине», опубликованной в 1860 году, газета «Акционер» писала: «Не вдаваясь в излишние подробности о ходе прений, о вопросах, на этом собрании поднятых, мы укажем только вообще на значение таких съездов… <где> сталкиваются промышленники из разных местностей, со своими, подчас весьма узкими, местными интересами и подвергают их на обсуждение представителей интересов других местностей… <Тогда>, конечно… промышленная жизнь легче и привольнее течет руслом правильным и естественным»[327].
Обращаясь к конкретному состоянию экономики России и ее перспективам, чижовские издания публиковали статьи, призывающие инициативнее и шире разрабатывать «остающиеся под спудом» несметные богатства страны. «России только бы уменья пользоваться своими производительными силами, тогда ее положение действительно было бы завидное, — убеждал „Акционер“. — <До настоящего же времени> производительные силы наши остаются нетронутыми. Возьмем, например, предметы, наиболее обогащающие страну и дающие ей возможность усиливать промышленность, а именно: каменный уголь, чугун и железо. У нас есть целый край, известный залежами каменного угля, — это Земля Войска Донского… — а посмотрите на сравнение добываемого угля у нас и в других европейских государствах. Его добывается: в Великобритании — 3960 млн. пудов, в Пруссии — 780 млн….во Франции — 420 млн., в Австрии — 186 млн., в России — 7 млн.»[328].
В те годы бытовало мнение, что топить печи иностранным углем дешевле, чем русским, и что он намного лучше отечественного по качеству. Стремясь убедить своих читателей в обратном, Чижов сообщал, что А. С. Хомяков в своем имении Тульской губернии начал разработку залежей каменного угля для отопления зданий. «Многие, узнавши об угле, полученном в имении А. С. Хомякова, спрашивали в редакции „Вестника промышленности“ образцов его. Теперь, благодаря Алексею Степановичу Хомякову, контора редакции получила несколько его пудов, а потому всякому желающему может показать и дать небольшие куски» для сравнения с «эталонными» образцами угля иностранного[329].
Одно из центральных мест как в «Вестнике промышленности», так и «Акционере» занимали статьи о железнодорожном строительстве. В то время как в Европе и Северо-Американских Штатах паровой рельсовый транспорт появился еще в 20-е годы XIX столетия, в России первая железная дорога была проложена только в конце 30-х годов. Правительство Николая I, опасаясь нежелательных последствий расширения сети железных дорог, весьма неохотно соглашалось с их строительством. Министр финансов граф Е. Ф. Канкрин убеждал Царя в том, что железные дороги не только не нужны, но даже вредны: из-за них разорятся извозопромышленники, сгорят леса, усилится склонность населения, и без того не очень оседлого, к ненужному передвижению с места на место, а то и того хуже — к бродяжничеству. Один из существенных доводов против постройки железных дорог носил стратегическое обоснование — бездорожье рассматривалось в качестве мощного средства обороны. Близорукость подобных расчетов стала очевидна в ходе Крымской кампании, когда в значительной степени из-за отсутствия железных дорог провалилась оборона Севастополя.
Сын Николая I Император Александр Николаевич взял курс на новую политику в железнодорожном строительстве. Еще до того как в 1857 году было Высочайше утверждено «Положение об устройстве в России сети железных дорог», вопрос о развитии парового рельсового транспорта широко обсуждался в периодической печати. Все выступавшие со статьями на эту тему были единодушны в главном: строительство железных дорог для России жизненно необходимо; старые виды транспорта (гужем и на судах) явно не справлялись с потребностями увеличивающегося грузооборота. Разногласия возникали по поводу принципа, который следовало положить в основу проектирования железных дорог. А он вытекал из различий в понимании стратегических народнохозяйственных задач.
Журналы «Современник», «Экономический указатель» и «Русский вестник» (его редакцию к этому времени возглавлял М. Н. Катков) исходили из того, что Россия — страна земледельческая, поставляющая сырье для Европы и Америки. Поэтому главный железнодорожный узел, по их мнению, необходимо было разместить в одном из двух наиболее хлебородных центров страны — Орле или Курске, откуда перевозка сельскохозяйственных продуктов за границу обойдется дешевле, чем провоз их окольно, через Москву.
Против этой точки зрения в славянофильской «Русской беседе» выступил А. И. Кошелев. Он утверждал, что железнодорожное строительство нельзя ставить в исключительную зависимость от перевозки сельскохозяйственных продуктов, ибо в этом случае железные дороги окажутся загруженными не круглый год, а сезонно и, следовательно, не будут себя окупать. Кошелев настаивал, чтобы при выборе направлений постройки железных дорог Россию не считали только «земледельческой, или промышленной, или военной землей, а страной, равняющейся двум Европам, населенною 65 млн. людей, имеющую значительную торговлю и промышленность и в этих огромных размерах могущую развиваться самобытно, удовлетворять, насколько возможно, дома свои потребности». Да и чужие края следует рассматривать не иначе «как во всех отношениях пособие, необходимое для России добавление, а отнюдь не цель, не образец и не преимущественный источник света и богатства»[330]. Только Москва, по убеждению Кошелева, может стать главным железнодорожным узлом страны, отвечающим ее политическим и торгово-промышленным нуждам и интересам. (Кстати, еще за десять лет до этого в защиту схожей точки зрения высказался в журнале «Москвитянин» А. С. Хомяков: «Надобно России соединить свои моря: Балтийское и его Петербургскую пристань, Черное и его цветущую Одессу, Каспийское и его многонародную Астрахань, — в одном средоточии, в Москве».)[331]
Аргументы Кошелева убедили стоявшего во главе редакции «Современника» Н. Г. Чернышевского. В первом номере журнала за 1857 год он назвал статьи Кошелева очень дельными, где «все ясно и разумно».
Кошелева поддержала славянофильская газета «Молва», начавшая выходить с весны 1857 года под редакцией К. С. Аксакова. «„Русская беседа“, — говорилось в первом номере „Молвы“, — коснулась… важного вопроса, вопроса о железных дорогах. Она высказала мнение, что центром железных дорог должна быть Москва, и подтвердила это мнение ясными, как день, доводами в прекрасных статьях самого редактора, г. Кошелева»[332].
В передовой статье одного из августовских номеров «Молва» вновь вернулась к проблеме железных дорог в России. Считая их одним из важнейших открытий века, видя в них «существенную необходимость всякого образованного государства», газета призывала к скорейшему сооружению сети железных дорог с главным узлом в Москве. «Стоит взглянуть на карту России, — писала „Молва“, — и всякий увидит, как из Москвы во все стороны тянутся дороги, какой законный центр и в жизненном и в географическом отношении представляет Москва; эти дороги прокладывались в течение веков всем народом русским»; «Железные дороги должны быть применены к существующим путям, созданным жизнью и потребностями целой страны… а не сочинены в кабинете отдельными лицами»[333].
Эти основополагающие принципы подхода к проектированию и строительству сети железных дорог в России получили свое развитие в журнале и газете Чижова. «Бывают времена, — говорилось в одном из номеров „Акционера“, — в которые известные потребности чувствуются вдруг всем населением государства. В настоящее время в России эту потребность представляют железные дороги. Все без исключения знающие, с какою быстротою на этих путях перевозится множество пассажиров, а в особенности грузов, требуют единогласно устройства железных дорог». Это «вопрос самый жизненный для нашей промышленности и для нашей торговли…» Газета не разделяла мнения тех, кто хотел «железными дорогами созидать новые пути для торговли». Напротив, по ее убеждению, они будут только тогда в максимальной степени служить народнохозяйственным нуждам, «когда их направления совпадут с естественным направлением движения товаров»[334].
В XIX веке особой популярностью пользовался афоризм экономиста французской классической школы Мишеля Шевалье: «Железные дороги суть самые демократические учреждения». Известно, что эту фразу в качестве предостережения любил цитировать граф К. Ф. Толь, главноуправляющий путями сообщения при Николае I. Но для Чижова, с его стремлением к скорейшему стиранию различий между сословиями, эти слова были еще одним аргументом в затянувшемся споре о необходимости строительства железных дорог в России. «С начала существования мира ничто не приносило таких неисчислимых услуг увеличению вещественного благосостояния общества, какие принесли ему железные дороги, — писал он на страницах „Акционера“. — Но всего более выиграл от них труженик… Железные дороги громче всех откликнулись на многовековые его требования, и в то время как одряхлевшие остатки средневекового общественного порядка хватаются за изорванное тряпье сословных предрассудков, железные дороги верным путем и равными ударами разбивают все сословные перегородки, и разом, одинаково везя и нищего и богача, без ораторского велеречия, делом проповедуют полноту человеческого братства»[335].
Будучи убежденным сторонником поощрения частной инициативы, Чижов считал наиболее целесообразным вести железнодорожное строительство не из средств государственного бюджета, а на частные капиталы. Исключение он делал только для невыгодных в эксплуатации линий. Да и то предлагал при казенной постройке «придумать такой способ, чтобы строить на правах частной дороги, а не подчиняться департаменту»[336]. В этом его убеждал опыт строительства Николаевской железной дороги, ставшей притчей во языцех у современников: на то время самая протяженная в мире, она вышла и самой совершенной по технической оснащенности. Однако ее дороговизна превзошла все ожидания. Если частной компании, начинавшей строительство, верста пути обходилась в 23 тысячи рублей, то казна, достраивавшая дорогу в течение восьми лет, уже затрачивала на версту 165 тысяч.
Подсчитывая все «за» и «против» казенного и частного строительства и эксплуатации железных дорог, Чижов писал: «Правительство, владея дорогами, действительно не будет иметь в виду так исключительно свою выгоду, как частная компания, но зато издержки чиновничьего управления непременно будут далеко выше, и поневоле надобно будет держать тариф высоко, чтоб возместить высокие расходы… Второе, на деле никак не менее важное, — это чиновничьи злоупотребления в отношении к отправителям товаров и… к пассажирам. При частных обществах есть кому жаловаться, — правительство является третейским судьею, которому нет повода оправдывать беззакония или беспорядки железнодорожных управлений… Желание избежать гласных печатных нападок невольно заставляет брать сторону жалующихся. А при правительственном управлении жалоба на управление есть, если не прямая, то косвенная жалоба на само правительство, и это последнее, по общечеловеческой слабости, непременно старается или защитить своих служащих, или скрыть их беды… При управлении частными обществами правительство поставлено совершенно в иное положение: оно готово даже придирчиво смотреть на все их действия, надеясь попасть в <благорасположение> у публики и народа»[337].
Логику доказательства преимуществ частного предпринимательства в железнодорожном деле требовалось подкрепить мнением лиц, авторитетных в глазах русского общества. Поэтому Чижов с удовольствием откликнулся на предложение П. И. Бартенева прокомментировать в журнале «Русский архив» письмо Пушкина к князю В. Ф. Одоевскому, в котором поэт высказывал свое несогласие с вмешательством властей в ход постройки частной компанией Ф. Герстнера Царскосельской дороги. «Я, конечно, не против железных дорог, но я против того, чтоб этим занялось правительство», — такова была точка зрения Александра Сергеевича[338].
Недостаток государственных ресурсов для разветвленного железнодорожного строительства заставил Императора Александра II взять курс на поощрение частной инициативы. Чтобы заинтересовать предпринимателей, власти предоставляли им значительные льготы, включая правительственную гарантию 5 %-ной ежегодной прибыли. В изданном в январе 1857 года Именном Высочайшем Указе особо подчеркивалась желательность привлечения к строительству железных дорог иностранных капиталов. Предполагалось, что зарубежные инвестиции позволят «воспользоваться значительной опытностью, приобретенной при устройстве многих тысяч железных дорог в Западной Европе»[339].
В том же 1857 году было учреждено Главное общество российских железных дорог, в котором решающая роль принадлежала иностранным банкирам, а производство работ выполняли французские инженеры. В число акционеров Главного общества входили, по словам Чижова, «все сильные мира сего», а именно высшие правительственные чиновники и аристократы, весьма близко стоящие ко Двору: граф К. В. Нессельроде, князь Д. А. Оболенский (вице-президент Общества), граф Г. А. Строганов (его председатель), фаворитка Императора Александра II княжна Е. М. Долгорукая — и сам Император, лично владевший 1200 акций (из 150 000). При поддержке Комитета министров Главному обществу была выдана концессия на сооружение четырех наиболее выгодных железнодорожных линий общей протяженностью в 4 тысячи верст: от Петербурга до Варшавы, с ветвью к прусской границе; от Москвы до Нижнего Новгорода; от Москвы через Курск до Феодосии и от Курска или Орла через Динабург до Либавы. Основной капитал Главного общества был определен в 275 миллионов рублей, хотя в действительности с помощью выпуска акций и облигаций удалось собрать лишь 112 миллионов. При крайней дороговизне строительства и неимоверных непроизводительных затратах (только 32 миллиона рублей было израсходовано на содержание административно-управленческого аппарата) этих денег едва хватило на сооружение Варшавской и Московско-Нижегородской линий.
«Французы просто грабили Россию, — вспоминал спустя годы Чижов, — строили скверно вследствие незнания ни климата, ни почвы и того невыносимого презрения, какое они питали к русским инженерам»; «Я хорошо помню время господства Главного общества… Тогда я издавал журнал „Вестник промышленности“, и на его листах находили себе приют все статьи, враждебные Главному обществу. Из него потом перепечатывали другие газеты, и это едва ли не был самый злейший враг Главного общества, разоблачивший множество его мерзостей. Французы смотрели на Россию просто как на дикую страну, на русских как на краснокожих индейцев и эксплуатировали их… бессовестно… Они привезли с собою не только бумагу, не только готовые бланки на франц<узском> языке, но даже заступы, лопаты и вообще все землекопные орудия, — кажется, даже и тачки. Свежо предание, а верится с трудом…»[340]
За то время, пока строительство железных дорог в России почти монопольно вело «Французское общество», «десятки миллионов кровного достояния страны были преступно растрачены», — писал в одной из своих передовых статей «Акционер». «Мы нуждаемся в действительных капиталах и дельных промышленниках, а не в заезжих проходимцах, действующих с заднего крыльца, добывающих себе, пользуясь случаем и невежеством, монополии и вместо внесения капиталов, поглощающих наши собственные средства», — негодуя, вторил ему «Вестник промышленности» в статье «Несколько слов по поводу новых льгот, испрашиваемых Главным обществом железных дорог»[341].
И таких резких по тону публикаций, разоблачающих злоупотребления Главного общества, его «милую французскую бесцеремонность в отношении русской чести и русского кармана», в журнале и газете Чижова было немало. Не удивительно, что они вызывали ответные меры со стороны Цензурного комитета. Так, за пропуск в печать в октябрьском номере журнала «Вестник промышленности» за 1859 год «неуместной» статьи, «в которой автор вопреки правилам цензуры и приличия» называл «французов, занимающихся постройкою железных дорог в России, не знающими своего дела, взяточниками, chevalier d’industrie[342] и пр.», близкому к славянофилам цензору Н. П. Гилярову-Платонову был сделан выговор[343].
Вся жизнь Чижова в эти годы — это период бури и натиска. Он отчаянно стремился вырвать железные дороги из рук иностранцев и наладить их быстрое и качественное строительство на средства отечественных капиталистов. Им руководило желание доказать скептикам, что сами русские могут создать в стране разветвленную железнодорожную сеть и сами вполне профессионально управлять ею. «Пока не все еще, что составляет основу… благосостояния каждой страны… руками услужливых иностранцев наших перешло за границу, пора становиться на их места… <пора> заставить их убедиться, что они имеют дело с людьми понимающими… и уже способными иметь контроль за их действиями»[344].
В одной из передовых статей, предназначенной для «Акционера», Федор Васильевич с чувством боли и негодования писал: «…грустно, стыдно и просто-напросто бывает гадко, когда случается слышать голос сомнения в возможности строить наши железные дороги нашими же русскими инженерами. Мы боимся, стыдимся похвалить свое, достойное хвалы, и боимся единственно из какого-то подобострастия перед тем слоем общества, который только что не молится на все иностранное». При этом Чижов напоминал читателям, что долгое время единственной железной дорогой, построенной силами исключительно русских инженеров, была сооруженная в 1851 году на средства казны Николаевская железная дорога, соединившая Москву и Петербург. Именно ей Россия была обязана превосходной молодой школой железнодорожных строителей. «Они ли направляли ее по указанию своих изысканий или она прошла настоящим своим направлением по не зависящим от них требованиям?» — риторически спрашивал он, намекая на «неприглядность обстановки того времени», обусловившую ее дороговизну, впрочем, не шедшую ни в какое сравнение с дороговизной дорог английских и французских[345].
Следует отметить, что передовица Чижова увидела свет со значительными цензурными купюрами. В письме к министру внутренних дел П. А. Валуеву председатель Московского цензурного комитета М. П. Щербинин следующим образом объяснял строгость принятых им мер: «Чижов не довольствуется изложением причин, по которым слишком дорого обошлась правительству постройка Николаевской железной дороги, но имеет целью, с одной стороны… показать произвол покойного Государя Императора, по воле и личному указанию которого означенная дорога получила свое направление… с другой… — осудить рабство государственных лиц, беспрекословно исполнивших волю Государя»[346].
Патриотическое намерение Чижова строить железные дороги в России исключительно своими силами, не полагаясь на «корыстную помощь» извне, могло быть осуществлено лишь при наличии у русских предпринимателей достаточных капиталов. Но Министерство финансов, нимало не заботясь о получении кредитов внутри страны, всячески поощряло привлечение в страну иностранных инвестиций. Против этих мер восставали славянофильски настроенные деятели, утверждавшие, что Россия отнюдь не бедна собственными денежными средствами и промышленной инициативой, а лишь нуждается в пробуждении дремлющих в бездействии производительных сил ее.
Еще в 1856 году «Русская беседа» обратилась к национальной буржуазии с призывом поддержать становление отечественного железнодорожного транспорта: «Неужели Россия, преизобилующая всеми дарами природы, пользующаяся твердым кредитом внутри и вне государства и имеющая собственных капиталистов и предприимчивых людей, не найдет денег?! — восклицал А. И. Кошелев. — Нет! Видно не глубоко, не сильно в нас убеждение, что теперь жить без железных дорог так же невозможно, как после изобретения пороха нельзя дубинками и копьями побеждать врагов, имеющих ружья и пушки»[347].
Но на практике выходило так, что русское купечество в большинстве своем продолжало считать более верными доходы в сфере обращения и с опаской смотрело на участие в постройке железных дорог: прибыль здесь была в гораздо большей степени проблематичной, а капиталовложения, казалось, не обещали скорого возмещения. Подобная косность взглядов как на собственные выгоды, так и на пользу отечества приводила Чижова в бешенство. В статье «Московская промышленная хроника», опубликованной в «Акционере», он дал выход своему негодованию: «…иностранный капитал… привлекает в… чужие руки тот барыш, который должен бы быть прямою собственностью русской земли… Это служит сильным упреком нашим капиталистам, погребающим свои капиталы в домах, <вкладывающим их> в откупа, во многое, что не кормит, а, напротив, разоряет народ!»[348]
Мобилизация русских капиталов на дело железнодорожного строительства — вот, по мнению Чижова и его соратников, путь к скорейшему развитию всей отечественной промышленности. Но этот процесс тормозила новая торгово-промышленная политика правительства. Взятый курс на понижение таможенных пошлин не позволял дорогостоящим изделиям русской промышленности конкурировать с хлынувшим в страну потоком дешевой иностранной продукции. А это вело к тому, что за Россией со временем могла закрепиться роль полуколониального придатка промышленно развитых западных держав.
С выходом в свет первых номеров «Русской беседы» на ее страницах стали появляться статьи, призывающие возвратиться к традиционной для России политике покровительства отечественной промышленности. Славянофилы предлагали высокими таможенными пошлинами стеснить импорт товаров и тем самым поддержать собственное производство, пока оно еще не достигло полного и самостоятельного развития[349]. Однако правительство неохотно прислушивалось к доводам протекционистов.
В 1857 году из чисто конъюнктурных соображений, вызванных «веяниями времени», для участия в предварительном рассмотрении проекта изменений тарифа 1850 года в Петербург была приглашена депутация от русских купцов и фабрикантов. Тарифный комитет выслушал мнение депутации и признал его хотя и дельным, но, к сожалению, запоздалым. 27 мая 1857 года был принят новый таможенный тариф, вводивший, по словам Чижова, «нерациональное определение и несвоевременное приложение… пошлин, несообразных с состоянием разных отраслей нашей промышленности»[350].
Критикуя новый тариф с протекционистской точки зрения, Федор Васильевич обращал внимание на социальные последствия его применения. Устанавливая высокие пошлины на наиболее употребительные в стране товары, тариф предусматривал почти беспошлинный ввоз предметов роскоши. А это противоречило христианским принципам. Согласно им, предметы первой необходимости следовало бы вовсе не облагать пошлиной, ибо при их вздорожании бедность переходит в нищету, обрекая на полуголодное существование тех, кто кормится трудами рук своих; предметы же роскоши и модные товары, составляющие «приволье высших классов», справедливо облагать высокой пошлиной, тем самым поощряя развитие промышленности и одновременно доставляя выгоду всему народонаселению[351].
Через два месяца после принятия нового таможенного тарифа Чижов, огорченный неоперативностью славянофильской прессы, писал из киевской ссылки в Москву С. Т. Аксакову, отцу редактора газеты «Молва»: «Прислали мне на днях „Молву“: бьет бойко — только… надоедает спор за латинскую грамматику[352]… хотелось бы в „Молве“ спросить „Молву“, как она пропустила важный общественный вопрос и не сказала нам, что говорят о перемене тарифа?»[353]
Упущение «Молвы» Чижов с лихвой восполнил в своих изданиях. На страницах «Вестника промышленности», а затем и «Акционера» Чижов не уставал приводить все новые и новые доказательства необходимости перехода к политике протекционизма. К этому его и Бабста побуждали московские торговопромышленники, недовольные правительственными «либрэшанжистскими» уступками иностранным предпринимателям. «Нас, русских фабрикантов, топчут в грязь!.. Бога ради, защитите нас: Ваше перо сильнее всех наших возгласов», — взывали они[354]. Сообразуясь с этими призывами, журнал и газета ревностно отстаивали интересы отечественных товаропроизводителей, ведя особенно активную полемику с выходившим в Петербурге органом сторонников идеи свободной торговли «Экономическим указателем».
Парадоксальная ситуация: обладая огромными имущественными состояниями, русское купечество не имело почти никакого кредита. Это было одним из серьезных препятствий к его участию в деле промышленного учредительства. По мнению Чижова, решить проблему могло бы учреждение коммерческих банков, предоставляющих дешевый частный кредит под залог недвижимости и товаров. «Промышленность у нас более, нежели где-либо, и теперь более, нежели когда-либо, требует помощи, — писала по этому поводу в 1861 году газета „Акционер“. — Разнообразие богатств природы <нуждается в> разработке, а капиталов у нас мало, доверия еще меньше, прибегнуть не к кому, и дело остается без движения. Сколько теперь находится начатых фабрик, которые уже почти приведены к окончанию, недостает безделицы — денег; строение втрое, вчетверо могло бы обеспечить ссуду, но где достать ее?»[355]
Учрежденный в 1860 году Государственный банк с основным капиталом в 15 миллионов рублей получил преимущественное право кредитования торговых и промышленных заведений. Однако с его появлением проблема так и осталась до конца не решенной. Несмотря на Всеподданнейшее прошение московского купечества, на Москву не распространялось производство ссуд под залог не подверженных порче товаров. Исключение было сделано лишь для бумажной пряжи.
Монополизация государством кредита вступала в противоречие с потребностями предпринимательских кругов. Перестраиваемая на капиталистический лад экономика предполагала включение в орбиту частной инициативы и кредитную систему страны. В статье М. Степанова «Необходимость частных банков в России», опубликованной в «Вестнике промышленности», в этой связи говорилось: «…дела внутренней торговли страдают от недостатка оборотного капитала; в то же время свободный капитал до того толкается в двери какого-нибудь нового, менее нужного и менее полезного акционерного общества, что приходится гнать его силою. Отчего же у нас так делается? Оттого, что нет надежного посредничества между свободным капиталом и внутренним торговым делом; оттого, что у нас нет ни частных банков, ни частных банкиров… которым капиталисты могли бы вверить некоторую часть своих свободных капиталов для правильного помещения их в такие частные и верные дела, от которых была бы оборотная польза и капиталисту, и торговому сословию…»[356]
Именно в тот самый момент, когда совершался поворот к новому этапу экономического развития России, в финансовой системе страны царил настоящий хаос. К 1859 году вследствие выпуска необеспеченных кредитных билетов стоимость бумажного рубля упала до 83,5 копейки, а в последующие годы — в среднем до ⅔ рубля. Грамотный финансист и дальновидный прогнозист, Чижов в «Вестнике промышленности» и «Акционере» не раз поднимал вопросы, связанные с состоянием государственных финансов. «Если принять, что наш кредитный рубль упал на 10 с лишним процентов, — писал он, — то, следовательно, на 10 % правительству приходится за все платить дороже, и отсюда затруднения финансовые и дефицит… Для удовлетворения нужд государственных придется опять или к займам прибегать во всех разнообразных их видах, или к новым налогам; и в том, и в другом случае <это ведет> к отягощению народа, потому что новые налоги тогда только легко выносятся, когда растут источники налогов… когда возвышается податная… способность народа, когда возбуждаются к жизни дремлющие народные богатства, усиливается обращение народных ценностей и промышленность твердым, спокойным путем идет вперед. Но это немыслимо при расстроенной денежной системе и отсутствии прочной монетной единицы»[357].
Чижов призывал правительство немедленно взяться за реформу денежного обращения и предлагал конкретные меры по стабилизации отечественной валюты. Повышению курса рубля, по его убеждению, способствовало бы, во-первых, прекращение выпуска ассигнаций; во-вторых, образование положительного сальдо во внешнеторговом балансе страны.
К доводам Чижова в пользу конкретных мер по урегулированию денежного обращения прислушалось правительство Александра II. «Когда вышли четырехпроцентные непрерывно-доходные билеты, — вспоминал Федор Васильевич, — все журналы встретили появление их с восторгом. Я же в самых более нежели умеренных… выражениях (1859, № 5, стр. 132) предсказал, что они не могут пойти успешно, но непременно пошли бы, если бы при определенном их погашении проценты по ним платились звонкою монетою. Последствия оправдали слово в слово мои предвещания. Правительство выпустило такие билеты, называемые в торговле металлическими… В 1859 году (№ 10, стр. 10), когда не было еще и помину о понижении мелкой серебряной монеты, я писал и даже дал полный расчет тому, что у нас непременно будет исчезать разменное серебро до тех пор, пока временно из 84-пробного оно не перейдет в не столь высокопробное. В то время на меня напали даже самые дельные журналы, но прошедшего (1861. — И. С.) года само правительство сделало так, как я писал больше чем за год до его распоряжений»[358].
Министерство финансов во главе с Михаилом Христофоровичем Рейтерном рассматривало операцию по стабилизации валюты как дело первоочередной важности. Однако оно отказывалось замечать очевидное: существующую взаимосвязь между денежным обращением и финансово-экономической ситуацией в стране. Не накопив необходимых средств для укрепления кредитного рубля и возлагая надежды исключительно на заграничные займы, Рейтерн в 1862 году слишком поспешно приступил к осуществлению денежной реформы с явно недостаточным металлическим разменным фондом. В результате 5 %-ный займ в Лондоне увеличил внешний долг России на 15 миллионов фунтов стерлингов. Чистый же доход от этой операции в размере 94 миллионов рублей не удалось полностью обратить на усиление разменного фонда, так как большая часть полученной суммы ушла на покрытие образовавшегося бюджетного дефицита. В итоге металлический разменный фонд накануне реформы по укреплению денежной системы составил лишь 120 миллионов рублей, тогда как бумажных денег в обращении находилось свыше 700 миллионов.
25 апреля 1862 года Александр II обнародовал специальный Указ, по которому предписывалось с 1 мая приступить к размену кредитных билетов на золото и серебро по курсу 1 рубль 10 копеек бумажных денег за металлический рубль, а с 1 августа того же года — по 1 рублю 8,5 копейки. В дальнейшем размен должен был производиться по неизменно повышающемуся курсу — до полного совпадения курсов бумажных и металлических денег.
Достаточно трезво оценивая финансово-экономическую ситуацию в стране, Чижов сдержанно отнесся к этим мероприятиям правительства. «…Мы не имеем прочной уверенности в том, что размен будет не временным и не искусственно поднятым средством, а стойким, способным довести наш курс до нормального высокого положения», — писал он в газете «Акционер»[359]. А в оставшейся неопубликованной статье «О финансовом положении России» он был еще более непримирим в оценке действий министра финансов: «Лучше, если бы седьмой заем наш был употреблен на южную железную дорогу, а не на размен кредитных билетов. На полученную нами сумму почти 20 миллионов мы могли бы иметь больше 300 верст!»[360]
Неизменно ратовавший за гласность в любом деле, касающемся общественно-политической и экономической жизни страны, Чижов одним из первых приветствовал начавшуюся в 1862 году практику обнародования государственного бюджета. Распечатка во всеобщее сведение росписи доходов и расходов казны могла стать еще одним шагом к упорядочению государственных финансов.
Однако уже в 1863 году попытка Чижова подвергнуть критике преданный гласности Всеподданнейший доклад министра финансов и роспись государственных доходов и расходов была решительным образом пресечена цензурой. По представлению председателя Московского цензурного комитета М. П. Щербинина министр внутренних дел П. А. Валуев счел невозможным допустить к печати передовую статью «Акционера», в которой обращалось внимание на отсутствие полных отчетов по расходным статьям, вследствие чего публика лишалась правильного представления о бюджете. «Совершенно непозволительными» были признаны министром и допущенные нападки на сословную направленность финансовой политики правительства, при которой основная тяжесть всех налогов и сборов ложилась на податное население. Требуя пропорциональной разверстки налогов, автор передовицы подчеркивал: «Казалось бы, что чем кто более имеет, тем более должен и платить… У нас же подати падают исключительно на рабочий класс народонаселения… Питейный сбор почти исключительно падает на него же, то есть на простой народ, потому что зажиточные классы употребляют вино виноградное… Соляной доход тоже надобно отнести на бедное население… И выйдет, что почти исключительно одно самое бедное и самое трудящееся сословие в государстве приносит 143 миллиона из всех 198 миллионов <рублей> налога».
К сожалению, статья Чижова не увидела свет и осела в одной из архивных папок фонда Особенной канцелярии министра народного просвещения[361].
О необходимости расширения внутреннего рынка России за счет включения национальных окраин в орбиту великорусских рыночных отношений славянофилы заговорили еще в начале 1858 года. Тогда в журнале «Русская беседа» была опубликована статья И. С. Аксакова «Украинские ярмарки». В ней на примере Украины раскрывалось значение окраинных областей России в общем торгово-промышленном развитии страны[362].
Продолжая в «Вестнике промышленности» эту тему, Чижов живо откликнулся в конце 1859 года на известие об учреждении Беломорского и Северо-Двинского акционерного общества, приступившего к разработке богатств Северного края: «Устройство <акционерного> общества… должно радовать, как доказательство, что деятельность и предприимчивость проявляются не в одних столицах, которые до сих пор почти исключительно работали и за себя, и за провинции. Подобная сосредоточенность, вредная во всех отношениях, в особенности вредна в деле промышленности тем именно, что, стягивая все силы и выгоды к одним центрам, препятствует образованию в провинциях… новых капиталов, останавливает… дальнейшее развитие отдаленных от столиц краев… Многочисленным областям России… пора… пробудиться и приступить к промышленной деятельности»[363].
Особенно внимательно следил Чижов за ходом развития южных окраин России. Но оттуда приходили малоутешительные известия: «Мы знаем, что наш юг, способный производить все, приносимое нам чужими кораблями из чужих стран, остается исполненным степями и пустопорожними, невозделанными землями; толкуем об этом чуть не десятки лет, а двинуло ли нас хотя на шаг это знание, покупаемое дорогою ценою бедности нашего народа и нашими ежедневными лишениями?»[364]
Как шелковода, много сил отдавшего распространению нового подсобного промысла среди сельского населения, Чижова интересовало, насколько широко и прочно вошло шелководство в быт малороссиян. В одном из номеров «Акционера» он напечатал статью, критически оценивающую ситуацию с шелководством на Украине: «…в нашем южном крае воспитание шелковичных червей имеет много в будущем, — говорилось в ней. — Жаль, что Министерство государственных имуществ… решило, что вопрос этот вовсе не стоит внимания. Мы вообще любим везде только то, что быстро приносит выгоды или что дает возможность блеснуть отчетами. Поэтому и за шелководство сначала мы принялись, <думая>, что оно вот сейчас и откроет нам Калифорнию, даст сотни и тысячи пудов шелку. На деле вышло иначе — нельзя сказать неудачно, а просто-запросто… пошло так же, как шло оно и в других странах: медленно, то удачно, то с перемежками неудач; мы и встали в тупик. У нас не достает ни терпения, ни настойчивости, и кому же, как не тем ведомствам, которым близко сельское хозяйство, поддерживать частных деятелей?»[365]
С началом Гражданской войны в США Россия почти полностью перестала получать американский хлопок, составлявший три четверти потребляемого русскими ткацкими фабриками сырья. Это не замедлило сказаться самым отрицательным образом на состоянии отечественной промышленности. В создавшейся ситуации «Вестник промышленности» предложил выход — закупать хлопок в пограничных с Россией азиатских государствах. «Авось теперь мы больше подумаем о хлопке в тех странах Азии, которые у нас под рукою… Пойдет в ход хлопок хивинский…»[366]
Но среднеазиатский хлопок-сырец уступал американскому по качеству. Чтобы его улучшить, торговый дом Быковских в 1859 году послал в порядке эксперимента через бухарца Саида Маруфа два пуда американских семян, и уже через два года обратно в Россию было привезено десять пудов высококачественного хлопка нового урожая. Рассказывая об этом, «Акционер» советовал заинтересованным лицам шире внедрять машины Эли-Уайтнея, в тридцать раз сокращающие трудоемкие работы по очистке хлопка. Наладить производство этих машин предлагалось в самой России и затем вместе с обслуживающим их персоналом и необходимым для установки и ремонта слесарным инструментом отправлять в соседние азиатские страны.
Помимо торговли хлопком, обоюдную выгоду также представляло расширение вывоза из Средней Азии в Россию дешевых, по сравнению с ценами на европейских рынках, марены и шелка и экспорта из России в Среднюю Азию мануфактурных и заводских изделий, пользующихся большим спросом у местных жителей[367].
Чижова отличала способность чутко улавливать насущные потребности и тенденции в развитии страны. В прошлом педагог, он был хорошо знаком с проблемами, стоящими перед системой народного образования и просвещения в России. Еще в 1840 году выступая за «народное, русское направление» в воспитании подрастающего поколения, он убеждал высшие слои общества в том, что «гувернантка — существо уродливое в быту человеческом»; рядом с ребенком в первые годы его жизни должна быть мать. Спустя семь лет эти мысли, высказанные в книге «Призвание женщины», получат дальнейшее развитие в его статье, опубликованной в «Московском литературном и ученом сборнике». На этот раз речь шла о роли воспитателя. «Истинно хорошим наставником… может и должен быть свой соотечественник, — писал Федор Васильевич. — Только он… собственным <своим> примером вольет в воспитанников непродажную любовь к родине, и только он будет уметь во всем открыть прекрасные стороны народа, особенно у нас, где иностранцы не могут видеть в нашем добром, прямодушном народе ничего, кроме грубости, невежества и даже, по их выражению, совершенного скотства. Пока наши молодые русские не будут воспитываемы русскими, до тех пор… многого будут стоить усилия, чтоб <они> в каждом из народа <смогли увидеть>… своего собрата, а не животное, не имеющее ничего с ними общего, кроме человеческого образа»[368].
Вместе с тем Чижов был солидарен со своими соратниками-славянофилами, которые отнюдь не отвергали несомненную пользу благотворного заимствования западноевропейских достижений и опыта. «После совершившегося соприкосновения России и Европы, — говорил И. В. Киреевский, — уже невозможно предполагать ни развития умственной жизни в России без отношения к Европе, ни развития умственной жизни Европы без отношения к России. Задача русского просвещения состоит в том, чтобы „общеевропейское“ совпало с „нашею особостью“»[369]. Об этом же было заявлено в программе славянофильской «Русской беседы», опубликованной в «Московских ведомостях» накануне выхода в свет ее первого номера: «Заимствовать как можно более у богатого сведениями Запада, с самобытностью усваивать себе все полезное»[370].
Рост промышленного производства в предреформенной и особенно пореформенной России требовал прихода на строящиеся железные дороги, на вновь открываемые фабрики и заводы собственных высококвалифицированных рабочих и инженеров. Поэтому Чижов настойчиво пропагандировал прогрессивный опыт Запада в деле просвещения и распространения научно-технического образования. Он считал, что классические гимназии с их отвлеченной от конкретных запросов жизни программой не соответствуют представлению о новом типе среднего учебного заведения, выпускающего нужных стране специалистов, и предлагал расширять сеть реальных училищ в стране, открывать доступ к высшему инженерному образованию выходцам из разных сословий, вводить в программу университетского курса преподавание технических дисциплин.
Еще в начале 1840-х годов, путешествуя по Западной Европе, Чижов интересовался подробностями системы образования в технических школах Италии, Швейцарии, Германии, Франции, Англии, Бельгии и обо всем, достойном внимания, сообщал в Петербург, в Министерство народного просвещения. Приступив спустя годы к изданию «Вестника промышленности», он заказывал своим европейским корреспондентам статьи об организации промышленного обучения в Англии, Австрии, Бельгии.
Кроме того, ему приходилось и самому, еле сдерживая негодование, писать о прискорбных для национальной гордости соотечественников фактах, когда почти все служащие на русских железных дорогах, «начиная с главных беззазорных заправил и кончая стрелочниками», выписывались из-за границы. То же — в промышленности фабричной, где «не одно уже при самых благоприятных условиях начатое предприятие погибло или погибает от недостаточного технического образования промышленника». Единственный во всей обширной империи Технологический институт, готовивший дипломированных инженеров, не мог удовлетворить все возрастающий спрос на организаторов и руководителей производства. Оттого не удивительно, что «управляющие нашими фабриками, механики, инженеры — почти везде иностранцы. Они требуют непомерно высокого жалованья и очень часто не соответствуют возлагаемым на них надеждам, потому что к нам заявляются только посредственности». Хорошие специалисты «найдут себе всегда и дома довольно дела».
Не лучше ситуация оказывалась и в сельском хозяйстве. «Ввоз земледельческих машин растет… Но у нас опять-таки нет достаточно знающих людей для установки машин, для наблюдения за их ходом, для починок их. Оттого-то сельскохозяйственные машины далеко не приносят нам той пользы, как за границей, и капиталы, на них затраченные, можно считать погибшими до тех пор, пока у нас не будет техников, способных управлять ими и с ними обращаться».
Что касается торговли, то и она «вследствие беспрерывно усиливающейся конкуренции давно уже потеряла характер промысла, легко и без особенного труда обогащающего, промысла, не требующего больших знаний и умственного напряжения. Купец обязан в настоящую минуту иметь обширные сведения, чтобы следить за материальными потребностями народов… следить за всеми колебаниями торговли и кредита… принимая все более деятельное участие в торговле всемирной; купеческие конторы должны усиливать свой конторский штат и за недостатком серьезно образованных людей принуждены выписывать за дорогую цену людей из-за границы»[371].
Таким образом Чижов подводил неравнодушного читателя «Вестника промышленника» и «Акционера» к выводу: настоятельно необходимо скорейшее открытие в России большого числа начальных, средних специальных и высших торговых и промышленных политехнических учебных заведений, выпускающих грамотных специалистов для хозяйственных нужд страны.
О популярности и широкой географии распространения журнала и газеты Чижова свидетельствуют сохранившиеся в его личном архиве многочисленные письма подписчиков. Помимо жителей обеих столиц, чижовские издания получали на Украине, в центральных и северных губерниях России, в Поволжье, Сибири.
Социальный состав подписчиков был довольно разнородным: при преобладании крупных и мелких купцов и помещиков-предпринимателей «Вестник промышленности» и «Акционер» выписывала научная и техническая интеллигенция, а также чиновники, приказчики и даже крестьяне. Многие из них становились корреспондентами. Они сообщали в редакцию конкретные факты из экономической жизни отдельных местностей и краев и предлагали проекты по ее оздоровлению.
Опубликованная в июльском номере журнала за 1859 год статья «О переносном газе в Москве» привлекла внимание будущего известного русского писателя Николая Семеновича Лескова, жившего в то время в Пензе. Обращаясь к Чижову, он писал: «Я надеюсь в некоторой степени содействовать распространению Вашего журнала в Пензенской и Саратовской губерниях, и потому прошу Вас сообщить мне программу этого издания и выслать несколько прошлогодних номеров, хотя <бы>; например, тех, где помещено дело о переносном газовом освещении, которое интересует здешнюю публику…»[372]
Среди постоянных авторов статей и обозрений, публиковавшихся в «Вестнике промышленности» и «Акционере», следует назвать братьев А. П. и Д. П. Шиповых, писавших по общим вопросам промышленного развития; этнографов Ф. А. Арсеньева и П. Н. Рыбникова; профессора математики, будущего министра финансов при Императоре Александре III И. А. Вышнеградского; крупного китаеведа, русского консула в Пекине К. А. Скачкова; специалистов по текстильной промышленности М. Я. Гартмана и И. М. Миклашевского и по свеклосахарному производству А. С. Ушакова и Н. П. Шишкова; известного технолога профессора М. Я. Киттару. В 1859 году в «Вестнике промышленности» была напечатана статья Д. И. Менделеева «О происхождении и уничтожении дыма»[373].
В период издания «Вестника промышленности» и «Акционера» Чижову не раз приходилось сталкиваться с диктатом цензурных ведомств, делавших купюры, а то и вовсе запрещавших тексты написанных им передовых статей. Но подчас сложности с цензурой возникали в связи с опубликованием той или иной критической корреспонденции с мест. Из большого числа статей и заметок о Восточной Сибири, присланных в редакцию находившимся на поселении декабристом Д. И. Завалишиным, Чижову удалось напечатать в «Вестнике промышленности» лишь незначительную их часть[374]. Так, корреспонденция Завалишина, описывающая «крайнее расстройство Приамурского края», была признана Московским цензурным комитетом «не удобной для печати»: «Судя по тону ее, написана она с желанием набросить тень на действия правительства в Приамурском крае». Со схожими мотивировками были запрещены и многие другие статьи Завалишина[375].
В том же случае, если подготовленный к печати острокритический материал все же удавалось с помощью какой-нибудь уловки опубликовать в обход цензуры, вслед за этим обычно следовало тягостное объяснение с Цензурным комитетом, а то и «административная кара». К примеру, в № 2 «Вестника промышленности» за 1860 год была помещена анонимная статья «Косвенные налоги на фабрики. Рассказ проезжего». В ней шла речь о незаконных действиях чиновника особых поручений, гражданского губернатора и других должностных лиц, которые из-за отказа фабрикантов дать им взятку создали судебное дело, арестовали и отдали под суд невиновного человека, сместили честного городничего и заставили работавших на фабрике помещичьих крестьян дать ложные показания. После того как эта корреспонденция увидела свет, 20 февраля 1860 года Московский цензурный комитет потребовал от Чижова сообщить сведения об авторе обличительной статьи и его месте жительства. Однако Чижов назвать имя своего корреспондента отказался, сославшись на незнание[376].
За публикацию в № 22 «Акционера» за 1861 год статьи М. П. Погодина «Три вечера в Петербурге», сообщавшей о кризисе в русской промышленности и торговле, цензору Н. П. Гилярову-Платонову был сделан «строжайший выговор с предупреждением». Ему пригрозили, что «он будет уволен от должности цензора при пропуске первой следующей статьи, которая не будет одобрена Главным управлением цензуры», а редактор газеты «Биржевые ведомости» К. В. Трубников, перепечатавший этот материал и передавший его содержание за границу, будет отстранен от редактирования[377].
22 ноября 1863 года председатель Московского цензурного комитета М. П. Щербинин, давая разъяснения по поводу жалобы Чижова на чрезмерную подозрительность цензуры в отношении статей, помещаемых в «Акционере», сообщал министру внутренних дел П. А. Валуеву: «Как редактор г. Чижов не ограничивается спокойным обсуждением разбираемого вопроса, но обыкновенно старается действовать на читателя крайнею резкостью и даже дерзостью выражений… Как ни желательны были бы личные соглашения в подобных случаях с г. редактором, но они невозможны как потому, что г. Чижов уклоняется от всяких личных и письменных сношений с цензором, так и потому, что он представляет свои статьи почти всегда вечером, накануне <их> выхода в свет… и возбуждение с ним переписки может остановить своевременный выпуск газеты»[378].
Наряду с цензурными неурядицами неустойчивым оставалось и финансовое положение «Вестника промышленности» и «Акционера». В конце 1860 года Чижов стал склоняться к приостановке изданий из-за недостатка средств: журнал и газета не окупали себя. Вместе с тем «очищающее и просветляющее влияние» «Вестника промышленности» и «Акционера» на московских торговопромышленников было очевидным. По словам И. С. Аксакова, купцы «любили, уважали… — но и боялись Чижова» и, как добавлял один из первых биографов Федора Васильевича, «вполне ценили его просвещенное, независимое, честное слово»[379]. Заинтересованные в продолжении изданий, они обещали пополнить фонд редакции из собственных карманов. Но так как Чижов не допускал «всякие личные приношения», то было дано обязательство набрать, «хоть с принуждением», достаточное количество подписчиков.
Председатель Московского биржевого комитета А. И. Хлудов и старшина комитета И. А. Лямин от имени крупных фабрикантов обещали подписаться на 1500 экземпляров «Вестника промышленности» и такое же количество номеров газеты «Акционер». Кроме Хлудова и Лямина, деньги внесли Морозовы, С. А. Алексеев, С. Д. Ширяев, К. Т. Солдатенков, С. Л. Лепешкин, П. Н. Ланин… Примечательно, что порой московские торгово-промышленные тузы даже не удосуживались указывать адреса, по которым требовалось высылать журнал и газету, и сотни номеров оставались в редакции невостребованными.
«Так и велось дело, — вспоминал личный секретарь Чижова А. С. Чероков, — журнал рассылался ежемесячно по указанному числу экземпляров в одни руки, иным даже по 40–50 экземпляров, как Лямину, Малютину и др. Деньги же одни вносили сполна за все экземпляры с начала года, другие при легком напоминовении письмом к первым числам»[380].
Во второй половине 1861 года стали учащаться задержки в уплате денег на подписку. «С июля начались бедствия нашего журнала, — сообщал Чижов одному из своих корреспондентов. — Мы начали издавать его на нынешний год только потому, что общество людей, желавших продолжения издания, обеспечивали нам 1500 подписчиков. Как пришло к исполнению обещания, половина пошла на попятный двор, и кончилось тем, что мы едва-едва тянем наш журнал»[381].
После того как Чероков вслед за долгим и унизительным ожиданием в конторе у очередного фабриканта получил-таки причитающуюся от него «подачку», Чижов не на шутку рассердился и тут же принял решение прекратить издание «Вестника промышленности». Все подписчики немедленно были поставлены об этом в известность, а недоимщикам отправлены уведомления с требованием уплатить оставшиеся за ними долги.
Это произвело целый переполох среди купцов. Они стали почти ежедневно являться в редакцию, то поодиночке, а то и целыми группами. Верно ли, спрашивали они, что издание журнала прекращено и что нужно для того, чтобы оно продолжалось. В течение нескольких дней вся задолженность по оплате была полностью погашена и дано клятвенное заверение впредь вносить деньги обязательнейшим и аккуратнейшим образом. Но оскорбленный Чижов был неумолим:
— Нет, не хочу, не стану… — твердил он.
Наконец очередная депутация в составе И. Ф. Мамонтова, В. А. Кокорева, Т. С. Морозова и С. М. Третьякова привезла в редакцию 20 тысяч рублей — плату вперед за весь год издания журнала. Но Чижов с горячностью отбросил от себя выложенную пачку ассигнаций и заявил тоном, не терпящим возражений:
— Не стану, не хочу, вы не стоите моих трудов…[382]
Эпизод с подпиской на журнал «Вестник промышленности» достаточно красноречив. Увы, несмотря на все усилия Чижова, уровень самосознания русской буржуазии оставался крайне низким, а бремя наставничества, вразумления и просвещения «капитальных людей» оказалось слишком тяжелым и неблагодарным.
В конце 1861 года от издания «Вестника промышленности» и «Акционера» отошел И. К. Бабст, получивший приглашение читать курс статистики Цесаревичу Николаю Александровичу и в числе других учителей сопровождать его в путешествии по России. Потеря такого знающего и дельного сотрудника была для редакции весьма ощутима.
С 1862 года издание «Вестника промышленности» прекратилось. Но Чижов все же не сложил с себя полностью редакторских полномочий и остался во главе реорганизованной им газеты «Акционер», в которой появились два новых отдела: «Обозрения русской промышленности» и «Торговая и промышленная хроника».
Глава восьмая
«ДЕНЬ»
С закрытием издаваемого Чижовым «Вестника промышленности» из славянофильских печатных органов в 1861 году продолжала выходить лишь еженедельная газета «День». Она стала преемницей журнала «Русская беседа», прекращенного в 1860 году на 2-й книжке. Оппозиционный характер публикаций «Дня» (газета выступала с резкими по тону статьями против засилья бюрократии, с требованиями созыва Земского собора, отмены смертной казни, в защиту свободы слова и печати) привел к тому, что в июне 1862 года ее издателю-редактору И. С. Аксакову по Высочайшему повелению была запрещена издательская деятельность. Непосредственным поводом к отстранению Аксакова от редактирования «Дня» стал его отказ назвать автора корреспонденции о положении православного духовенства в Виленской губернии.
Аксаков предложил Московскому цензурному комитету передать право на издание газеты Чижову, своему ближайшему единомышленнику. Но комитет не поддержал кандидатуру Федора Васильевича, о чем М. П. Щербинин известил министра народного просвещения А. В. Головнина 11 июня 1862 года: «Я считал бы себя не исполнившим священного долга совести, если бы не предупредил Ваше Высокопревосходительство, что, по мнению моему, заносчивый тон и вредное направление газеты „День“ нимало не изменится с передачею ее от Аксакова Чижову. Убеждение это основано на том, что издававшийся сим последним журнал „Вестник промышленности“ и газета „Акционер“, в редакции которой он участвует постоянно, отличались крайнею резкостью суждений и стремлением выставлять существующий порядок вещей в невыгодном свете. Таковое направление, вызывавшее неоднократно замечания Главного управления цензуры и обратившее однажды неудовольствие Государя Императора, не может, кажется, служить ручательством в том, что газета „День“, имеющая круг читателей гораздо обширнее, чем „Вестник промышленности“ или „Акционер“, и подлежащая, следовательно, условиям гораздо более исключительным и строгим, издавалась бы под редакцией г. Чижова вполне безукоризненно согласно цензурным требованиям».
Через три дня, 14 июня, препровождая в Петербург А. В. Головнину прошение Аксакова и Чижова о передаче Федору Васильевичу газеты «День», Щербинин вновь предупреждал: «…ненормальный порядок дела… продолжится и при новой редакции… Газета сохранит свое знамя, свое направление, и в ней изменится лишь имя редактора…»[383]
Увещания Щербинина возымели действие. Головнин не утвердил кандидатуру Чижова в качестве редактора «Дня». Узнав об этом решении и не будучи информирован о его мотивах, Чижов в письме к Головнину дал волю своему негодованию: «Вашему Высокопревосходительству угодно показать скорость и необдуманность общей нашей радости о том, что будто бы с уничтожением юридического существования крепостных отношений они уничтожились в понятиях и действиях нашего так называемого передового общества»[384].
Спустя месяц в ответ на письмо Головнина, разъясняющее причины, по которым деятелям славянофильства, «вредного направления, подрывающего государственные устои», было отказано в их ходатайстве, Чижов с вызовом декларировал незыблемость своих убеждений: «Если („Вестник промышленности“. — И. С.) был враждебен, то одному, враждебному России»; «Преданная вся безусловно России, газета „День“ твердо и безуступчиво стояла за сохранение коренных основ русской жизни от всякого вредного и чуждого ей влияния»; «…я всегда был самым искренним последователем того направления, которого органом была газета „День“ и которое Ваше Высокопревосходительство в Вашем письме официально принимаете за вредное направление… Насколько достанет слабых сил моих, я весь принадлежу и буду принадлежать этому направлению, кто бы и в какой бы степени ни считал его вредным»[385].
С 1 сентября 1862 года, после трехмесячного перерыва, «День» был возобновлен под редакцией Ю. Ф. Самарина. Он числился официальным редактором газеты до конца года. Стремление Юрия Федоровича «благоразумно вести газету» привело к тому, что «День» сильно обмельчал по своему содержанию и круг его читателей резко сузился (в первую половину 1862 года, до приостановки, газета была достаточно популярна в либерально-оппозиционных кругах и имела 4000 подписчиков при тираже более 7000 экземпляров).
4 октября 1862 года И. С. Аксакову было возвращено право редактировать «День», и он с начала следующего года попытался возродить интерес к газете, а заодно и упрочить ее материальную базу путем совместного издания «Дня» с чижовским «Акционером». В 1864 году в «Дне» был введен специальный экономический отдел под редакцией Чижова, необходимость в издании «Акционера» отпала, и он был упразднен.
Как и в пору самостоятельной издательско-редакторской деятельности, Чижов стремился привлечь к сотрудничеству с газетой «День» видных экономистов своего времени. Когда Самарин сообщил о своем намерении отправиться в Париж, Федор Васильевич попросил его исполнить следующее поручение: «Познакомьтесь, пожалуйста, с Порошиным (Виктор Степанович), он был когда-то профессором политической экономии в Петербурге, когда я был профессором математики. Он прислал в „День“ статью и обещает свое сотрудничество… Особенно он предлагает разбор иностранных книг о России. Дело бы очень хорошее, оживляющее газету; но я так давно с ним расстался, что не могу определить, может ли он по своим убеждениям быть сотрудником „Дня“. Человек он весьма чистый, но этого еще не достаточно»[386].
В 1864–1865 годах в экономическом отделе «Дня» было помещено большое число статей по вопросам финансов, промышленности и торговли. Прежде всего они касались ликвидации бездорожья, исправности и удобства путей сообщения, от которых зависели благоустроенность и процветание страны в целом.
Приняв эстафету от «Вестника промышленности» и «Акционера», «День» на своих страницах вновь и вновь возвращался к проблеме строительства железных дорог и не уставал доказывать, что в этом важном и нужном для России деле «лучшая надежда — на себя, прочнейшая опора — на силы собственной страны и собственных своих деятелей»[387]. Вместе с тем, по мнению «Дня», развитие железнодорожного транспорта вовсе не избавляло от необходимости рачительного отношения к сухопутным и водным путям сообщения, а, напротив, требовало «усиления и улучшения их… настойчивее и безотвязнее». Более того, попечение о надлежащем состоянии дорог следовало возвести на степень забот первостепенных, ибо нередка еще была на Руси постыдная практика, когда хлебу сознательно давали гнить из-за невозможности продать его: перевозка оказывалась намного дороже цены товара[388].
Но были и отрадные факты, говорящие о постепенном расширении внутреннего рынка. Так, Чижов сообщал, что «торговый мир прошлого (1864. — И. С.) года» явил событие «весьма утешительное… Это привоз хлопка из наших восточных пределов… Несколько лет тому назад мы делали только попытки привозить бухарский хлопок; теперь бухарский, персидский и вообще азиатский, во множестве названий, вместе с нашим дербентским, появился на нашем рынке сотнями тысяч пудов»[389].
Со времени принятия таможенного тарифа 1857 года русские предприниматели не переставали выражать свое недовольство разорительным для них ослаблением «заградительного барьера» и не оставляли надежд на его пересмотр. Рупором их протекционистских требований в 1864–1865 годах стала газета «День». В самом начале 1864 года Чижов поместил в ней статью своего старого киевского друга Н. А. Ригельмана «Об экономическом состоянии Юго-Западного края»[390]. Как и два десятилетия назад, Николай Аркадьевич продолжал сотрудничать со славянофильской прессой, заинтересованно читал «толковые статьи» в «Вестнике промышленности» и «Акционере» в пору их издания и теперь, в письмах к Чижову, требовал таких же дельных публикаций от «Дня», не уставая критиковать «поэтические увлечения» редактора газеты Аксакова.
В одной из пространных корреспонденций Ригельмана, опубликованных «Днем», он на конкретных примерах показывал, как понижение таможенных пошлин сказалось на состоянии малороссийской промышленности. «Еще не так давно, — писал он, — было время, когда даже достаточные люди носили у нас белье из русского холста, не говоря уже о постельном и столовом, которое было почти исключительно отечественного производства. Теперь русского холста нельзя увидеть даже на прислуге; в русских лавках нам предлагают не иначе как силезские полотна под названием „голландского“, немецкие скатерти и салфетки. Это следствие понижения тарифа. Какая польза в том, что мы имеем белье несколько тоньше и красивее, когда все наши полотняные фабрики прекратили производство и пустили по миру тысячи людей?»
Таким же разрушительным образом, продолжал Ригельман, тариф сказался на «шерстяной фабрикации» и свеклосахарном производстве. А все потому, что правительство пошло на поводу у петербургских фритредеров — книжного поколения «экономистов-пустоцветов», которые только и могут, что щеголять фразами, вычитанными в иностранных сочинениях, не имея понятия о действительных потребностях страны. «Нужна перемена во взгляде на нашу отечественную промышленность и на значение внутренней и внешней торговли», — заключал, подводя итог своим рассуждениям, автор[391].
Спустя несколько месяцев в двух номерах «Дня» была опубликована статья А. И. Кошелева «О нашем денежном кризисе», в которой также поднимался вопрос о пересмотре таможенного тарифа 1857 года[392]. На этот раз речь шла о необходимости принципиальных изменений в подходе к обсуждаемому вопросу. Предложения Кошелева были в русле традиционных славянофильских понятий о гласном, представительном обмене мнениями по проблемам, имеющим общенациональное значение. «Тариф, — настаивал Кошелев, — должен быть пересмотрен не бюрократически, не в тайне… Необходимо, чтобы это дело было совершено с участием если не всего земства, то, по крайней мере, представителей главных интересов страны»; в противном случае тариф будет обречен, что явится «таким ударом, который окончательно расстроит и даже убьет отечественную промышленность и торговлю».
Кошелев считал, что ситуацию могло спасти образование тарифной комиссии из тридцати — тридцати шести человек, на одну треть составленной из специалистов в области «науки государственного хозяйства» и служащих по финансовому ведомству, на одну треть — из фабрикантов и заводчиков и на одну треть — из торговцев и сельских хозяев. «Таким образом, — заверял славянофильский публицист, — <она> была бы представительницею всех главных интересов страны: промышленности, торговли и сельского хозяйства, и вместе с тем науки, службы и огромной массы потребителей. В этом случае новый тариф стал бы истинным благодеянием для Земли Русской»[393].
Идея, высказанная в статье Кошелева, полностью отвечала убеждениям и самого Чижова. С помощью предложенных мер он собирался добиться не только покровительства отечественной промышленности, но и создать прецедент участия русской буржуазии в управлении хозяйственной и политической жизнью страны. Вскоре, к немалому удовольствию Федора Васильевича, всем сомневающимся в способности русской буржуазии организоваться и занять активную позицию представился случай убедиться, сколь горячо «купечество наше принимает всякий вопрос, прямо относящийся к делу, как оно умеет вести обсуждение общественных вопросов»[394].
Летом 1864 года на рассмотрение русского правительства поступила записка о заключении торгово-таможенного договора между Германским таможенным союзом и Россией. Она была составлена постоянным Германским коммерческим съездом на основании пожеланий большей части прусского купечества относительно необходимости дальнейшего понижения таможенных пошлин; причем России в торговле с Германией отводилась роль аграрно-сырьевого придатка, рынка для сбыта продукции немецких промышленных предприятий.
Записка с самого начала была негативно воспринята в кругах высшей царской администрации, в частности директором Департамента внешней торговли князем Д. А. Оболенским, симпатизировавшим протекционистам. Но так как документ исходил из немецкой торгово-промышленной среды, то было решено, что обстоятельный ответ на нее дадут сами русские предприниматели. С этой целью Департамент внешней торговли разослал сокращенный перевод записки ряду биржевых комитетов страны, предлагая рассмотреть ее с точки зрения купечества. Такое, по словам Чижова, «довольно редкое внимание» весьма польстило самолюбию русских торговцев и промышленников, и они решили воспользоваться запиской Германского коммерческого съезда как поводом для развернутого обоснования необходимости скорейшего восстановления норм таможенных пошлин, существовавших до 1857 года[395].
Роль лидера в этом вопросе взял на себя Московский биржевой комитет. Его члены пригласили на одно из своих ближайших заседаний представителей «московского торгового люда» и обсудили с ними тактику ближайших действий. В итоге Биржевой комитет постановил созвать съезд русского купечества для более полного и компетентного рассмотрения вопросов, касающихся внешней торговли.
Первый купеческий съезд собрался в Москве 14 января 1865 года и стал явлением поистине беспрецедентным. На нем присутствовали 266 московских и иногородних фабрикантов и торговцев[396]. Характеризуя в обозрении «Ход нашей экономической жизни» работу съезда, Чижов с удовлетворением отмечал: «По началу можно надеяться, что обсуждение торговых и промышленных вопросов пойдет цельно и обстоятельно. Очень хотели бы мы, чтобы здесь купечество показало себя сословием, хорошо знающим свое дело, умеющим сосредоточить все свое внимание на нем одном и прямо, практически идти к заданной… цели»[397].
Для руководства купеческими съездами, которые отныне предполагалось созывать регулярно, была избрана постоянная депутация из двадцати человек. В ее состав вошли, наряду с предпринимателями, Чижов и Бабст. Помимо решения организационных вопросов, депутация должна была ответить на записку прусских промышленников, «основываясь на положительных данных и никак не впадая во враждебность взглядов»[398].
Пока шла работа над составлением обстоятельного и аргументированного ответа, Чижов продолжал публиковать в «Дне» статьи в защиту отечественной промышленности. Их авторами в большинстве своем были сами предприниматели, чье дело несло убытки от иностранной конкуренции. Так, в одном из номеров газеты Чижов поместил «Мнение русского сельского хозяина по поводу германской записки» за подписью Н. П. Шишкова — председателя Лебедянского общества сельского хозяйства, в работе которого принимали участие славянофилы А. И. Кошелев, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин. В своей статье известный помещик и агроном полемизировал с утверждениями прусских промышленников о том, будто бы таможенным покровительством было допущено «ошибочное увлечение в затрате капиталов на устройство фабрик и заводов» вместо того, чтобы «употребить их на рациональное усовершенствование земледелия и обработку льна и пеньки». «Тут, — доказывал Шишков, — видно явное своекорыстие, и очень понятно, что Германия желает сколько возможно более свозить в Россию своих произведений».
Весь пафос заключительного раздела статьи был направлен на обоснование необходимости сохранения запретительной пошлины на привозной рафинированный сахар. Понизив по просьбе немцев тариф, правительство способствовало бы снижению добычи «туземного сахара» и разорению русских сахарозаводчиков. «Свеклосахарное производство окрепло, укоренилось в России, оно не требует особого… покровительства или опеки; оно просит только оставить его в покое, не стесняя его»[399].
В апреле 1865 года в газете было помешено письмо некоего безымянного фабриканта из Серпухова. Корреспондент извещал редакцию о званом обеде, устроенном экономистами-фритредерами в модном петербургском ресторане у Демута, и о происходивших там прениях на тему: «Удобно ли настоящее время для понижения таможенных пошлин?» «Большинство трапезников, — сообщал „Фабрикант“, — высказалось за немедленное понижение пошлин, и особенно сильно в фритредерском духе говорили некоторые довольно значительные лица», покровительствующие теоретикам свободной торговли.
Особенно обеспокоили предпринимателя последствия «невинного обеда». Сообщения о прозвучавших на нем застольных речах разошлись по страницам многих петербургских, московских и иностранных журналов и газет, что «сильно встревожило наш мануфактурный округ. Прочтя имена сотрапезников, промышленный люд с полным правом может задуматься и приостановить свои заказы. Рисковать никому не хочется». Пока, писал аноним, судьбы русской промышленности решаются «на обеде у Демута», предприниматели так и останутся «неспрошенными», а их письменные обращения к власть имущим будут продолжать желтеть в правительственных архивах «без употребления»[400].
Спустя неделю «фритредер самой чистой воды из русских» Е. И. Ламанский выступил в «Биржевых ведомостях» с резкой критикой «Дня» и его серпуховского корреспондента, так что Чижов счел нужным напечатать свои разъяснения. То, что сообщения о возможности перемен к худшему в таможенной политике России встревожили «Фабриканта» и заставили его взяться за перо, он счел неудивительным — ведь этот вопрос обсуждался членами высшей администрации и известными экономистами на обеде, носившем оттенок официальности. Изложенная в письме в газету точка зрения, которую редакция не могла проигнорировать, представляла мнение большинства русских товаропроизводителей по весьма близкому всем им делу. Чижов напрочь отметал наветы оппонентов, будто повышение пошлин — это грабеж народа, и отстаивал необходимость временного возврата к протекционистской таможенной политике — неотъемлемой составляющей развития отечественной промышленности и поддержания на должном уровне занятости населения[401].
Примерно в то же самое время Государю Императору было подано прошение от имени сотен рабочих ткацкой фабрики И. Бутикова (только их подписи заняли 55 страниц!). Акция, несомненно, была инспирирована самими купцами и промышленниками, стремившимися воздействовать на правительство с разных сторон. В прошении, в частности, говорилось: «До нас… достигла весть о заключении немецкого договора о привозе из-за границы товаров беспошлинно или с понижением пошлин, отчего наши младенчествующие фабрики, заводы и ремесла должны пасть невозвратно от наводнения европейских товаров, и оттого миллионы русского народа с нашими семьями останутся без пропитания»[402].
«Мнение постоянной депутации московских купеческих съездов» по поводу германской записки вышло в свет в самом конце 1865 года[403]. Основная заслуга в написании и редактировании этого солидного по объему тома принадлежала Чижову и Бабсту. Иваном Кондратьевичем было написано обширное вступление, тогда как Федор Васильевич подготовил значительную часть разделов, в том числе раздел о свеклосахарном производстве. С помощью этой книги Департамент внешней торговли сумел найти веские аргументы для отклонения предложения Германского таможенного союза о предоставлении ему права свободной торговли с Россией.
Однако до полной победы протекционистов над фритредерами было еще далеко. И значительное место в борьбе с «теоретически верной, но практически пока недостижимой» идеей свободной торговли Чижов и его окружение продолжали отводить прессе.
Глава девятая
«МОСКВА» И «МОСКВИЧ»
Хотя в 1864–1865 годах газета «День» была весьма популярна у представителей деловых кругов, ее финансовые дела были на грани краха. Со времени возобновления издания в 1862 году Ивану Сергеевичу Аксакову так и не удалось поднять ее тираж. «Дела мои по „Дню“ довольно плохи, — сообщал он летом 1864 года Ю. Ф. Самарину. — Число подписчиков в нынешнем году то же, что и в 1863 году, то есть 2400, но этого мало, это только что покрывает расход печатания… и требует необыкновенной экономии, даже скупости в уплате гонорария… „День“ приносит 17 тысяч рублей доходу, а расходу с лишком 17 тысяч… Благоразумнее было бы отказаться от этой разорительной деятельности, но я решаюсь попытаться еще»[404].
В 1865 году материальное положение «Дня» еще более ухудшилось, долги по изданию газеты возросли до 10 тысяч рублей, и в конце года было принято решение о ее закрытии. Немаловажную роль в прекращении «Дня» сыграл также переезд Ивана Сергеевича Аксакова в Абрамцево в связи с женитьбой на фрейлине Высочайшего Двора Анне Федоровне Тютчевой, дочери великого поэта.
В самом начале 1866 года насущная потребность в оперативном источнике торгово-промышленной информации заставила группу крупных московских предпринимателей — Т. С. Морозова, И. А. Лямина и К. Т. Солдатенкова — обратиться к пользовавшемуся их безграничным доверием Чижову с просьбой о начале издания нового печатного органа — политико-экономической еженедельной газеты. Для этой цели купцы собрали между собой капитал в 300 тысяч рублей и поручили Федору Васильевичу решить все организационно-издательские вопросы.
Первым делом к работе в газете Чижов постарался привлечь испытанного сотрудника И. К. Бабста. Находясь на лечении в Петербурге, он адресовал Ивану Кондратьевичу в Москву письма, полные веры в успех организуемого им дела: «Минута самая благоприятная для начинания новой газеты. По части торговли, промышленности и, может быть, финансов я здесь найду сотрудников. Мы с Вами поведем эту сторону газеты так, что едва ли легко будет конкурировать»[405].
Редактором, по общему мнению, должен был стать И. С. Аксаков. Его бесспорный талант публициста, независимость суждений, общественный авторитет, а также давняя — с 1858 года — связь с представителями московского торгово-промышленного мира импонировали отцам-основателям новой газеты.
Убедить Аксакова вернуться к журналистской деятельности взялся Чижов. Он не сомневался, что в своей основе взгляды Ивана Сергеевича как нельзя лучше соответствуют направлению задуманного купцами издания. Вместе с тем его настораживала способность Аксакова увлекаться отвлеченными вопросами, которые имели в глазах торговцев и промышленников второстепенное значение.
На правах старшего по возрасту, «славянофила с большим стажем», Чижов в довольно резкой форме писал, обращаясь к Аксакову: «„День“ был памятью о славянофильстве, еженедельными поминками славянофильства, но никак не чисто славянофильским органом… потому что самое славянофильство было не выработано в Вас самих… Вы, чувствуя и сознавая высоту, чистоту и небесное происхождение его начал, покорились ему»; но «идеал Ваш, когда касался подробностей, был всегда туманен, неопределен»; «Теперь вопросов бездна, — все требуют обсуждения, доброго и чистого совета… положительных указаний пути»; «я на Вас сержусь за то, что, имея впереди такое поприще, Вы слагаете оружие во имя семейного комфорта жизни… Подла, мерзка и отвратительна семейная жизнь, если она в минуту самой сильной брани и битвы со злом отнимает… оружие и убаюкивает мирными наслаждениями… Встрепенитесь, мой милый и дорогой Иван Сергеевич»; «Как хотите, а Вам быть хозяином то же, что мне быть женатым человеком, — напрасно Вы придумываете то тот, то другой род хозяйской деятельности. Вы — литератор, литератором себя сформировали, — трудно теперь себя переламывать и переделывать. Ради Бога, не предпринимайте никакой хозяйственной деятельности… Вам быть редактором — значит служить России верою и правдою».
Предостерегая друга от излишней увлеченности игрой в оппозиционность, вредящей делу, Чижов указывал на главную задачу — безупречное ведение внешней стороны издания газеты. «Извольте-ка, — писал он в наставительном тоне, — подробно обдумать весь порядок и весь ход издания, и весь штат, и все инструкции служащим. Иначе все пойдет вверх ногами». Тем более что за финансовую, торговую и промышленную часть можно не беспокоиться: «Мы с Бабстом сладим, — не сами, а с помощниками». Лишь бы Аксаков, не откладывая, провел личные переговоры с учредителями газеты о деталях проекта. «Купцы, как ни чувствуют необходимость органа, не в состоянии приняться за это: я их знаю. Перепискою действовать на них нельзя»[406].
Возможность оставить за новым периодическим изданием название «День» Чижов отвергал категорически: «Со стороны газеты соображения те, что с „Днем“ не привыкли соединять правильной и неизменной положительности… Пусть „День“ покончит „Днем“»[407].
Аксакова долго упрашивать не пришлось. Он продолжал испытывать серьезные денежные затруднения — сказывались последствия убыточного для него издания «Дня». Иван Сергеевич оговорил лишь одно условие: вознаграждение за его труд не должно зависеть от успеха газеты. Пожелание же усилить в газете «элемент положительный, а не критический и отрицательный только», не встретило каких-либо возражений. Но для этого, подчеркивал Аксаков, надо «вести дело артельно, а не одиноко»[408]. И все же его больно задела нелестная оценка, данная Чижовым «Дню», и Федору Васильевичу пришлось сглаживать резкость своих замечаний целым рядом примирительных писем. В них он униженно и смиренно просил прощения за свою «неуместную горячность»: «Если бы я не чтил „Дня“, — уверял Чижов, — не желал бы я… чтобы Вы были редактором органа весьма важного. Если я позволил себе бранить „День“, то не иначе как потому, что глубоко уважаю Вашу деятельность»[409].
В мае Аксаков по просьбе Чижова переговорил с Бабстом, а спустя четыре месяца, 9 октября, на квартире Т. С. Морозова между московскими купцами, финансировавшими издание, и Аксаковым были подписаны условия взаимного соглашения. «Все их требования, — сообщал Аксаков Ю. Ф. Самарину, — заключались в том, чтобы из 24-х столбцов газеты не менее двух было посвящено торговым корреспонденциям, чтоб, по крайней мере, один раз в неделю была передовая статья по вопросам промышленным и финансовым, написанная Чижовым или Бабстом, чтоб отдел экономический был под ответственность Чижова и Бабста, чтобы я в каждом № давал место торговым телеграммам… Газета будет называться „Москва“. Название это выбрано ими самими»[410].
21 октября 1866 года издание «Москвы» было официально разрешено, и уже 15 декабря на совещании с участием И. С. Аксакова, Ф. В. Чижова, И. К. Бабста, Т. С. Морозова и И. А. Лямина был рассмотрен сигнальный номер газеты. Собравшиеся, включая присоединившихся к ним К. Т. Солдатенкова и П. А. Малютина, составили своеобразный «редакционный совет», призванный решать все текущие вопросы.
Первый номер «Москвы» вышел из печати 1 января 1867 года. Газета состояла из следующих постоянных отделов: «Правительственные распоряжения», «Телеграммы политические и торговые», «Москва» (под этой рубрикой публиковались передовые статьи), «Областной отдел» (в нем в основном помешалась торгово-промышленная информация в виде корреспонденций из разных губерний России), «Экономический отдел», «Славянский и иностранный отдел», «Объявления». В газете регулярно печатались вексельные курсы, биржевые цены на иностранные и отечественные товары, цены акций и облигаций, объявления банков, железных дорог, Московского биржевого комитета.
К сотрудничеству в новом издании был привлечен ряд видных русских ученых и журналистов. Наиболее представительным оказался экономический отдел. По своей информированности и точности сведений он выделялся среди схожих отделов других русских периодических изданий того времени и во многом определял лицо газеты. В нем работали известные экономисты: А. К. Корсак, В. Г. Иткин, П. И. Андреев, С. А. Умнов, А. И. Чупров, И. П. Погребов.
Чижов совместно с Бабстом осуществлял общее руководство отделом, и потому собственные статьи помещал в «Москве» относительно редко. В дневнике он перечислил все свои публикации за период с 1 января до 1 ноября 1867 года. В 168 номерах газеты было напечатано всего восемнадцать его статей, в том числе четырнадцать передовых. Из остальных четырех одна оказалась «переделкой» статьи о торговом флоте близкого к славянофилам латышского публициста К. М. Вольдемара, а три другие представляли по сути дела одну, публиковавшуюся с продолжением: статья была посвящена вопросу выплаты вознаграждения пассажирам, пострадавшим от несчастных случаев на железных дорогах.
Еще в сентябре 1865 года, перед самым закрытием газеты «День», на всю столичную прессу распространились «Временные правила» о печати, освобождавшие ее от предварительной цензуры. Новое цензурное установление было воспринято Аксаковым и Чижовым восторженно, как давно ожидаемое событие. «Наконец-то!» — ликовал Аксаков[411]. А Чижов вздыхал, обращаясь к Бабсту: «Эх, мой милейший Иван Кондратьевич, нет у нас с Вами газеты, когда слово развязано»[412].
Более дальновидно и трезво отнесся к новому правилу о цензуре А. В. Никитенко. 16 мая 1865 года он сделал в своем дневнике запись, в которой утверждал, что закон от 6 апреля 1865 года, вступающий в действие в сентябре, отдает министру внутренних дел П. А. Валуеву «в полное распоряжение всякое печатное проявление мысли… Цензора нет. Но взамен его над головами писателей и редакторов повешен Дамоклов меч в виде двух предостережений и третьего, за которым следует приостановка издания. Меч этот находится в руке министра, он опускает его, когда ему заблагорассудится, и даже не обязан мотивировать свой поступок. Итак, это чистейший произвол…»[413].
В справедливости этих слов Аксакову и Чижову предстояло убедиться вскоре. Их газета «Москва» стала одной из самых многострадальных русских газет XIX века. За время своего издания — с 1 января 1867 года по 21 октября 1868 года — она получила девять предостережений и трижды приостанавливалась (с 28 марта 1867 года — на три месяца, со 2 декабря 1867 года — на четыре месяца, 21 октября 1868 года состоялось закрытие газеты на шесть месяцев, после чего она больше не возобновлялась). С 23 декабря 1867 года по 18 февраля 1868 года вместо приостановленной на время «Москвы» издавалась газета «Москвич». 13 февраля 1868 года по предложению П. А. Валуева Комитет министров постановил закрыть «Москвич» как орган совершенно тождественный «Москве», причем без предусмотренного законом предварительного объявления издателю-редактору газеты трех предостережений. Решение Комитета министров было Высочайше утверждено Императором.
Репрессии со стороны правительства и цензуры в основном были спровоцированы фрондерскими статьями Аксакова, в большинстве своем не представлявшими для купцов — учредителей газеты практического интереса. Учитывая важность обсуждаемых на страницах «Москвы» экономических проблем, Чижов всячески пытался сдерживать страстный публицистический темперамент Аксакова, обрушивавшийся с полными сарказма и раздражительности статьями то на министра внутренних дел П. А. Валуева, то на петербургскую газету «Весть» — орган дворянско-крепостнической оппозиции реформам 60-х годов, то на администрацию остзейских губерний, потворствующую немецкому дворянству в деле германизации прибалтийских народов. Так, Чижов писал Аксакову после очередного его конфликта с Валуевым: «Все, желающие продолжения Вашей газеты, спрашивают одного: хотите ли Вы серьезно смотреть на нее как на общественную и почтенную деятельность, или, увлекаясь просто личными отношениями, хотите потешить себя перебранкою с Валуевым? В последнем случае Вы его укусите, это правда, — этим нанесете <ему> минутную неприятность, — но все-таки газеты не будет… Вы действуете по минутному настроению… вместо того, чтобы смотреть на газету как на гражданский подвиг…»[414]
Защищаясь, Аксаков пытался упрекнуть самого Чижова в неосторожности. «Я на днях смягчил ваши поправки на статью Корсака, чтоб не навлечь предупреждения», — не без ехидства парировал он в ответном письме[415].
И действительно, подобного рода нападки в адрес «осмотрительного» Чижова имели под собой основание: второе предостережение в ноябре 1867 года «Москва» получила именно из-за статьи Федора Васильевича по экономическому вопросу[416]. В ней, в частности, внимание цензуры привлек нелестный отзыв на обнародованную докладную записку министра финансов М. X. Рейтерна по поводу пересмотра тарифа 1857 года. «На такое — писал Чижов, — мог решиться только недруг, только люди, намеренно желающие подорвать материальные средства нашего отечества, или люди, решительно ничего не понимающие, совершенно чуждые интересам народа и совершенно не знающие его нужд»[417].
Совет Главного управления цензуры, ознакомившись на своем заседании с текстом статьи, вынес заключение, что она колеблет «авторитет распоряжений высшего правительства» и способствует возбуждению беспокойства в обществе[418].
Кроме того, «на вид» Чижову можно было поставить передовую статью «Москвы» от 5 сентября 1868 года. В ней речь шла об отклонении земским собранием и Министерством внутренних дел проекта строительства земской Тамбовско-Саратовской железной дороги. Чижов утверждал, что принятое решение явилось следствием давления со стороны «некоторых влиятельных крупноземельных уроженцев Оренбургского и Самарского края, покровительствующих Маршанско-Самарскому пути с продолжением его на Оренбург». Один из членов совета Главного управления цензуры Ф. П. Еленев, более известный широкой публике в качестве правительственного публициста, писавшего под псевдонимом Скалдин, усмотрел в этом «двусмысленные, но тем не менее весьма понятные намеки на то, что будто концессии на железные дороги получаются разными темными путями при содействии влиятельных и с громкими именами лиц, явно или скрыто участвующих в железнодорожных предприятиях… Эта статья, вместе с рядом резких нападок той же газеты на администрацию Северо-Западного края, показывает… что означенная газета по-прежнему не упускает случая бросить невыгодную тень на различные части государственного управления и высшие правительственные лица», а потому, считал цензор, «представлялось бы уместным в случае, если газета „Москва“ дальнейшим продолжением направления в сказанном духе вызовет третье предостережение, указать в нем и на эту статью». Совет Главного управления по делам печати согласился с предложением Ф. П. Еленева[419].
Тем не менее, несмотря на репрессии со стороны цензуры, главная задача, поставленная перед «Москвой» ее хозяевами-купцами, — пропаганда идей протекционизма накануне пересмотра тарифа 1868 года — находила на страницах газеты свое последовательное воплощение. «В вопросах торговой политики мы прямо и открыто говорим, что стоим за разумное ограждение нашей промышленности, — говорилось в программной передовой статье первого номера „Москвы“ от 1 января 1867 года. — Лучше несколько обождать, лучше подвигаться осторожнее и медленнее по пути свободной торговли, дабы тем прочнее приблизиться к этому идеалу международных сношений, если только его достижение не относится к числу таких же прекрасных мечтаний, как всеобщий мир и тому подобные утопии»[420].
Свои доводы в пользу необходимости введения покровительственных таможенных тарифов редакция газеты обосновывала ссылкой на авторитет классика буржуазной политэкономии Дэвида Рикардо: «Цель всякой охранительной пошлины… должна стремиться к тому, чтобы цена иностранного товара на нашем внутреннем рынке возвысилась до цены, в которую обходится на нашем же рынке тот же товар внутреннего производства». Таким образом, делала вывод «Москва», «охранительные пошлины должны стремиться к тому, чтобы дать возможность состязаться на рынке двум однородным промышленностям, но работающим при совершенно неравных условиях. Когда один народ сравнительно с другим беднее капиталами, механическими средствами, хорошими опытными рабочими, окружен множеством неблагоприятных, но устранимых условий, то ему можно легко помочь покровительством народному труду. Так везде делалось, делается везде и теперь, и нигде еще в Европе этого не отвергают. Единственный вопрос, который может здесь возникнуть, — это вопрос о размерах покровительства»[421].
Начало выхода в свет газеты «Москва» совпало с приездом в Петербург фритредера с мировым именем — бельгийского профессора политэкономии Густава Молинари. В своей речи на данном в его честь обеде он под одобрительные возгласы петербургских экономистов В. П. Безобразова, В. И. Вешнякова, Е. И. Ламанского и товарища министра финансов С. А. Грейта высказался в пользу свободной торговли и призвал к ликвидации таможен.
Почти в это же время, 11 февраля 1867 года, в Купеческом клубе Петербурга состоялся очередной купеческий съезд. На повестке дня стоял вопрос о благоприятных для русской промышленности тарифах. Присутствовавший на съезде агент Третьего отделения сообщал: «Направление это развивал более всех Чижов, который в резких и сильных выражениях доказывал неудобства понижения пошлин с привозных товаров, выставляя, будто это понижение не есть плод разумных начал политической экономии, а частная мысль нескольких влиятельных лиц. Речь эта вызвала сильное одобрение присутствующих»[422].
Взаимоисключающее противоборство взглядов фритредеров и протекционистов закономерно переносилось на страницы печати. Наиболее острая газетная дискуссия разгорелась вокруг размера пошлин на ввозимые в Россию текстильные и прежде всего хлопчатобумажные изделия. Центральная пресса едва ли не единым фронтом доказывала, что русские фабриканты с помощью запретительных таможенных пошлин наживают себе огромные барыши. Возмущенные владельцы бумагопрядилен Московского промышленного района пытались убедить общественное мнение в необходимости ограждения русского хлопчатобумажного производства от иностранной конкуренции ввиду его высокой себестоимости. Их интересы последовательно отстаивали газеты «Москва» и «Москвич», публиковавшие пространные расчеты, призванные убедить соотечественников в голословности обвинений противников[423].
Наряду с этим в «Москве» и «Москвиче» широко обсуждался и ряд других вопросов промышленного развития России, в той или иной мере связанных с тарифно-таможенной политикой правительства. Так, в конце 1867 года в двух номерах газеты «Москвич» была опубликована «Записка о необходимости поддержать машиностроение в России». Делая экскурс в историю, ее автор обращался к принятому в 1822 году правительством Александра I тарифу, по которому «до настоящего времени машины и аппараты всякого рода, употребляемые в земледельческой, фабричной и заводской промышленности, <а> также пароходы и паровозы были допущены к привозу беспошлинно». Благодаря этой льготе (в целом тариф 1822 года был запретительным) русские промышленные предприятия смогли «запастись наилучшими механизмами» и к середине 1860-х годов оказались обеспечены гораздо более совершенными в техническом отношении машинами, нежели многие заграничные фабрики.
Но нет добра без худа, как и наоборот. Удовлетворив с помощью беспошлинного ввоза первоначальную потребность страны в машинах и механизмах, экономика России вместе с тем попала в полную зависимость от иностранной конъюнктуры. «Последняя прусская война, — говорилось в „Записке“, — отвлекши в армию работников от прусских механических заводов, поставила эти последние в невозможность своевременно исполнить заказы Главного общества российских железных дорог… Будь у нас дома возможность исполнять все заказы Общества, выше приведенная случайность не могла бы иметь места…»
В качестве выхода из создавшегося положения автор статьи предлагал установить на двадцатилетний срок умеренноохранительную пошлину на импортируемые в Россию машины в размере 15 % от их стоимости за границей. В течение этого времени «наши заводы могли заручиться заказами, образовать для себя мастеров, ввести между собою разделение работ и покрыть некоторую часть своих основных расходов»[424].
К теме отечественного машиностроения газета вернулась меньше чем через месяц — в передовой статье от 10 января 1868 года. В ней отстаивалась необходимость выпуска собственных локомотивов в связи с растущими потребностями парового рельсового транспорта. Защитники либеральных тарифов доказывали, что с помощью беспошлинного ввоза из-за границы подвижного состава облегчается первоначальное устройство новых железных дорог. Им оппонировали протекционисты, ссылаясь на последствия порочной практики, когда русские железнодорожные акционерные общества ежегодно вынуждены непроизводительно затрачивать сотни тысяч рублей на ремонт закупленных за рубежом локомотивов и вагонов. «Грустно становится при мысли, — писал по этому поводу „Москвич“, — что мы нашею системою концессий создаем для ловких предпринимателей в короткое время миллионные состояния, своими заказами даем такие же состояния заграничным заводчикам, оживляем там целые провинции, вызываем к жизни целые производства с громадными заводами и тысячами рабочих, — и в то же время считаем, на сколько рублей дороже, и то на первое время, обойдется у нас постройка локомотивов для нашей железной дороги»[425].
В 1867 году для составления проекта нового таможенного тарифа в Петербурге была создана комиссия под председательством товарища министра финансов Г. П. Небольсина. Накануне начала ее работы «Москва» выразила солидарность с предложенным три года назад в газете «День» обязательным принципом пересмотра действующего тарифа 1857 года, который сводился к прямому участию в обсуждениях купцов-предпринимателей, и предостерегала от повторения фарса десятилетней давности с формальным привлечением депутации от торгово-промышленных кругов. «Архив департамента мануфактур и внутренней торговли завален мнениями русских промышленных людей о нуждах промышленности, торговли и кредита, — сообщала газета, — мы лично знаем, сколько их хранится в московском отделении мануфактурного совета, сложенных после того лестного приема, который они испытали в знаменитом тарифном комитете (1857 года. — И. С.), столь „зорко“ приглядывавшемся к нуждам и столь „чутко“ прислушивавшемся к голосам отечественной промышленности»[426].
Учитывая критику, «Небольсинская комиссия» была образована как из членов, назначенных правительством, так и из депутатов, избранных отделениями мануфактурного и коммерческого совета и мануфактурных комитетов. Кроме того, было решено каждую статью тарифа передавать сначала на обсуждение особой экспертной комиссии, которая, выслушав и обсудив все мнения, составляла доклад для Главной комиссии, и уже та, вновь взвесив все доводы «за» и «против», принимала окончательное решение относительно размера пошлины.
«Чего бы, казалось, лучше?.. — восклицал по этому поводу „Москвич“. — От пересмотра тарифа тем путем, как это было предначертано г. министром финансов, можно было ожидать весьма благоприятных результатов, но…» И тут выяснялось, что заседания под началом Небольсина нередко превращались в «беспрерывные и печальные по своему характеру столкновения», действия комиссии и ее приемы резко шли наперекор предпринимательскому элементу, в ходе прений выказывалось полное невнимание к доводам купцов, с благодарностью принявших вызов в Петербург[427].
В споре с протекционистами фритредеры явно одерживали верх. Причину этого редакция газеты усматривала в тенденциозном подходе к формированию состава комиссии. Дело в том, что купечество оказалось в ней в явном меньшинстве, а подавляющее «большинство членов… очевидно гнет к понижению тарифа и, по-видимому, заранее твердо уверено в успехе своего дела»[428].
Общая оценка результатов деятельности «Небольсинской комиссии» была дана в передовой статье «Москвы» от 14 апреля 1868 года: «Ни началом своих заседаний, ни окончанием своих работ комиссия не удовлетворила желаниям наших промышленных людей»[429].
Однако поражение при разработке нового таможенного тарифа не обескуражило протекционистов. Представители крупной московской буржуазии сумели добиться аудиенции у председателя Департамента экономии Государственного совета К. В. Чевкина, которому вскоре предстояло возглавить Временный департамент Государственного совета — подразделение, специально созданное для дальнейшего рассмотрения тарифа.
Большое значение для перелома ситуации к лучшему имело и то, что в состав Временного департамента был включен Великий князь Александр Александрович, ставший в 1865 году после смерти своего старшего брата Николая Наследником Престола. Александр Александрович был известен своими протекционистскими убеждениями, сформировавшимися не без участия Ивана Кондратьевича Бабста (в 1866 году он сопровождал Цесаревича в его путешествии по России)[430]. Во многом благодаря Бабсту московские торговопромышленники получили поддержку будущего Царя: чтобы узнать их конкретные пожелания, касающиеся нового тарифа, Александр Александрович по совету своего наставника принял две их депутации[431]. В результате Временный департамент, учитывая мнение Наследника, счел необходимым по 65 (!) статьям «увеличить проектированные пошлины, отчасти в видах усиления покровительства туземной промышленности»[432].
5 июля 1868 года проект нового тарифа был одобрен Государственным советом и с 1 января следующего года введен в действие. В целом он по своему характеру оказался более покровительственным, чем предшествующие ему умеренно-охранительные тарифы 1850 и 1857 годов. В этом отчасти была заслуга газеты «Москва» — главного печатного органа протекционистов. Отдавая ему должное, петербургская газета «Деятельность» 13 ноября 1869 года писала: «В свое кратковременное существование „Москва“ успела заявить нужды нашего купечества и немало способствовала благоприятному разрешению тарифного вопроса; следовательно, главная цель ее основания была достигнута, пайщики удовлетворены»[433].
С помощью тарифа 1868 года русская текстильная промышленность заняла монопольное положение на внутреннем рынке. Однако пошлины на ввозимый в Россию железнодорожный подвижной состав были введены лишь в 1877 году, то есть тогда, когда наиболее отчетливо начала вырисовываться жесткая протекционистская направленность генеральной линии правительственной таможенной политики.
Тот же 1877 год был знаменателен еще и тем, что наконец осуществился перевод платежей таможенных пошлин в золотую валюту, что фактически повышало пошлинные оклады на 40–50 % по тогдашнему курсу и влекло за собой приток золота в казну. Чижов к этому времени приобрел в высших сферах царской администрации авторитет дельного советчика в разрешении государственных финансово-промышленных затруднений. Узнав от председателя Департамента экономии А. А. Абазы о решении правительства приступить к взиманию таможенных пошлин золотом, он целиком и полностью поддержал этот шаг: «Эта мера будет весьма сочувственно принята <промышленниками>. Тут будет значительное повышение пошлин, и при нашем беспрестанно увеличивающемся не государственном, а общественном долге, происходящем от преизобилия ввоза над вывозом товаров, мера благоразумная»[434].
Необходимость временного перехода России к протекционизму признавалась многими экономистами того времени, в том числе и самого «левого», радикального толка. Так, Ф. Энгельс писал в 1892 году Н. Ф. Даниельсону: «С 1861 года в России начинается развитие современной промышленности в масштабе, достойном великого народа. Давно уже созрело убеждение, что ни одна страна в настоящее время не может занимать подобающего ей места среди цивилизованных наций, если она не обладает машинной промышленностью, использующей паровые двигатели, и сама не удовлетворяет — хотя бы в значительной части — современную потребность в промышленных товарах. Исходя из этого убеждения, Россия и начала действовать, причем действовала с большой энергией. То, что она оградила себя стеной протекционистских пошлин, вполне естественно, ибо конкуренция Англии принудила к такой политике почти все крупные страны; даже Германия, где крупная промышленность[435] успешно развивалась при почти полной свободе торговли, присоединилась к общему хору и перешла в лагерь протекционистов только для того, чтобы ускорить тот процесс, который Бисмарк называл „выращиванием миллионеров“. А если Германия вступила на этот путь даже без всякой необходимости, кто может порицать Россию за то, что для нее было необходимостью, как только определилось новое направление промышленного развития?»[436]
После закрытия «Москвы» Чижов отошел от активной журналистской деятельности. Славянофильская газета «Русь» под редакцией И. С. Аксакова начнет выходить только после смерти Чижова, а сотрудничать с существовавшими в конце 1860-х и в 1870-е годы петербургскими и московскими периодическими изданиями Чижов не хотел. В письме к другу своей юности В. С. Печерину, жившему в то время в Ирландии, он признавался: «Не хочется участвовать в наших больших журналах: с одними не схожусь по убеждению, именно по их космополитизму, с другими — по их безубеждению»[437].
Правда, когда в конце 1876 года появились разговоры о намерении Аксакова приступить к изданию еженедельной газеты («род журнала»), Чижов воодушевился: «Если Иван Сергеевич Аксаков будет издавать газету, я непременно должен в ней участвовать, и надобно будет участвовать постоянно. Я думал бы тогда писать передовые статьи о железных дорогах и о финансах… о банках всех родов и об общих собраниях акционерных обществ… Я посоветовал бы иметь во всех странах корреспондентов, передающих движение политическое, движение мысли и вообще следящих за современностью. Тут я мечу в Англии на Печерина, во Франции можно иметь русского, в Германии тоже, а в Италию, может быть, и я съездил бы. В славянских странах… можно иметь из туземцев, или тоже из русских. Одним словом, Иван Сергеевич такую газету может вести мастерски…»[438]
К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. 2 августа 1877 года Аксаков подал прошение в Главное управление по делам печати о разрешении ему с ноября 1877 года возобновить издание еженедельной газеты «День» без предварительной цензуры. Ответом Аксакову стало личное распоряжение Александра II: в ходатайстве отказать[439].
Глава десятая
«ГРЕХ СЛАВЯНОФИЛОВ»
Несмотря на смену эпох, связанную с кончиной Государя Николая Павловича и вступлением на престол Царя-Освободителя Александра Николаевича, при Дворе к славянофилам и славянофильству продолжали относиться с недоверием, критически. Ключ к разгадке этого на первый взгляд необъяснимого факта можно найти в рукописи мемуаров «Из семейных воспоминаний» близкой к славянофилам Марии Сергеевны Мухановой — двоюродной сестры А. С. Хомякова. Александр II, познакомившись с содержанием ее записок, оставил на полях свои карандашные пометки. Муханова переслала тетрадь с замечаниями Императора Чижову, и он привел в своем дневнике «самые любопытные из них, именно о славянофилах»:
«В рукописи: „Благодаря так называемым славянофилам (подчеркнуто Государем) мы многое узнали о своем народе и начали его любить как следует…“
Отметка Государя: „Это несправедливо, ибо прежде славянофилов многие знали и любили Россию, разумнее односторонних славянофилов“.
В рукописи: „С этих пор становится стыдно не любить России, и высший петербургский круг, еще державшийся за так называемый европеизм, представляется как бы болезненным наростом на здоровом теле России“.
Отметка Государя: „Нахожу это несправедливым и также односторонним взглядом москвичей“.
В рукописи: „Славянофильство никогда не враждовало ни к науке, ни к иностранным языкам…“
Отметка Царя: „Но бранило и бросало грязью в Петра Великого“.
В рукописи: „Славяне только хотели, чтоб мы поняли русский народ, чтоб мы узнали его великое настоящее и прошедшее“.
Отметка Царя: „Было бы прекрасно, если бы они только этого хотели, но это, к сожалению, не так“.
…Много вообще заметок, но для меня эти — важнейшие…»[440]
В своих маргиналиях Александр II не уточнил, чего же на самом деле хотели славянофилы, какие, с его точки зрения, крамольные замыслы они вынашивали. Да и странно, на первый взгляд, его предубеждение к «москвичам», ведь во многом эпоха буржуазных реформ в России 1860–1870-х годов была воплощением их долгожданных чаяний и надежд. И тому есть немало свидетельств в дневнике и переписке нашего героя. Как, впрочем, и его «весьма крамольных мыслей».
В пореформенное время Чижов продолжал критически относиться к представителям царствующей династии, видя в них «обрусевших немцев» Романовых-Готторпских, а не «коренных русаков». Этим, по его мнению, объяснялись бессознательное служение Петербурга «немецкому началу» и борьба с собственным народом и народным самосознанием, недооценка природных способностей русских и засилье немцев среди высшей царской бюрократии и офицерства, потворство притеснению и онемечиванию местного эстонского и латышского населения северо-западных губерний со стороны «пришельцев» — остзейских баронов, наделенных особыми правами и привилегиями и стоящих на антирусских, децентрализаторских позициях. Чижов был убежден, что, используя подобострастные настроения верховных правителей России в отношении Европы, «петербургские канцелярские сферы» и влиятельные группы экономистов-фритредеров злонамеренно втягивают страну в финансовую и экономическую кабалу от западного капитала.
Обращаясь в начале 1870-х годов из Венеции к одному из своих старых приятелей, жившему в то время в Дублине, Чижов просил: «В письмах ко мне в Россию… не спрашивай меня только о Царе и Царевиче, — бранить их не позволяется, а хвалить особенно не за что»[441]. Тем не менее Чижов весьма сочувственно воспринял «александровскую весну», когда наконец «распахнулись все окна и форточки и свежий ветер перемен проветрил все здание». «Россия ожила, — писал он, — все зашевелилось»; «Русская мысль… вышла из оков немого подчинения авторитету»; «Теперь, слава Богу, народ весь, во всей своей сплошной массе, вздохнул посвободнее и мало-помалу стали отваливаться струпья. Разумеется, мы не обновились, не очистились вполне: крепостное право, бессудие, деспотизм, произвол являются беспрестанно, но видна синева неба хоть кусочками»; «Потомки наши далеко больше нас превознесут и возблагодарят Александра II за то, что он дал нам»[442].
В изменении внутренней политики самодержавия Чижов усматривал результат благотворного влияния личности царствующего Императора. Если Николай I, «не понимавший никогда человеческого равенства, видевший во всех каких-то пресмыкающихся пред ним тварей», «царствовал… так, как медведь в лесу дуги гнет: гнет не парит, переломит — не тужит»[443], то Александр II, в оценке Чижова, прежде всего Царь-человек. Однако Его «личная доброта и мягкость» нередко граничат со слабостью и неустойчивостью, оттого при нем вроде и «заботятся о прогрессе, и трусят черт знает чего»[444].
Наряду с отменой крепостного права Чижов приветствовал наиболее последовательную буржуазную реформу 1860-х годов — судебную, самую прогрессивную по тем временам в мире. Отзываясь о проходившем в 1871 году в Петербурге «Процессе нечаевцев», он подчеркивал, что «одно уже то, что так называемое политическое преступление судится гласно и публично — весьма значительный шаг»[445].
Как убежденный сторонник предоставления обществу буржуазных политических и гражданских свобод, Чижов в целом одобрительно воспринял закон о печати 1865 года. Отстаиваемое им право на свободу совести в делах веры находило понимание среди московских купцов-староверов. Морозовы, Хлудовы, Мамонтовы и многие их единоверцы шли в первых рядах промышленного прогресса и при этом страдали за свои, отличные от ортодоксальных, религиозные верования. Сын Православной Церкви, Чижов поддерживал старообрядцев различных толков и согласий (но не «нелепых и безобразных раскольничьих сект»). По его мнению, церковный строй допетровской Руси, с Патриаршеством и Соборами, наиболее соответствовал духу русского народа. Во многом благодаря старообрядчеству, самобытному, сильному и гонимому, были сохранены вековые устои народной жизни.
Начиная со второй половины 1850-х годов в прессе значительно оживилось обсуждение вопросов Церковного раскола. Чижов приветствовал выступления в защиту староверов, «выступления… весьма благородные и открытые». И в этом хоре его собственный голос был слышен вполне внятно и определенно: «Всякое гонение, всякое насилие совести гадко и непременно против истинной веры»[446].
Результаты гласной поддержки прав старообрядцев не заставили себя долго ждать. Уже на рубеже 1850–1860-х годов преследования раскольников и сектантов в России были смягчены. Прекратилась практика ликвидации старообрядческих скитов и кладбищ. Закончил свое существование и особый секретный комитет по делам раскольников.
Много надежд в пореформенные годы возлагал Федор Васильевич на проведение в жизнь земской реформы. В выборных, всесословных, не зависимых от царской администрации земских учреждениях ему виделась модель будущего представительного управления страной, в основе которой лежала формула: «Народу — сила мнения, Царю — сила власти». Существующая в действительности «незначительность земств», узость их административно-хозяйственной компетенции дискредитировали идею реформы, и Чижов настойчиво выступал за расширение сферы деятельности земств, за большую их самостоятельность и инициативность. «Не дело министров и петербургского правительства вообще быть законодателями, — писал он в этой связи, — инициатива, предложение законов должны идти от страны, от земства… И только быть… согласовываемы с общими государственными законами и утверждаемы правительством. Пока этого не будет, для каждого нового закона страна будет tabula rasa, на которой черти что угодно»[447].
Бывая нередко в провинции, Чижов интересовался работой местных земских учреждений. В августе 1866 года, находясь в Ярославле, он удовлетворенно отмечал: «Здесь затевают земский банк для краткосрочных ссуд всем без различия из земства, помещикам и крестьянам, под круговое ручательство или под залог произведений сельского хозяйства и промышленности… В некоторых губерниях, наприм<ер>, Харьковской, почта, ее содержание… уже на руках у земства, хотя почтовые доходы и принадлежат правительству. Таким образом, неприметно, мало-помалу, земство будет прибирать к рукам всю местную деятельность»[448].
Согласно представлениям Чижова, самодержавие получило в свое время значение положительной силы, ибо оно было порождено народом. В народе же самодержавие до поры до времени находило свое олицетворение. В пореформенной России в среде либералов все большую популярность стала завоевывать идея перехода к конституционной форме правления. Но Чижов считал подобную постановку вопроса преждевременной. «В обществе, — писал он в марте 1877 года, — ходят под сурдинкою слухи о том, что будто бы у нас думают о конституции. Не радует этот слух… Это будет уже чисто подражание Турции, и можно ожидать, что и сущность конституции будет тоже турецкая: при конституционной форме — полный разгул произвола. Народ безгласный, привыкший безусловно повиноваться. Он не успел еще воспользоваться освобождением… Вместо того, чтобы прибегать к конституционной форме, <не лучше ли> дать конституцию de facto, то есть мало-помалу расширять права земства и его самостоятельность, дать возможность распоряжаться земским хозяйством, приходами и расходами. Это было бы вернее и надежнее»[449].
В августе 1877 года, пересказывая в дневнике содержание своего разговора с И. С. Аксаковым на тему об «увенчании здания» реформ конституцией, Чижов вновь настаивал на необходимости постепенного перехода к представительному образу правления — «народной монархии». «Тут мы (с Аксаковым. — И. С.) перешли к тому, что теперь, кажется, само правительство видит свою несостоятельность и едва ли не помышляет о конституции. Вот вопрос — что это будет за конституция? Ив<ан> Серг<еевич> говорит, что он понимает одну конституцию, именно английскую. Да, говорю, разумеется, только она вышла из народной жизни; а у нас ее дадут… По понятию Ивана Серг<еевича> хорошо бы Земский Собор, которого, как кажется, желает само правительство… но на Земском Соборе допустить голос совещательный, а не решающий. Таким образом, составилось бы общее мнение, которое могло бы быть так сильно», что поставило бы от него в зависимость решение властей. «По моему мнению, лучше всего дать более простора, или еще лучше, постепенно давать более простора земству, чтобы таким образом, частными случаями и узаконениями, их решающими, образовалось мало-помалу общее уложение. Тут правительству оставалось бы только одно — чисто государственная область, и то утверждаемая земством, а вся общественная, личная и частная оставались бы в самом земстве»[450].
В общем и целом оценка Чижовым реформаторской деятельности Александра II была положительной. Многое, о чем либералам грезилось в 1850-е годы, в 1860-х стало явью. Обращаясь в передовой статье газеты «Москва» за 1867 год к своим читателям, среди которых преобладали представители крупной торгово-промышленной буржуазии, он призывал их с оптимизмом смотреть в будущее: «Мечтали мы когда-то об освобождении крестьян, препон было много; но освобождение совершилось. Почти не мечтали о гласном судопроизводстве, — оно началось и радует русского человека; вышло оно лучше, чем ожидали самые оптимисты. Не смели мечтать о свободе печати: много препятствий к ее освобождению; она на непривычной почве хромает и спотыкается, а все-таки мало-помалу движется вперед. Толковали о земстве — и оно явилось. Трудно ему пробиваться сквозь оплот неземского люда; но когда заря занялась, то часом раньше, часом позже, а все-таки солнце появилось»[451].
Любопытно, что в последние годы жизни на волне все более усиливающихся либеральных настроений в обществе Чижов ежегодно 14 декабря обращался памятью к событиям на Сенатской площади в Петербурге полувековой давности и делал в дневнике соответствующие записи. Отдавая должное декабристам как провозвестникам свободы и самоотверженным борцам против деспотизма и беззакония, он в то же время критиковал их движение за то, что в нем не было ничего русского и что оно не имело опоры в народе — единственном двигателе истории.
«День, памятный в событиях первой четверти настоящего столетия, — писал Федор Васильевич 14 декабря 1874 года, — памятный для России, это день восстания так называемых теперь декабристов. Много тут запутанного и смешанного. Понятия о свободе, но не о равенстве; конституция, приготовляемая для России, была чисто аристократическая, народ, т. е. простой народ, был ни при чем. Но одна сторона была в уме у всех декабристов, сколько-нибудь сознательно вступивших в тогдашнее тайное общество, — это требование законности, это заклятая вражда к произволу. Как все это было тогда понимаемо; как думали исполнить, как ребячески верили в силу горсти людей… За что я глубоко чту память декабристов, а при жизни их чтил самих, — это за самопожертвование, это за то, что ни ссылка, ни каторжная работа, ни осуждения на смерть не лишили человеческого достоинства ни одного из них. Они приняли приговоры с достоинством, не просили помилования, перенесли казнь, ссылку, каторжную работу, не унизив себя упадком духа. По мне, им принадлежит высокий почет и имена их не могут быть забыты в нашей истории»[452].
В юбилейном для декабристов 1875 году, когда негласно отмечалось 50-летие восстания, Чижов вспоминал, что оно «не находило сочувствия ни в ком из нашего тогда очень молодого поколения» и что участниками движения «много было наделано глупостей»[453].
В следующем 1876 году, говоря о декабристах, он уточнял: «Это был первый сознательный протест не народа, а общества против личного царского деспотизма. В нем не было ничего выросшего на чисто русской почве, потому что само протестующее общество возросло и воспиталось иностранною историею. Но нельзя отвергать того, что в нем было много человеческого. Но еще меньше было русского и уже нисколько человеческого в суде над несчастными увлекшимися и увлеченными. Это был необузданный деспотизм, прикрытый дырявою мантиею законности… Из декабристов теперь остаются только Апостол-Муравьев и Свистунов, доживают все в глубокой старости и забвении. Много они потерпели, — но служившие инородному началу, они, несмотря на благородство самоотвержения, несмотря на страдания в 25-летней каторге, не снискали себе почета от русского общества; наше поколение еще уважает их, а последующие не имеют о них понятия»[454].
И последней в череде этих откликов является запись в год смерти, в 1877-м: «Мы росли прирожденными холопами Царя, а с ним и правительства. Именно декабристы и были первыми нашими наставниками в свободе мысли»[455].
Как и в молодости, Чижов продолжал неодобрительно относиться к революционному движению и, исходя из религиозно-философской доктрины славянофильства, допускал борьбу с правительством исключительно как борьбу нравственную. Он был убежден, что «новый порядок вещей» вполне достижим «без кровопролитий» и уверял: «европейский революционаризм» и, в частности, порожденная им «кровожадная <Парижская> коммуна» 1871 года с ее «всевозможными ужасами» — чисто западное изобретение[456]. Участившиеся террористические акты и революционные выступления в России он расценивал не иначе как «неудачные приложения чужой отвлеченной теории», а «не явления самой русской жизни»[457].
Чижов был обеспокоен ростом популярности материализма и атеизма среди молодежи, успехами революционной пропаганды и поразительной неспособностью властей навести порядок в стране. В то же время его, как и многих либерально мыслящих людей того времени, привлекала незаурядная личность Александра Ивановича Герцена. При том, что и сам Герцен высоко ценил вклад славянофилов в освободительное движение. «С них начинается перелом русской мысли", — писал он в „Былом и думах“. — … Да, мы были противниками их, но очень странными… У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, — чувство безграничной, обхватывающей все существование, любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус, или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно[458]»[459]. И прежде всего, по мнению Герцена, друзей-врагов сближала вера в общинные идеалы: «Социализм… разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку»[460].
Славянофилы поддерживали наиболее интенсивные связи с находившимся на Западе Герценом в 1857–1860-е годы: они посылали ему письма с обличительными фактами из российской жизни, посещали (нередко — специально) Англию, чтобы лично встретиться со знаменитым соотечественником. В 1860 году, оказавшись по торгово-промышленным делам в Лондоне, Чижов счел своим долгом нанести визит в редакцию «Колокола»[461]. Впоследствии, уже после смерти Герцена, Федор Васильевич принимал близкое участие в судьбе его детей, которые выразили желание вернуться в Россию[462].
В дневниках Чижова начала 1870-х годов содержатся его восхищенные отзывы о литературных произведениях Герцена: «Прочел я… другой раз собрание посмертное сочинений Герцена. Очень много таланту»; «Кончил я дневник Герцена, — все умно и молодо». Однако революционный радикализм Герцена был Чижову не по нраву, и он пытался подыскать «крайним суждениям» Александра Ивановича разумное оправдание. «Герцен поневоле сделался оппозиционером, — полагал Чижов, — как потому, что мыслящему человеку, и человеку весьма образованному, в царствование Николая, да и вообще в России, трудно не быть врагом правительства, так и потому, что совершенно несправедливым и отвратительным преследованием правительство хоть… кого на месте Герцена произвело бы непременно в свои отъявленные враги»; «Несносна ему была рабская жизнь в России, он уехал, мало-помалу втянулся в дело обличения… Обвинительная деятельность лишила его возможности возвратиться в Россию, озлобила против него Царя… и вот он стал… „крайним красным“».
Либеральные колебания Герцена, выразившиеся в его письмах к Александру II, а также его надежды на мирную, постепенную эволюцию самодержавия Чижов расценивал положительно, как своего рода закономерность, необходимый переход от юношеской горячности и нетерпеливости к зрелому, философскому пониманию необратимости поступательного хода истории. «Замечательно, — писал Чижов, — как он, весь век бывши крайним революционером, постоянно подстрекавший всех и каждого восставать против притеснения и идти вперед во имя свободы — как он пришел в раздумье, хорошо ли он делает, что, так сказать, подгоняет историю»[463].
Таким образом, на рубеже 1860-х годов конкретные меры, предлагаемые славянофилами и их многолетним оппонентом Герценом для выхода России из кризиса, удивительным образом совпали. «…Время, история, опыт сблизили нас, — признавался сам Герцен, — не потому, чтоб они нас перетянули к себе, или мы их, а потому что и они, и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях…»[464]
Однако радикальные соратники Искандера не одобрили либеральных мировоззренческих компромиссов своего учителя и друга и, взяв на вооружение обличительные теоретические выкладки славянофилов, продолжили осаду неколебимой доселе твердыни самодержавия. Характерно, что именно как «общий грех славянофилов» воспринял их идейную близость с «Герценом и К°» писатель славянофильского круга Дмитрий Николаевич Свербеев. По его мнению, прозрения «славян», помимо их воли, сослужили немалую службу революционерам в развитии их социальной теории. «… Доктрина славянофилов, — писал он в 1864 году, — без их ведома, изобрела порох для огнедышащих против России орудий другой доктрины, доктрины Бакуниных, Огаревых, Герценов, Михайловых, Чернышевских и т. д., дала им в руки самые лучшие спички для их поджогов, приспособила самые прочные колеса для того паровоза, на котором Бакунин, Огарев и проч. желают мчать нас в пропасть, вместо той загадочной тележной тройки, в которой ухарски хотел прокатиться с нами Гоголь; его телега так и осталась не запряженною, а революционный паровоз уже скачет…»[465]
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Я совершенно такой же аскет труда, как бывали средневековые монахи, только они посвящали себя молитвам, а я труду…Ф. В. Чижов
Глава первая
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ГРЮНДЕРСТВА
«Время общих воззрений прошло, требуются дела»[466], — эту фразу из письма к Ивану Сергеевичу Аксакову можно считать жизненным девизом Чижова с конца 1850-х годов. Имея практический склад ума и будучи по натуре энергичным и деловым человеком, он не мог в переломную для страны эпоху ограничиться ролью теоретика торгово-промышленного развития России. Поэтому не удивительно, что параллельно с журналистикой — изданием журнала «Вестник промышленности» и еженедельного приложения к нему газеты «Акционер» — он занялся активной предпринимательской деятельностью.
В 1858 году в доме Д. П. Шипова состоялось знаменательное для Чижова знакомство с бароном Андреем Ивановичем Дельвигом, двоюродным братом поэта Антона Дельвига, лицейского приятеля Пушкина. Барон был известен в России как талантливый инженер-гидравлик и организатор строительных работ. В течение многих лет он состоял председателем архитектурного совета по сооружению храма Христа Спасителя в Москве, по его проекту и под его руководством был перестроен Мытищинский водопровод, удвоивший количество воды, потребляемой в Первопрестольной, началось движение по Московскому и Нижегородскому шоссе, введены в эксплуатацию водопроводы и фонтаны в Нижнем Новгороде, построены Николаевский мост через Неву в Петербурге и постоянный мост через Днепр в Киеве, проложены военные дороги и переправы на Кавказе.
Между Чижовым и Дельвигом сразу установились близкие, дружеские отношения. «Принадлежа к так называемой партии славянофилов, он (Чижов. — И. С.) высоко ставил знамя народности и Православия и не любил Петра I и преобразованного им самодержавия, — писал барон в своих воспоминаниях. — Ни с кем не сходился я так скоро, как с Чижовым, и ни к кому не питал такой дружбы, несмотря на то, что познакомился с ним, когда мне было около 45 лет от роду»[467].
Андрей Иванович опубликовал в чижовском «Вестнике промышленности» серию статей под общим названием «Историческое обозрение искусства проводить воду»[468], а также статью «Московские водопроводы в 1859 и 1860 годах»[469]. Но главной сферой их общих интересов стало частное железнодорожное строительство. Барон Дельвиг как особо доверенное лицо главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий К. В. Чевкина располагал обширными сведениями о развитии железнодорожных сетей в России, о конкретных планах строительства частных и казенных линий.
Промышленное и железнодорожное строительство в России накануне отмены крепостного права и особенно в пореформенное время требовало крупных капиталов, значительно превышающих возможности отдельных капиталистов. Для этой цели наиболее подходила акционерная форма организации предприятий, известная в России еще с конца XVIII — начала XIX века. В 1860–1870-е годы страну начинает буквально лихорадить от поощряемой правительством горячки акционерного учредительства. Повсюду возникают промышленные, строительные и торговые акционерные общества, банки, кредитные и страховые компании и товарищества на паях. Первоначально основная масса акционерных капиталов направлялась на железнодорожное строительство, которое создавало базу для развития промышленности, стимулировало быструю и дешевую переброску различных народнохозяйственных грузов и все прочнее объединяло отдаленные территории страны в единый всероссийский рынок.
С 1857 года строительство железных дорог почти монопольно велось Главным обществом железных дорог. Им руководили иностранные финансисты во главе с хозяевами банка «Кредит Мобиле» братьями Перейра. Зная не понаслышке о печальном опыте строительства Главным обществом первой сети железнодорожных путей в России, Дельвиг информировал Чижова о вопиющих фактах профессиональной некомпетентности и своекорыстия его деятелей, и Федор Васильевич обрушивался на «заезжих проходимцев» с гневными журнальными и газетными филиппиками.
Но одних обличений в прессе было мало. Вместе с братьями Шиповыми Чижов и Дельвиг стали инициаторами устройства сообщения между Москвой и Ярославлем посредством первой русской частной «образцово-показательной паровозной железной дороги» силами исключительно русских рабочих и инженеров и на деньги русских купцов, без участия иностранного капитала. Цель предприятия — убедить сомневающихся в возможности для России самостоятельного, первоклассного, быстрого, дешевого и честного железнодорожного строительства.
Для осуществления проекта было образовано Общество Московско-Ярославской железной дороги. К участию в нем Чижов также привлек откупщиков Н. Г. Рюмина и И. Ф. Мамонтова. Ввиду значительности требующегося капитала, на сбор которого понадобилось бы много времени, было решено первоначально ограничиться устройством сообщения до Троице-Сергиева Посада протяженностью в 66 верст.
… В течение мая-июня 1858 года на Троицком шоссе, соединяющем Москву с Троице-Сергиевой лаврой, у Крестовской заставы, несколько групп прилично одетых молодых людей, по три человека, днем и ночью сменяя друг друга, подбегали к проезжающим экипажам и повозкам, заглядывали внутрь, как бы силясь что-то рассмотреть, и тут же спешно делали какие-то пометки в блокнотах. При этом лошади от неожиданности шарахались в сторону, извозчики судорожно натягивали вожжи, а некоторые из пассажиров, принимая молодых людей за попрошаек, бросали им вслед милостыню. Никто не догадывался, что юноши, затруднявшие своей бесцеремонностью оживленное движение, были студентами Московского технического училища, привлеченными к сбору статистических данных о проходящих и проезжающих по шоссе людях и грузах. А «мозговым центром» всей этой операции, призванной доказать не столько компаньонам, сколько правительству и прежде всего самому Императору Александру II выгодность сооружения первой русской частной железной дороги в направлении к Троице-Сергиеву Посаду, был Федор Васильевич Чижов. Собрав таким своеобразным способом необходимые сведения, он уже мог с цифрами в руках возражать критикам, видевшим в предстоящем строительстве нерасчетливое предприятие.
«По приблизительному счету, — писал Чижов в одной из статей, опубликованной в „Вестнике промышленности“, — стоимость дороги едва ли превзойдет 3 000 000 рублей, настоящее же движение по шоссе… обещает около 400 000 рублей годового дохода. Судя по ходу всех железных дорог, движение на них обыкновенно усиливается в 2 ½ раза, сравнительно с прежним; положим, что оно усилится только на одну четвертую долю… тогда валовой доход новой дороги будет простираться до 500 000 рублей серебром. Полагая на содержание ее, а также на расходы по движению 50 % с валового дохода, чистого дохода останется более 250 000. Вот ответ людям мнительным…»
С другой стороны, учредителей критиковали за то, что железная дорога строилась к древней святыне — монастырю. А это дело неблагочестивое, уменьшающее религиозное рвение паломников: ведь на Руси, согласно традиции, к местам поклонения не ездят, а ходят пешком. Кроме того, «стальная» магистраль посягала на набожную тишину и душеспасительное безмолвие монашеских келий[470] и тем самым подрывала первоосновы народной жизни. Однако подобные аргументы не смутили Чижова, для которого понятия о православном церковном обычае, отечественной старине и традиционном укладе жизни русского народа были вовсе не пустым звуком. Потому тон его ответов на эти упреки был довольно резок: «Подобное возражение есть плод того застоя ума, который у нас встречается чаще, нежели где-либо… Благочестие народа и святость верования в их глазах так шатки, что они только и могут держаться при самой упорной неподвижности; всякое улучшение в пользу бедного труженика, стремление избавить человека от подчинения себя ненужному гнету природы может, по их мнению, потрясти основы верования!»
Статья Чижова заканчивалась на оптимистической ноте: «Мы радуемся новой железной дороге, как самой по себе, так и потому, что видим в ней движение русских капиталов и русской деятельности, — она скоро догонит своих европейских соперниц»[471].
Отправленные в Санкт-Петербург расчеты убедили Кабинет министров и Императора Александра II в выгодности Московско-Троицкой железной дороги, и уже 24 июля 1858 года было получено Высочайшее соизволение на производство изыскательских работ.
В конце марта 1859 года барон Дельвиг познакомил главноуправляющего путей сообщения К. В. Чевкина с проектом дороги и сметами, составленными по материалам изысканий, а также проектом устава акционерного общества. После ряда доработок 29 мая 1859 года устав акционерного общества Московско-Троицкой железной дороги был Высочайше утвержден. Общество не испрашивало никаких гарантий. Капитал предполагалось собрать путем выпуска акций, а сооружение дороги завершить в четыре года.
Поначалу публика встретила известие об учреждении общества с заметной холодностью. Подписка на акции дороги шла довольно вяло — ведь это был первый опыт вовлечения русского частного капитала в пока еще малопроверенное предпринимательское дело. Для обоснования выгоды участия в обществе, сулящего хорошие дивиденды, Чижов и Дельвиг написали и распространили в качестве приложения к Московским и Санкт-Петербургским «Ведомостям» брошюру «Московско-Троицкая дорога от учредителей». Рекламный ход возымел действие. Уже к 12 февраля 1860 года акции дороги разошлись полностью.
Спустя две недели на состоявшемся общем собрании акционеров директорами Московско-Троицкой дороги были избраны барон А. И. Дельвиг, Д. П. Шипов, И. Ф. Мамонтов и Н. Г. Рюмин. Чижов вместе с инженером путей сообщения М. Р. Богомольцем, под наблюдением которого производились изыскательские работы, вошли в правление дороги лишь кандидатами. Но Чижова это вполне устраивало: он стал «кандидатом на директорство», не вложив в дело капитала.
Почти всю жизнь испытывавший внутреннее унижение и стыд от постоянной нужды в деньгах, привыкший скрупулезно, покопеечно высчитывать свои ежедневные расходы, Чижов вдруг обрел солидный материальный достаток. Поначалу суммы в рублях оглушали. Он записывал в дневнике: «Теперь я кандидатом на директорство Московско-Троицкой железной дороги, что мне приносит 3 тысячи рублей, которые я не беру, но оставляю в уплату акций. Если прослужу 4 года, то накопится 12 тысяч, и я буду сколько-нибудь обеспечен, то есть не пойду в богадельню»[472].
Однако новизна ощущения финансовой независимости вскоре прошла. Минимум, который позволял безбоязненно смотреть в будущее, был легко достигнут. Мысль о необходимости обеспечить надвигающуюся холостяцкую старость больше никогда не посещает его. Наоборот, он постоянно самоограничивает себя во всем, что относится к личным потребностям, подчас весьма насущным, касающимся даже вопросов собственного здоровья.
«Он просто ненавидел и презирал деньги как основную цель жизни, — рассказывал секретарь Чижова А. С. Чероков, — и в минуты воспоминаний с болезненным надрывом души сравнивал свое изучение искусств в Италии с блестящим на взгляд толпы званием директора прибыльного предприятия или банка и с искренним сердцем божился, что „заплевал бы тогда всякого, кто дерзнул бы предсказать ему в будущем подобное положение“. Несмотря на свое очень большое содержание по должностям, он держался по-спартански относительно своих внешних житейских удобств… просто из пренебрежения к комфорту, неге, распущенности… Однако в употреблении денег не для себя он был даже щедр, сам искал, стремился оказать помощь людям даже малоизвестным ему лично»[473].
Чижов долгое время довольствовался скромной служебной квартирой в правлении Московско-Троицкой (впоследствии Московско-Ярославской) дороги. Еда его, как правило, была самой неприхотливой. Он не особенно обращал внимание на подержанную обстановку своего жилища, и друзья ему не раз замечали, что «не мешало бы всероссийскому управляющему разных выгодных предприятий хотя бы обить мебель новой клеенкой»[474]. Лишь за три года до смерти, с подорванным от напряженной работы здоровьем, мучимый нестерпимыми болями, Федор Васильевич позволил себе переехать в собственный небольшой двухэтажный особнячок на Садово-Кудринской, «напротив конца сада Вдовьего дома». «Приходится на старости лет себя в футляр запрятать», — недовольно ворчал он по поводу вынужденной покупки[475]. В безудержном акционерном учредительстве Чижовым неизменно руководил азарт патриотически настроенного общественного деятеля, вознамерившегося убедить мир в способности русских вести любое предпринимательское дело безупречно как в техническом, так и финансовом отношении.
На организационном собрании пайщиков Московско-Троицкой железной дороги, состоявшемся 25 февраля 1860 года, по инициативе Чижова было принято решение поставить за правило, чтобы в газете «Акционер» не менее шести раз в год правление общества печатало отчеты о своих действиях и о состоянии кассы. Тем самым впервые в практике железнодорожных акционерных обществ в России все распоряжения правления, весь ход строительных и эксплуатационных работ, батане кассы, в том числе и ежемесячные расходы на содержание административно-управленческого аппарата, делались достоянием гласности и печати. «Мы того мнения, — говорилось в одной из передовых статей газеты „Акционер“, — что чем более гласности, тем чище пойдут дела и тем скорее прояснится страшно туманный в настоящее время горизонт наших акционерных предприятий»[476].
Пример общества Московско-Троицкой дороги побудил пайщиков других частных железнодорожных обществ в России обязать свои правления поступать аналогично. С удовлетворением отмечая этот отрадный факт, газета «Акционер» от 14 мая 1860 года сообщала: «Везде акционеры начинают мало-помалу входить в свои права и понимать, что не на то они только акционеры, чтобы слепо одобрять все, что ни поднесут или ни предложат директора правлений… Недавно в Петербурге 89 акционеров Главного общества железных дорог, напуганные разными доходившими до них печальными слухами о действиях правления, потребовали созвать общее собрание, но им было в этом отказано под единственным предлогом, что требование их незаконно»[477].
«Главное общество российских железных дорог до сих пор не опубликует своего отчета за 1859 год, — напоминал „Акционер“ спустя полмесяца, — а уже пора, давно пора правлению исполнить свое обещание и напечатать его, дабы акционеры могли заблаговременно, до общего собрания, познакомиться с положением дел»[478].
1 июля 1860 года в «Акционере» вновь критиковались действия Главного общества и заявлялось, что опубликованные им отчеты грешат неточностью и неполнотой, за которыми — неблагоразумная трата денег, непрактичность и неслыханные издержки на содержание администрации, что неудержимо ведет общество к банкротству[479].
Чижов требовал от железнодорожных компаний, и прежде всего от правления Московско-Троицкой дороги, быть экономными в строительстве, дабы доказать публике выгодность и большую дешевизну частных сооружений. «Компании должны заботиться о том, чтобы общество чувствовало и ясно видело, что они строят дороги дешевле казны и что общество в решительном выигрыше, — писал Чижов на страницах „Акционера“. — Железные дороги должны быть действительно тем, чем должны быть, а именно: удобным орудием для провоза людей и товаров, удобным, дешевым и быстрым средством для обращения народных ценностей. Стройте их прочно, но дешево, без всяких лишних и ненужных украшений, на которые может решиться только очень богатый и прихотливый народ, а отнюдь уже не мы. Ни выложенных узорами дорожек, ни дорогих и совершенно ненужных по сторонам садиков, ни гигантских мостов, где можно без них обойтись, ни станций, напоминающих собой дворцы, — ничего этого не нужно, а главное — побольше расчетливости в управлении и поменьше непроизводительных затрат»[480].
14 мая 1860 года в Троице-Сергиевой лавре были произведены закладка и освящение начала работ по сооружению Московско-Троицкой железной дороги.
В продолжение всего периода строительства правление дороги стремилось заключать подряды на производство земельных работ, устройство верхнего строения пути, переездов, мостов, станций исключительно с русскими подрядчиками. Учредители считали, что выполнение заказов иностранными компаниями, не знакомыми с местными условиями, обойдется значительно дороже и будет хуже по качеству. «…Нельзя не удивляться решимости иностранцев, приезжающих в незнакомую им страну и часто на другой день приезда, не осведомись ни о стоимости рабочих материалов, ни о большей или меньшей твердости грунтов, объявляющих цены на производство работ в несколько миллионов рублей, — писал по этому поводу „Акционер“. — Предоставляем судить каждому, насколько могут быть верны подобные определения стоимости работ и до какой степени заслуживают они доверия»[481].
Движение поездов по Московско-Троицкой железной дороге было открыто 18 августа 1862 года. В этот день весь директорский корпус правления вместе с настоятелем Троице-Сергиева монастыря отправился из Москвы в Сергиев Посад с первым пассажирским поездом. На конечной станции они были встречены братией Троицкой лавры, отслужившей благодарственный молебен. Тем самым православное духовенство открыто встало на сторону технического прогресса и подало пример мирянам.
По свидетельству современников, дорога вышла образцовой и по устройству, и по бережливости расходов, и по строгой отчетности управления. На всем пути были построены четыре станции III и IV классов: Мытищинская, Пушкинская, Талицкая и Хотьковская[482]. Пассажирские поезда отправлялись из конечных пунктов два раза в день и весь путь покрывали менее чем за два часа. Билет I класса стоил 2 рубля серебром (по 3 копейки с каждой версты), в III классе до Сергиева Посада можно было проехать за 80 копеек. Пассажир имел право провезти с собой бесплатно один пуд багажа.
Уже в первый год своего существования дорога стала невероятно популярной — ею воспользовались 400 тысяч человек (не считая свыше 13 тысяч «воинских чинов»). Одними из первых пассажиров Московско-Троицкой железной дороги стали Великие князья и сам Император Александр II с Императрицей Марией Александровной.
Чижов, в 1861 году сменивший выбывшего из состава директоров Д. П. Шипова, к этому времени занимал уже должность председателя правления дороги. «Надобно было видеть, — вспоминал И. С. Аксаков, — с какой артистической нежностью составлял он свои железнодорожные годовые отчеты: целые тома цифр, процентных отношений, всякого рода затейливых статистических выводов…»[483] Он сделался «совершенно промышленным человеком», — утверждал после встречи с Федором Васильевичем друг его юности А. В. Никитенко[484].
В 1862 году Чижов вошел в члены еще одного правления — общества Московско-Саратовской железной дороги. Строительство железнодорожного пути в Саратов, по его мнению, имело большое значение для всего Восточного края России. Газета «Акционер» помещала регулярные сообщения «От правления общества Саратовской железной дороги», публиковала протоколы общих собраний акционеров, отчеты совета управления общества. Наряду с Чижовым в руководящие органы общества (в совет управления и наблюдательный комитет за действиями правления) был избран также славянофил А. И. Кошелев.
Правительство Александра II, продолжая придерживаться курса на поощрение частного предпринимательства, со второй половины 1860-х годов начало практику передачи в частные руки важнейших железнодорожных линий, эксплуатация которых была признана для казны убыточной. В 1867 году власти решили объявить о продаже Николаевской железной дороги, объясняя свое намерение желанием следовать основным началам политической экономии. «Передавая из казенного управления в руки частной предприимчивости эксплуатацию этой важной линии, правительство поступает согласно требованиям науки государственного хозяйства, которая по указаниям вековых опытов во всех странах света порицает занятия государства делами промышленности, вовсе ему, по самой сущности своей, несвойственными», — говорилось на заседании Комитета финансов 4 марта 1867 года[485].
Расширение сети частных железных дорог поставило финансовое ведомство страны в затруднительное положение, так как железнодорожное строительство редко обходилось без пособия казны или без правительственной гарантии ввиду малодоходности значительного числа новых линий. Вынужденные приплачивать большие суммы, власти намеревались на вырученные от продажи Николаевской дороги деньги образовать специальный фонд, который бы предназначался для нужд железнодорожного строительства и эксплуатации. С этой целью от имени Николаевской железной дороги были выпущены облигации на сумму 75 миллионов металлических рублей и, сверх того, спустя некоторое время предполагалось сделать еще один заем. Частное общество, которое пожелало бы купить дорогу, должно было ежегодно, в течение 84 лет, платить из полученного дохода проценты по займам и вести погашение облигаций.
О своем намерении приобрести у казны Николаевскую железную дорогу заявили три основных претендента: Главное общество российских железных дорог, прусская компания и американский предприниматель Уайнанс. В противовес им московские купцы во главе с С. И. Мамонтовым, Д. П. Шиповым и Чижовым решили объединиться и создать свое акционерное общество, дабы не допустить перехода в руки к иностранцам одной из важнейших отечественных железнодорожных магистралей. «Вам известно, — обращался Чижов в 1867 году в официальной записке к барону А. И. Дельвигу, в то время уже главному инспектору и начальнику частных железных дорог, — что в России слишком распространена мысль о невозможности образовать железнодорожные предприятия без исключительной зависимости от иностранных капиталов… Убежденные в глубоком сочувствии русского общества к… самобытной деятельности в обширных размерах, мы решили сделать первый опыт: образовать союз капиталистов для приобретения Николаевской железной дороги»[486].
Московское товарищество капиталистов, в которое, кроме Мамонтова, Шипова и Чижова, вошли князь А. А. Щербатов, И. А. Лямин, Н. Г. Рюмин, Т. С. Морозов, В. А. Полетика, А. И. Кошелев, объединило 92 русских предпринимателя.
Основную конкуренцию Московскому товариществу составило Главное общество российских железных дорог. Оно упорно добивалось очередной концессии, несмотря на свою финансовую несостоятельность. До начала 1860-х годов Главное общество обладало монопольным правом на строительство важнейших железнодорожных линий, тогда как другим компаниям позволялось строить лишь дороги местного значения. В 1861 году правительство вынуждено было освободить Главное общество от обязанности сооружения Южной и Либавской железных дорог, а на окончание Варшавской и Московско-Нижегородской ему было предоставлено пособие в 28 миллионов рублей и другие дополнительные льготы.
К 1868 году общий долг Главного общества казне составлял уже 84 миллиона рублей. Тем не менее его члены ходатайствовали об уступке им Николаевской железной дороги, одной из самых доходных в Европе, объясняя свое желание «необходимостью дать сооружению железных дорог в России сильное развитие». Эксплуатация дороги, заверяли они, привлечет значительные капиталы, необходимые для осуществления остальных линий, уступленных Обществу[487].
При приобретении Николаевской железной дороги Главное общество рассчитывало не затратить ни одного рубля. Более того, оно требовало, чтобы правительство гарантировало ему ежегодный чистый доход с дороги в 6 миллионов металлических рублей. Из этой суммы 3 миллиона 115 тысяч 540 рублей должно было пойти на выплаты по правительственному займу в 75 миллионов рублей, а остальные 2 миллиона 884 тысячи 460 рублей — на уплату процентов по второму предполагаемому займу. Реализовать его Общество предполагало самостоятельно, но с тем, однако, условием, чтобы весь риск по сбору капитала правительство взяло на себя и, кроме того, предоставило Обществу 13 миллионов 150 тысяч рублей на усовершенствование дороги и увеличение подвижного состава. Из валового сбора с Николаевской дороги Главное общество собиралось отчислять по 1,5 % для составления капитала в 3 миллиона рублей, который должен был пойти на замену деревянных мостов железными. Только в случае, если чистый доход даст излишки сверх 6 миллионов рублей, Общество рассчитывало ¾ этой суммы вносить на пополнение правительственной гарантии по Варшавской и Нижегородской дорогам. Когда же надобности в этом не будет, половина прибыли должна быть использована для погашения числящегося за Обществом долга правительству, равного 84 миллионам рублей, после чего весь излишек поступал в пользу акционеров.
В отличие от Главного общества Московское товарищество капиталистов не требовало никакой гарантии чистого дохода и обязывалось вносить в казну из валового сбора с дороги вплоть до 1871 года по 1 миллиону 875 тысяч рублей в год, а с 1871 года — по 3 миллиона 750 тысяч, что вместе с уплатой процентов и погашением облигаций по займу в 75 миллионов рублей составило бы для правительства ежегодный чистый доход 7,5 миллиона. В случае же, если правительство пожелало бы сделать второй заем под дорогу, то Товарищество брало на себя его реализацию и выпуск облигаций на сумму 75 миллионов рублей. По истечении первых десяти лет излишек чистого дохода с дороги сверх 7,5 миллиона рублей распределялся бы следующим образом: 40 % шло в пользу правительства, 40 % — в дивиденд акционерам, 20 % — в запасной капитал на усиление средств дороги. Кроме того, Товарищество намеревалось усовершенствовать дорогу, отремонтировать и пополнить подвижной состав за свой счет, для чего составлялся складочный капитал в 15 миллионов рублей.
Согласно расчетам, в течение 84 лет чистая прибыль в пользу правительства от эксплуатации Главным обществом Николаевской железной дороги должна была составить 95 миллионов рублей, тогда как эксплуатация дороги Московским товариществом капиталистов принесла бы правительству прибыль в 161 миллион рублей.
Борьба за приобретение Николаевской железной дороги происходила в то время, когда Чижов редактировал экономический отдел газеты «Москвич». Поэтому неудивительно, что многие ее страницы были отданы под подробный и, по возможности, максимально беспристрастный разбор предложений обоих конкурентов. «На чьи весы склоняется видимо русское общественное мнение — на этот вопрос ответ слишком ясен, — говорилось в одной из статей, подписанных самим редактором. — Его можно смело решить хоть открытою подачею голосов на всем пространстве Русского государства… Нас одно только удивляет: каким образом могло случиться, что вместо того, чтобы взять у несостоятельного Главного общества[488], не исполнившего перед русским правительством своих обязательств… линии железных дорог и передать в руки более благонадежных компаний, ему позволили задолжать правительству до 80 млн. рублей и к нему же теперь, как к единственному спасителю, снова обращаются…»[489]
Накануне заседания Совета министров, состоявшегося в мае 1868 года под председательством Александра II, мнение общества и почти всех правительственных лиц склонялось к тому, что Николаевская железная дорога перейдет в руки Московского товарищества капиталистов или, по крайней мере, останется еще на некоторое время в казне. Однако, основываясь на заключении министра финансов М. X. Рейтерна, Император вопреки мнению большинства членов Совета принял решение передать Николаевскую дорогу со всеми соединительными ветвями, подвижным составом и Александровским механическим заводом Главному обществу железных дорог сроком до 1952 года. Впоследствии министр финансов оправдывал необходимость подобного решения стремлением поддержать стоимость акций Главного общества, держателями которых были многие влиятельные иностранные банкирские дома…
Глава вторая
«ВСЕ В ЦИФРАХ И ЦИФРАХ»
При составлении складочного капитала для строительства и выкупа у казны железных дорог русское купечество постоянно испытывало денежные затруднения. Являясь неоднократным свидетелем и участником подобных форс-мажорных обстоятельств, Чижов одним из первых поднял в печати вопрос о развитии в стране внутренней кредитной системы. Предпринимателям нужен был закон, разрешающий деятельность акционерных банков. Федор Васильевич даже составил проект создания «Народного железнодорожного банка», призванного предоставлять займы частным железнодорожным строителям. Но его идея не была одобрена в Петербурге: высшие бюрократические сферы рассчитывали при строительстве железных дорог исключительно на иностранные инвестиции.
В середине 60-х годов правительство все же было вынуждено предоставить известный простор в деле кредитования частной инициативе, и в стране начинается усиленное банковское грюндерство.
«Здесь, в Москве, заводится Купеческий банк, — читаем мы дневниковую запись Чижова, помеченную маем 1864 года, — начало сделано Кокоревым. В Петербурге подписались на него на 730 тысяч, считая тут Рукавишникова (100 000), Пастухова (20 000), Мамонтова (20 000)… Лямин сказал, что он не пойдет в дело, если меня не будет… Я подписал 10 000… не своих, Кокорева, разумеется, — не для того, чтоб пользоваться правом, а чтоб не совестно было говорить в обществе купцов о банке, в котором не принимаешь никакого участия. Кокорев звал меня в директоры, я отказался… я банковского дела не знаю, какое же право имею я думать, что я его поведу? Но… купцы, если выберут, значит они найдут, что я могу быть директором»[490].
1 декабря 1866 года при активном участии Чижова Московский купеческий банк был открыт. Первое время он помешался в Кокоревском подворье — крупном гостинично-складском комплексе на Софийской набережной, построенном в начале 1860-х годов бывшим откупщиком Василием Александровичем Кокоревым. Однако вскоре после того, как Кокореву пришлось его продать, чтобы расплатиться с казенными долгами, банк переехал в специальное здание, возведенное в кратчайшие сроки на Ильинке, «в самой середине торгового московского движения», как говаривал Чижов. Павел Афанасьевич Бурышкин, известный знаток «Москвы купеческой», вспоминал, что именно здесь, в примыкавшем к Красной площади и Кремлю кварталу Китай-города, «на трех его улицах, Никольской, Ильинке и Варварке, с переулками Юшковым и Черкасским, в Теплых рядах, на Чижовском подворье, были сосредоточены почти все фабричные конторы и амбары оптовых предприятий. Это был московский Сити»[491].
Московский купеческий банк стал не только самым первым, но долгое время (вплоть до начала XX века) оставался самым крупным частным кредитным учреждением Москвы и вторым по величине в России. Вторым — после Петербургского частного банка, открытого двумя годами раньше и пользовавшегося «режимом наибольшего благоприятствования» со стороны властных правительственных структур. Московский купеческий банк был организован не как акционерное общество, а как товарищество на паях, то есть по подобию московских текстильных предприятий. В отличие от традиционных акционерных обществ паи в нем, согласно первоначальному Уставу, циркулировали только между «товарищами» — основателями банка. Процедура продажи паев «на сторону» осложнялась необходимостью получения согласия всех членов и вынесением специального решения правления. Тем самым возводился заслон на пути проникновения конкурентов в ряды учредителей.
Основной капитал Московского купеческого банка насчитывал 1 миллион 260 тысяч рублей и состоял из 252 именных паев. Каждый пай продавался по высокой номинальной стоимости — 5 тысяч рублей. Среди 90 пайщиков, купцов и промышленников, большинство составляли текстильные фабриканты центральных губерний: С. П. Малютин, В. С. Коншин, М. Г. Рукавишников, торговые дома Морозовых, Лепешкиных. Определенные средства в «главный денежный резервуар Первопрестольной» были вложены известными петербургскими банкирами (A. Л. Штиглицем и И. Ф. Утиным), крупными петербургскими чиновниками (Е. И. Ламанским и бароном А. И. Дельвигом), специалистами банковского дела (И. К. Бабстом и Л. С. Гольцевым), а также варшавскими банкирскими домами. На общем собрании пайщиков, состоявшемся сразу после Высочайшего утверждения устава банка, 97 голосами из 99 Чижов был избран председателем правления с годовым жалованьем в 9 тысяч рублей.
Спустя год в письме к одному из своих давних университетских друзей Чижов сообщал: «У нас в Москве образовался Московский купеческий банк, при образовании которого я был весьма деятельным рабочим… Дело это у нас новое… Теперь я с утра до вечера, именно с 9 часов утра до 9 часов вечера, иногда и позже, все в цифрах и цифрах. Банк идет превосходно»[492].
Московский купеческий банк обслуживал предприятия Центрального промышленного района и проявлял наибольшую активность в области товарокомиссионных и торговых операций, в основном с хлопком. По ссудам под залог ценных бумаг финансировалось и железнодорожное строительство. За счет развития операций банка стремительно росла их доходность: только за первые два года, с 1867 по 1869 год, дивиденд в нем поднялся с 12 % до рекордной отметки в 19, 4 %, а привлечение новых пайщиков (на необходимости этого настоял Чижов, для чего были сделаны соответствующие изменения в Уставе) увеличило основной капитал банка до 5 миллионов рублей.
В «помощь бедному и слабокредитному торгующему люду» 3 июля 1869 года в Москве под непосредственным руководством Чижова было открыто второе после Купеческого банка частное коммерческое учреждение — Купеческое общество взаимного кредита. Его организаторами выступили двадцать крупнейших дельцов-торговопромышленников, в том числе В. А. Кокорев и председатель Московского биржевого комитета И. А. Лямин. Всего к моменту начала операций Общество состояло из 1400 членов. И в этом новом коммерческом учреждении подавляющим большинством голосов Чижов был избран председателем правления, на этот раз без определенного жалованья (члены правления получали процентное вознаграждение с чистого барыша).
Московское купеческое общество взаимного кредита было основано на иных началах, чем обычные банки: хозяевами предприятия являлись не кредиторы, а сами заемщики; только члены Общества имели право на получение ссуды и только их векселя учитывались; между собой члены Общества были связаны круговой порукой (каждый считался ответственным за долги предприятия перед третьими лицами в размере открытого ему кредита). Как и Московский купеческий банк, Московское купеческое общество взаимного кредита занималось преимущественно кредитованием текстильной промышленности Центра России и в течение многих десятилетий, вплоть до начала Первой мировой войны, считалось абсолютным лидером среди десятка отечественных «грандов» взаимного кредита.
В отличие от акционерных банков Московское купеческое общество взаимного кредита из боязни риска не принимало, как правило, участия в учредительстве и контроле за деятельностью тех или иных крупных предприятий. На развитии его ссудокредитных операций сказался неудачный опыт с предоставлением значительного кредита Н. И. Путилову.
… Жизненные пути Чижова и Путилова уже однажды пересекались. Николай Иванович Путилов, выпускник Морского кадетского корпуса, в 1830-е годы преподавал в своей alma mater астрономию и навигацию. В 1840 году он напечатал статью об интегральном исчислении, которую ученый мир воспринял как сенсацию. Тогдашнее светило математической науки академик М. В. Остроградский, научный руководитель Чижова, пригласил Путилова к себе в помощники. Так что непродолжительное время, вплоть до отъезда Чижова за границу, оба молодых талантливых математика работали бок о бок в Петербургском университете, на физико-математическом факультете.
Спустя более чем четверть века Чижов услышал о Путилове снова. В декабре 1867 года на все еще казенной Николаевской железной дороге раньше времени истек срок годности рельсов, произведенных в мастерских бельгийских и английских железоделательных заводов, из-за чего движение поездов оказалось под угрозой остановки. Следовало экстренно заменить рельсы. Но новая их поставка была невозможна из-за окончания сезона навигации.
И тогда на авансцене появился Путилов, уже успевший заявить о себе как о талантливом организаторе производства. В годы Крымской войны он, чиновник особых поручений при директоре Кораблестроительного департамента, сумел в кратчайшие сроки наладить производство канонерок и корветов. После войны развернул в Финляндии изготовление стали из болотных руд, причем выше качеством, чем сталь английская. Вместе с инженером Обуховым основал Обуховский завод…
Явившись под самое Рождество Христово 1867 года в Министерство путей сообщения, Путилов предложил — дайте мне мало-мальски нормальный железоделательный завод в долг, и я завалю Россию русскими рельсами! В доказательство он продемонстрировал образцы, которые были изготовлены на его крохотном заводике «Аркадия». Это были рельсы нового типа — комбинированные. Обычные рельсы из железа легко прогибались, а рельсы из стали были достаточно жесткими, но хрупкими. Новаторство Путилова состояло в том, что он предложил делать рельсы из железа со стальной головкой, причем производство обещало быть дешевым и скорым, а продукция — качественной.
Путилову поначалу не поверили. И до этого в России предпринимались попытки выпускать рельсы, но на поверку они оказывались настолько низкого качества, что в сравнение с импортными не шли. Тем не менее из-за крайне тяжелого положения на Николаевской железной дороге решено было рискнуть. В начале января 1868 года в распоряжение Путилова перешел бывший Огаревский завод, который за 65 лет своего существования сменил множество хозяев и в конце концов пришел в полный упадок.
И случилось невозможное — всего за восемнадцать дней новому владельцу завода удалось наладить производство продукции, которая оставила далеко позади знаменитые западноевропейские фирмы. А уже через несколько лет в России была полностью разрешена «рельсовая проблема». Отныне русские железные дороги были избавлены от необходимости импортных поставок, а названный в честь Путилова завод превратился в индустриальный гигант, получивший известность во всем мире.
Разумеется, Чижов знал об успехах путиловских предприятий — он и сам при строительстве и эксплуатации железных дорог пользовался их продукцией. Поэтому когда Николаю Ивановичу понадобились большие деньги для осуществления нового грандиозного замысла, Чижов с готовностью протянул ему руку помощи…
В январе 1873 года Путилов обратился к барону Андрею Ивановичу Дельвигу с просьбой ходатайствовать перед Чижовым, который имел, по его сведениям, безграничное влияние на московских банкиров, ссудить ему капитал для создания акционерного Общества Путиловских заводов. Получить кредит в Петербурге, по его словам, не представлялось возможным, так как начатое им еще одно дело — сооружение по собственному проекту коммерческого порта на взморье у Екатерингофа противоречило интересам петербургских банков и биржи: владея акциями Балтийской железной дороги, они намеревались построить коммерческий порт в Ораниенбауме.
Барон Дельвиг не имел понятия, насколько дела Путилова к этому времени были запутаны, — к сожалению, известный петербургский изобретатель и заводчик страдал прожектерством и гигантоманией. Обязавшись передать Обществу Путиловских заводов при его образовании деньги, полученные в задаток по контрактам на изготовление новой партии рельсов, Путилов на самом деле давно израсходовал означенную сумму на другие, не менее важные, по его мнению, коммерческие нужды. Барон же, ничтоже сумняшеся, выдал просителю рекомендательное письмо в Москву, а Чижов, в свою очередь, всецело полагаясь на практическую сметку и искушенность в подобных вопросах Дельвига, изменил своему всегдашнему правилу: не приниматься даже за грошовое предприятие без обстоятельного, детального изучения. «Я никак не виню его (Дельвига. — И. С.); виноват я, не вник поглубже в дело, — сокрушаясь, казнил себя Чижов. — У Путилова все подбито собственною выгодою, но на лицевой стороне… предприятия общеполезные, как, например, рельсовый завод, порт на Гутуевом острове, железная дорога между Невою и ее портом, перерезывающая все петербургские железные дороги»; «Хотели ли мы чего-нибудь кроме того, чтоб, не потерявши ничего, дать возможность русскому заводчику подняться на ноги?»[493]
Летом 1873 года по инициативе Чижова три банка (Московское купеческое общество взаимного кредита. Московский торговый банк и Общество коммерческого кредита) составили синдикат и предоставили Путилову под залог 32 тысяч акций его предприятий, включая главное его детище — Путиловский завод, 1 миллион 400 тысяч рублей, принимая каждую акцию по 30 копеек ассигнациями за 1 рубль металлический. При этом Московское купеческое общество взаимного кредита ссудило более трети всей суммы — 560 тысяч рублей. Согласно условиям договора председателем Общества Путиловских заводов стал барон Дельвиг. Сверх того, один член совета и один член правления были избраны по указанию московских банкиров (а именно — Чижова).
Уже первые месяцы совместного ведения дел показали, что путиловские предприятия, на которых, ко всему прочему, сказался начавшийся в стране промышленный кризис, находились на грани банкротства. Из-за хронического безденежья кассы производство испытывало постоянный недостаток в сырье, заводы приносили одни убытки, а их фактическая продуктивность была крайне низкой. Кроме того, по требованию казны в срочном порядке пришлось строить новый завод по производству стальных рельсов, который обошелся Обществу в 800 тысяч рублей.
За неимением оборотного капитала Путилов то и дело оказывался перед необходимостью входить во все новые и новые значительные долги. В платежах же процентов по огромным занятым суммам он был, как правило, неисправен и своей необязательностью раздражал кредиторов, отчего ему со всех сторон грозили подачей векселей ко взысканию. Стабилизации положения Общества мешал и неоправданный оптимизм Путилова, нередко граничивший с авантюризмом.
С большим трудом в конце 1876 года Чижову удалось заинтересовать в Путиловских заводах министра финансов М. X. Рейтерна и управляющего Государственным банком Е. И. Ламанского. С их помощью он смог перезаложить находившиеся в московских банках акции. Московское купеческое общество взаимного кредита уступило Госбанку свой пакет ценных бумаг всего за 490 тысяч рублей, а 70 тысяч пришлось списать в убыток. Таким образом, с 1877 года заводы со всеми постройками и землей ушли от Путилова к Государственному банку, ставшему отныне фактическим владельцем всех его предприятий.
Печальная история с финансированием Общества Путиловских заводов синдикатом московских банков произошла уже в то время, когда Чижов лишь номинально участвовал в работе основанных им кредитных учреждений и только ввиду особой важности операции с предоставлением крупной ссуды Путилову явился в этом деле одним из главных действующих лиц. Чижов руководствовался убеждением, что в предпринимательстве «хорошо быть фонарщиком, то есть засветить дело и поддерживать горение, пока это дело не станет крепко на ноги; станет — и довольно. Иначе во всяком промышленном деле через несколько лет… непременно образуется рутина, которая убийственна до крайности… У нас все любят сесть на нагретое место, а не охотники устраивать новое, — а меня калачами не корми, только дай новое, если можно — большое и трудное»[494].
И действительно, «заложив прочный фундамент частному банковскому кредиту в Москве и, можно сказать, во всей России»[495], Чижов передал бразды правления в Московском купеческом банке и Московском купеческом обществе взаимного кредита своим наиболее близким сподвижникам.
При учреждении Московского купеческого банка Чижов обеспечил своего соредактора по «Вестнику промышленности», «Акционеру», «Москве» и «Москвичу» И. К. Бабста членством в правлении, надеясь, что тот в дальнейшем сможет заменить его на руководящем посту. Когда после двухлетнего председательства, сводившегося главным образом к организации ежедневной, текущей банковской работы, Чижов пересел в кресло главы распорядительного и контролирующего органа банка — совета, благодаря его влиянию председателем правления был избран Бабст.
Насколько Иван Кондратьевич, возглавлявший кафедру политической экономии в Московском университете, быстро освоился в новом для себя качестве председателя Московского купеческого банка, прекрасно передают полные сарказма строки из поэмы Н. А. Некрасова «Современники»:
Взаимоотношения Чижова и Бабста были дружественными до конца 1860-х годов. Однако постепенно совместная практика частного предпринимательства выявила значительную несхожесть их натур. Барон Дельвиг вспоминал, что Бабст «относился к своим занятиям не с той любовью, которую ожидал от него Чижов, обходился с подчиненными и даже с публикой в банке по-чиновничьи и сверх того подчас любил выпить лишнее; все эти качества сильно не нравились Чижову», и в начале 1870-х годов между ними произошел разрыв[498].
Вот москвич — родоначальник
Этой фракции дельцов:
Об отечестве печальник,
Лучший тип профессоров,
Встарь он пел иные песни,
Искандер[496] был друг его,
Кроме каменной болезни
Не имел он ничего;
Под опалой в оны годы
Находился демократ,
Друг народа и свободы,
А теперь он — плутократ!
Спекуляторские шутки
Ловко двигает вперед
При содействии науки
Этот старый патриот…[497]
Учреждая другой банк — Московское купеческое общество взаимного кредита, Чижов сразу же стал готовить себе в преемники на пост председателя И. С. Аксакова. Как и в случае с Бабстом, Федор Васильевич, активно поддерживаемый московским купечеством (Т. С. Морозовым, И. А. Ляминым и др.), ввел Аксакова сначала в члены правления, а затем, при продолжительных своих отлучках, стал неизменно поручать Аксакову председательство. К удовольствию Чижова, Аксаков сумел зарекомендовать себя умным и честным руководителем банка. Он прекрасно ладил в правлении со своими товарищами и не имел никаких «фанаберий». «Замечательно, — писал Чижов в октябре 1871 года, — что в слишком двухгодичное наше соработничество в правлении Взаимного кредита у нас ни разу не было ни тени неприятности, не только размолвки»[499].
В 1874 году Аксаков окончательно сменил Чижова в должности председателя правления Московского купеческого общества взаимного кредита.
Глава третья
ЧЕРЕЗ СЕРГИЕВ ПОСАД К ВОЛОГДЕ
От рутины и скуки банковского председательства с его «сухой цифирью и векселями» Чижова влекло к вновь организуемым железнодорожным предприятиям. «Не можешь ты себе представить, — восторженно писал Чижов другу в Англию, — как благотворно действуют железные дороги на Россию. Число пассажиров год от года увеличивается, масса грузов растет не по дням, а по часам. Все это… указывает на увеличение удобства и на удешевление переезда и перевозок товаров; все это показывает, что число учащихся практическому праву равенства сословий растет ежедневно»[500].
С момента завершения строительства Московско-Троицкой железной дороги Чижов не расставался с мыслью о продлении ее до Ярославля, как и было первоначально задумано учредителями. «Эта дорога оживит наш север, даст сбыт хозяйству, основанному на скотоводстве, а скотоводство само собою удобрит поля. Эта дорога переведет многие фабрики из дорогого близмосковского округа в середину лесов и даровой силы вод», — предсказывал Чижов[501]. В то же время он отдавал себе отчет в том, что потребность в железных дорогах при ограниченности финансовых средств может быть удовлетворена только постепенно. Необходим весьма строгий отбор, дабы не затрачивать частных денежных средств и кредитов государства на второстепенные линии, к которым, по его мнению, следовало отнести и железную дорогу от Сергиева Посада до Ярославля, тем более что в этом направлении уже существовало шоссе.
Вопрос о продолжении железнодорожного пути на север был поднят Чижовым лишь три года спустя, в 1865 году, и вынесен на рассмотрение Главного железнодорожного комитета. Хотя доходность Московско-Ярославской дороги не вызвала у членов комитета сомнений, тем не менее в правительственной гарантии ей было отказано на том основании, что она продолжает относиться ко второй сети вновь устраиваемых железнодорожных линий, тогда как к первой, по указанию Императора Александра II, были отнесены пути, соединяющие Балтийское море с Черным и внутренние губернии с морями.
Два года Чижов безрезультатно хлопотал о переводе дороги в первую категорию. Помог случай.
Весной 1867 года Александр II, проезжая с семьей по Троицкой железной дороге в Лавру, поинтересовался:
— Скоро ли путь будет проложен до Ярославля?
«Имея выраженное Государем Императором желание, — с радостью подхватил Чижов оброненную на ходу Царем фразу, — мы вошли с просьбою о разрешении вновь внести в (Главный железнодорожный. — И. С.) комитет вопрос о продолжении пути»[502].
Комитет на своем заседании, состоявшемся 10 ноября 1867 года, признал «совершенно справедливым Московско-Ярославскую железную дорогу перечислить из второстепенных линий в категорию первостепенных». Постановление комитета получило Высочайшее утверждение 17 ноября 1867 года[503].
7 июня 1868 года устав общества Московско-Ярославской железной дороги, по которому разрешался выпуск облигаций на сумму 12 миллионов кредитных рублей с гарантией 5 %-го дохода, был одобрен Императором. Всю организационную работу по сооружению дороги взял на себя Чижов как председатель ее правления. Он принимал деятельное участие в инженерных заседаниях по постройке дороги, писал отчеты, непосредственно занимался раздачей работ подрядчикам, приобретением рельсов, подвижного состава и машин для мастерских. «Дорога меня совершенно оседлала», — жаловался он на свою загруженность в письмах[504].
По совету министра финансов М. X. Рейтерна Федор Васильевич произвел реализацию гарантированного правительством облигационного капитала у английских банкиров «Беринг и К°» через петербургского банкира Виннекепа по 73 % от стоимости облигаций. Эта финансовая операция была признана чрезвычайно удачной, так как незадолго перед этим за аналогичные ценные бумаги давали менее 65 %.
Начавшаяся вакханалия концессионного железнодорожного учредительства открыла богатейший источник для спекулятивной наживы. В условиях, когда правительственные гарантии обеспечивали прибыли и предотвращали убытки частных предприятий, когда благоволение сильных мира сего могло заменить «избранным» миллионные капиталы, фаворитизм и коррупция расцвели пышным цветом. Огромные взятки за содействие в приобретении «лакомых кусков» получали не только высшие чиновники, но и брат Александра II Великий князь Николай Николаевич, а также фаворитка Царя княжна Долгорукая. Разбогатевшие концессионеры, железнодорожные «короли» П. Г. фон Дервиз, К. К. фон Мекк, С. С. Поляков, Л. Л. Кроненберг, И. С. Блиох вместе со своими сановными покровителями просто грабили государственную казну.
Зная не понаслышке о фактах многочисленных злоупотреблений, Чижов продолжал настаивать на гласности в деле строительства, покупки и эксплуатации железных дорог. Высылая одному из друзей свой отчетный доклад общему собранию акционеров Московско-Ярославской железной дороги, Федор Васильевич писал: «…он будет для тебя не очень интересен, но ты увидишь тут одно: что я делаю все непременно гласно, указывая все подробности… Это самая лучшая гарантия справедливости отчетов. К сожалению, постройка железных дорог ввела много мерзостей: строители начали наживаться больше, чем наживались откупщики; изложением всех подробностей в отчете мне хотелось бы показать норму стоимости (строительства. — И. С.). Веришь ли ты, что если бы немного покривить душою, даже и не навлекая на себя ни малейшего общественного нарекания, то при постройке настоящей Ярославской дороги я легко мог бы нажить более 700 тысяч. Потому-то мне и хочется вывести на чистую воду все издержки и не скрывать даже ни одной ошибки и ни одного промаха»[505].
Дорога от Троице-Сергиева Посада через Александров до Ярославля (192 версты) с ветвью к Вологде (4 версты) была открыта 18 февраля 1870 года. Подобно Московско-Троицкой железной дороге, спроектированная и построенная силами русских инженеров, подрядчиков и рабочих, она отличалась дешевизной и хорошим качеством. Касаясь затрат на ее эксплуатацию, Чижов вспоминал, что самые низкие по тем временам расходы на железной дороге составляли 50 % ко всему валовому доходу. И потому, когда при продолжении пути до Ярославля он указал в проекте, что общество намерено издерживать 40 %, министр путей сообщения П. П. Мельников язвительно заметил:
— Да-с, хорошо-с это Вам-с считать в кабинете-с, а на деле-то и пятьюдесятью процентами не обойдетесь!
«Вышло иначе, — не без гордости сообщал Чижов, — мы никогда на Ярославской дороге не переходили за 37 %, а доходили и до 33 % расхода в отношении ко всему валовому доходу. Меня как-то с самого первого года стали очень ценить как директора дороги»[506].
Когда строительство было в самом разгаре, Чижов объявил министру путей сообщения о своем намерении продлить дорогу до Вологды еще на 196 верст. Сооружение этого участка пути он собирался осуществить «новым способом, каким строят в Норвегии», стране, близкой русскому Заволжью по климату. «Это будет дорога узкоколейная и поэтому дешевая, всего тысяч в 25 рублей за версту… Для второстепенных, особенно северных железных дорог, не могущих вынести дороговизну постройки», узкоколейное железнодорожное строительство должно было стать истинным благом[507].
24 июля 1870 года Александр II утвердил дополнительные статьи к уставу общества Московско-Ярославской железной дороги, связанные с продолжением пути от Ярославля до Вологды. Необходимый для этого капитал образовывался путем выпуска облигаций общества на сумму 4 миллиона 400 тысяч металлических рублей, которым даровалась 5 %-ная правительственная гарантия ежегодного дохода со дня выпуска и 0,16 % погашения со дня открытия дороги для движения. Правительство оставляло все облигации общества за собой и обязывалось отпускать за них деньгами из расчета 75 металлических рублей за каждые 100 металлических рублей нарицательного капитала облигаций.
На акции, розданные еще для постройки участка железной дороги от Москвы до Троице-Сергиева Посада стоимостью 3 миллиона 275 тысяч 100 кредитных рублей, было выпущено облигаций на сумму 12 миллионов металлических рублей для продления дороги до Ярославля. Вместе с новым выпуском облигаций под Ярославско-Вологодскую железную дорогу облигационный капитал превысил акционерный в 5,5 раза, тогда как по закону это соотношение не должно было превышать пропорцию 3:1. Возможность строительства узкоколейной дороги от Ярославля до Вологды почти исключительно на одни облигации барон Дельвиг объяснял личным расположением к Федору Васильевичу министра финансов М. X. Рейтерна.
Чижов вполне отдавал себе отчет в том, что движение на новом участке дороги не будет значительным. Тем более что узкоколейный железнодорожный путь отделялся от ширококолейного Волгой, через которую не предполагалось сооружение в ближайшем будущем железнодорожного моста. Однако Чижов сознательно шел на риск. В октябре 1870 года он записал в дневнике: «Когда подумаю, что мы рискуем строить первую узкоколейную дорогу, то просто делается страшно. Зато как при удаче будет важна для России такая дешевизна!»[508]
28 июня 1872 года движение поездов по Ярославско-Вологодской железной дороге было открыто. Как и предполагал Чижов, дорога поначалу оказалась малодоходной: эксплуатация ее не оправдывала затрат, а расходы по ней ложились всей тяжестью на Московско-Ярославскую дорогу, отнимая у нее часть прибыли.
Глава четвертая
ПРИОБРЕТЕНИЕ КУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Заботы Чижова о новой Ярославско-Вологодской дороге сочетались с большим объемом работ по налаживанию дел на Курской железной дороге, приобретенной накануне компанией московских капиталистов. Еще в начале 1860-х годов, принимая участие в обсуждении вопроса о направлении южной железной дороги, Чижов писал о ней как о важнейшей для страны потребности.
Построенная в 1868 году и отданная в эксплуатацию казне, Курская железная дорога, к сожалению, уже на следующий год после своего открытия нуждалась в ремонте и реконструкции. Барон А. И. Дельвиг, которому совместно с товарищем министра путей сообщения графом В. А. Бобринским довелось в начале 1869 года ее инспектировать, был поражен, насколько неквалифицированно и некачественно оказались сооружены на ней железнодорожные пути с прилегающими к ним зданиями и строениями. «Временная пассажирская станция в Москве была чрезвычайно тесна, — вспоминал он, — товарная в Москве не удобна во всех отношениях. Почти все станции при городах бесполезно от них удалены и выстроены дурно, некоторые — на сильных склонах пути, а другие — на низменных местах… В кирпичной кладке главных мастерских оказались трещины… Грунтовые воды стояли в тульских мастерских так высоко, что нижняя часть махового колеса паровой машины была постоянно погружена в воду… Балласт и рельсы следовало заменить новыми на большом протяжении…»[509]
Не имея надежды на то, что дорога при существующих порядках казенного управления может быть значительно улучшена и станет приносить более высокие доходы, в Министерстве путей сообщения и Министерстве финансов пришли к заключению о необходимости передачи ее в частные руки.
После продажи в 1868 году Николаевской железной дороги Главному обществу министр финансов М. X. Рейтерн считал себя в долгу перед московскими капиталистами и предложил им в качестве компенсации приобрести у казны Московско-Курскую железную дорогу.
В 1869 году Чижов, Т. С. Морозов, М. А. Горбов, В. Н. Рукавишников, И. А. Лямин, В. М. Бостанджогло, А. Н. Мамонтов и наследники И. Ф. Мамонтова (С. И. Мамонтов с братьями) образовали Московское товарищество капиталистов для покупки Московско-Курской дороги. Избранный председателем товарищества Чижов стал вести переговоры с правительством для выработки приемлемых для обеих сторон условий.
Товарищество предполагало купить дорогу на капитал, образованный путем выпуска акций и облигаций. Это не устраивало В. А. Бобринского, занимавшего к тому времени пост министра путей сообщения. Он считал, что доходность Московско-Курской железной дороги позволяет найти для казны более выгодных покупателей, способных без выпуска каких бы то ни было ценных бумаг заплатить 50 миллионов рублей золотом, то есть всю ту сумму, которую издержало на дорогу правительство, и уверял, что получил немало подобного рода предложений от англичан.
«С Бобринским говорить трудно, — писал после очередной аудиенции у министра Чижов, в 1830-е годы исполнявший обязанность его домашнего учителя и вынесший из общения с ним невысокое мнение о его умственных и нравственных способностях. — Он считает, что все может сделать своими параграфами устава… Самонадеян страшно, ничего не слушает; забьет себе что-нибудь в голову — на том и стоит». В отличие от Бобринского «Рейтерн — положительно умен, и с ним, если только приобретем его доверие… можно вести дело превосходно»[510].
Между тем в конкуренцию с московскими капиталистами вступило общество Курско-Киевской железной дороги. К Чижову стали являться разные темные личности с требованием миллионов для решения дела в пользу товарищества. По свидетельству Дельвига, Чижов неизменно самым решительным образом обрывал этих господ, заявляя, что не вступит с ними ни в какие сделки, а будет «вести дело чисто». Своих же компаньонов Чижов предупреждал, что если узнает о какой-либо взятке, данной или обещанной ими, то немедленно выйдет из товарищества.
Уверенность Чижова в успешном окончании дела значительно возросла в связи со вступлением в Московское товарищество капиталистов члена совета министра финансов А. А. Абазы: «У него ухо чуткое. К тому же он очень хорошо знает министра финансов, следовательно, если было бы другое общество, более сильное, он вошел бы туда… Во всяком случае, без уверенности в нашем значении он не вступил бы к нам»[511].
После того как в феврале 1871 года правление общества Курско-Киевской железной дороги уведомило В. А. Бобринского о том, что оно не находит для себя выгодной покупку Московско-Курской железной дороги на условиях, предложенных Московскому товариществу капиталистов, в мае того же года Чижову при активном содействии А. А. Абазы[512] и А. И. Дельвига удалось наконец добиться одобрения в Комитете министров устава акционерного общества для приобретения и эксплуатации Московско-Курской железной дороги, образованного на основе товарищества. Обеспечив накануне выполнение принимаемых обязательств залогом в 500 тысяч рублей, общество рассчитывало в течение 81 года эксплуатации дороги производить оплату процентов и погашение облигационного капитала по 2 миллиона 126 тысяч 904 металлических рубля ежегодно и, кроме того, обязывалось в ближайшие шесть месяцев внести в казну за акции дороги 11 миллионов кредитных рублей. Заплатить правительству эту сумму общество смогло путем займа, предоставленного на 18-летний срок банками «Беринг и К°» в Лондоне и «Гопе и К°» в Амстердаме через посредничество петербургского банкира Виннекепа. Кредиторами было поставлено условие: в течение всего того срока, пока будут производиться выплаты по займу, акции Курской железной дороги должны оставаться неприкосновенными и лишь через 18 лет, в октябре 1889 года, могут быть пущены в продажу и обращены в деньги. Полученная в результате этой операции сумма, в соответствии с предварительным соглашением с учредителями, распределялась следующим образом: все компаньоны получали по одной доле, за исключением Чижова и Абазы, которые, в силу их более значительного участия в деле, получали по две доли.
Забегая вперед, скажем, что когда в 1889 году правительство выкупило Московско-Курскую железную дорогу обратно в казну, на имя уже умершего к тому времени Чижова оказались отложенными более 6 миллионов рублей, которые по его завещанию пошли на строительство пяти профессионально-технических учебных заведений на его родине, в Костромской губернии.
Глава пятая
ОБЩЕСТВО ДОНЕЦКОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ДОРОГИ
До конца жизни Чижов оставался бессменным председателем правления Московско-Курской железной дороги. Яркий организаторский талант Федора Васильевича проявился на этом поприще в полной мере. «Его общественное значение росло; он пользовался неограниченным доверием за границей; его имя было и перед русской высшей администрацией ручательством за успех и правильное ведение всякого дела», — говорил о Чижове И. С. Аксаков[513].
Неудивительно, что адмирал Н. К. Посьет, находившийся в дружеских отношениях с бароном Дельвигом, вступив в июле 1874 года в должность министра путей сообщения, пригласил Чижова в Петербург — занять место товарища министра. Отвергнув это весьма лестное предложение, Федор Васильевич тем не менее согласился стать агентом министра в деле организации акционерного общества давно утвержденной Императором Александром II Донецкой каменноугольной железной дороги. Она должна была иметь протяженность примерно в 500 верст, соединяя Донбасс с Мариупольским портом. Ее строительство существенно ускоряло промышленное развитие этого чрезвычайно перспективного в хозяйственном отношении района. В задачу Чижова входил подбор концессионеров, которые могли бы выполнить работы экономно и качественно и вместе с тем ограничились бы небольшими дивидендами.
Костяк будущей акционерной компании Чижов решил составить из членов общества Московско-Курской железной дороги, предварительно исключив из него «стариков»: себя, А. А. Абазу и В. Н. Рукавишникова — и введя на их места троих «техников без капитала»: архитектора И. В. Штрома, инженера В. А. Шмита и инженера П. З. Клевецкого. Таким образом, считал Чижов, составилось бы общество из «специалистов» и «капиталистов», то есть из труда и капитала.
Однако не все оказалось так просто, как представлялось вначале. «Капитальные люди», на которых рассчитывал Чижов, то давали согласие быть в числе учредителей, то заявляли о своем выходе из общества ввиду незначительности предстоящих барышей. И это происходило в то время, когда «третье сословие» наконец-то стало все явственнее обнаруживать свое самосознание, превращаясь из «сословия в себе» в «сословие для себя», что было наглядно продемонстрировано на состоявшихся в 1876 году выборах в гласные Московской городской думы. Купцы, как свидетельствовал Чижов, «просто-запросто сговорились не выбирать никого, или почти никого, кроме купцов… В последнее время они сами вошли в силу и потому им ненавистна всякая иная сила!»[514]
В дневнике Чижова середины 70-х годов появляются записи, говорящие о его глубоком разочаровании в купцах как гармоничных людях будущего славянского периода истории и их способности воплотить в жизнь славянофильский идеал обновленной России. «Общество обмелело, — сетовал Чижов. — Дворянство уже совершенно исключилось из жертвователей, к купцам не знаешь как подойти, кроме пути их личных выгод, и то самых осязательных»; «Много мы (с А. Ф. Тютчевой-Аксаковой. — И. С.) говорили о нашем купечестве: страшная неразвитость понятий о чести, понятий о честности… От простоты крестьянства отстали и стали посреди — между небом и землею»; «Каждое отдельное сословие… имеет весьма узкий взгляд в своем деле, весьма эгоистичный, но едва ли купцы не более всех богаты такою узостью… Редко где так развито эгоистическое чувство самозащиты, как в купечестве»; «Люди промышленные всегда всего прежде видят себя, свою выгоду»[515].
В конце концов Чижову все же удалось составить акционерное общество, в члены которого вошли С. И. Мамонтов, К. Т. Солдатенков, братья Крестовниковы, Е. И. Барановский, И. В. Штром, В. А. Шмит, П. З. Клевецкий, И. Ф. Рерберг, Н. М. Боршовский, Н. В. Лепешкин и торговый дом «Вогау и К°». В то же время он отказал пожелавшему участвовать в предприятии В. А. Кокореву, с которым разошелся со времен неудачной покупки Николаевской железной дороги. Тогда Кокорев, приглашенный принять участие в деле, поспешил с сепаратной спекуляцией и тем самым значительно понизил конкурентоспособность Московского товарищества капиталистов. С тех пор Чижов называл его не иначе как «аферистом-предпринимателем». «Кокорев умен, добр, энергичен, — писал Чижов, — но дел с ним я никогда вести не буду, потому что для него все средства позволены… <а> законность — решительно пустое слово»[516]. Как и в отношении Путилова, в Кокореве Чижову претила необузданность «грандиозных фантазий и чисто американских затей»: «…Тут ни о каком нравственном чувстве нет и помину. Ни одному слову ни того, ни другого нельзя дать веры ни на одну копейку»[517].
Всеми силами Чижов стремился привлечь в число учредителей Общества Донецкой дороги И. С. Аксакова. К сожалению, друг-славянофил не обладал достаточным предпринимательским чутьем и сметкой и, пускаясь в самостоятельные торгово-промышленные авантюры, все сильнее запутывал свои денежные дела. В начале 1874 года он стал скупать акции банков по повышенной цене на заемные деньги и в конце концов оказался должен под залог процентных бумаг почти полмиллиона.
Чижов принял близко к сердцу этот очередной промах Аксакова, грозивший Ивану Сергеевичу банкротством и потерей председательского кресла в Московском купеческом обществе взаимного кредита. «Тут нет никакого бесчестного поступка, а просто глупое увлечение игрока», — пытался найти объяснение неудачам Аксакова Чижов[518]. Будучи «теперь в состоянии вытаскивать из беды таких почтенных приятелей, каков Аксаков», он постарался совместно с Ю. Ф. Самариным распутать это непростое дело. Как нельзя кстати пришлось здесь учреждаемое Общество Донецкой железной дороги.
«Я ему предложил участвовать, — записал Чижов в дневнике после беседы с Аксаковым, — разумеется, он согласился, потому что так ли, сяк ли, непременно желает освободиться от долгов, а их довольно. Я уже говорил об этом Барановскому, надобно, чтоб он предложил общему собранию; имя Аксакова вполне честное»[519].
В связи с тем, что организация акционерного Общества Донецкой железной дороги во главе с молодым Саввой Ивановичем Мамонтовым слишком затянулась, правительство объявило торги на концессию, и Чижову с его подопечными пришлось преодолевать конкуренцию 42 компаний. Среди наиболее сильных соперников оказался Бабст, за спиной которого скрывался бывший водочный откупщик и мелкий строительный подрядчик, а ныне миллионщик и железнодорожный «король» Самуил Соломонович Поляков. В 1860–1870-х годах он вместе с братом, крупнейшим банковским дельцом Лазарем, развернул широкое спекулятивное грюндерство. Стремясь избежать конкуренции и непредвиденных осложнений, Поляков строил железные дороги с большой торопливостью и непревзойденной быстротой, но крайне некачественно, буквально на «живую нитку». Он обходился без каких бы то ни было искусственных сооружений, мостов, тоннелей, без больших насыпей и кюветов, рельсы укладывались чуть ли не на грунт. Большая часть работ обычно велась без утверждения проектов, с невероятно раздутыми сметами. Тем не менее, пользуясь покровительством высокопоставленных лиц, он имел репутацию одного из лучших железнодорожных строителей в России, за что получил орден Святого Владимира 3-й степени, один из высших чинов в государственной Табели о рангах — чин тайного советника, личное дворянство и жил в столице с большой пышностью в приобретенном у графа Борха фешенебельном особняке на Английской набережной, близ зданий Сената и Синода. Впоследствии именно на построенной Поляковым Курско-Харьково-Азовской дороге, под Харьковом, близ станции Борки, произойдет крушение поезда, в котором будет возвращаться из Крыма в Петербург Император Александр III с семьей…
Тем временем против организованного Чижовым Общества Донецкой железной дороги в петербургской торгово-промышленной среде и прессе была развернута широкая кампания, направленная на его дискредитацию. «На Петербургской бирже, — сообщал Федор Васильевич, — распространился слух, что я только видимо не участвую в этом деле, а, собственно говоря, мы с Дельвигом участвуем тайно и берем себе половину барышей. Ничего не могу возразить, — кто же из них поверит тому, что я только хочу непременно провести систему честной постройки, хлопочу единственно для проведения этой системы и более ни для чего. Всякий судит по-своему. Что скверно, это то, что вряд ли источником такого слуха был не Кокорев»[520].
С большим трудом, не без покровительства Н. К. Посьета, акционерное общество во главе с С. И. Мамонтовым, объединившее московскую торгово-промышленную элиту, в начале 1876 года получило концессию на строительство Донецкой каменноугольной железной дороги.
«Дело Донецкой дороги кончено, она остается за Мамонтовым, — с удовлетворением записал в дневнике Чижов. — Это щекочет мое самолюбие: это, дескать, потому, что ты тут действовал… Я знаю, что в этом составе общества постройка будет честною и ведение дела тоже будет честным, а Бабст был ширмою Полякова, эксплуатирующего русские железные дороги в свою личную пользу»[521].
Глава шестая
И ВНОВЬ — БАЛКАНЫ
Как и в канун революционных событий 1848 года в Западной Европе, когда славянский вопрос приобрел небывалую до этого политическую остроту, Чижов в 1850–1870-е годы продолжал с неослабевающим вниманием и сочувствием следить за ходом славянского освободительного движения в землях Габсбургской и Османской монархий.
Любопытен такой эпизод. Выйдя на свободу в июне 1848 года после заключения в Третьем отделении, Чижов получил назад свои вещи и венскую коляску, в которой он в мае пересек границу Российской империи. Коляску эту он нанял за несколько станций до Радзивилловской таможенной заставы, еще в австрийских землях: некая местная еврейская депутация на полуславянском-полунемецком наречии предложила ему продолжить путь не на тряских почтовых таратайках, а в покойном рессорном экипаже в сопровождении провожатого, который должен был по прибытии на место назначения доставить коляску обратно.
На границе Чижова окружили жандармские офицеры с саблями наголо. Не ожидавший такого поворота событий провожатый проворно соскочил с козлов и бесследно исчез, а арестованный Федор Васильевич все в том же арендованном им экипаже был доставлен для допросов в Петербург, в Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Каково же было его удивление, когда, освободившись после двухнедельного заключения, он обнаружил в тайнике возвращенной ему коляски… три тысячи аршин лучшего голландского полотна! Тут-то и пришла догадка: он стал слепым орудием контрабандистов, которые вознамерились под прикрытием возвращавшегося на родину солидного профессора провезти беспошлинно через границу свой товар.
Тщетно, в течение ряда лет, Чижов пытался списаться со станцией, на которой повстречал «услужливую депутацию», давал многочисленные объявления в иностранные газеты. Владельцы экипажа не объявлялись. На четвертый год безуспешных поисков он продал бесхозное транспортное средство вместе с контрабандным грузом, а вырученные деньги направил в созданное накануне Пражское славянское благотворительное общество.
Начавшаяся в 1853 году Крымская война была воспринята Чижовым как «война между Россией и Европой», война между двумя враждебными принципами, в результате которой весь славянский мир получит освобождение и настанет новая эра в истории человечества.
Неудачный ход военных действий оказался для Чижова во многом неожиданным. Чуть ли не до последнего дня войны его не покидала уверенность в окончательной победе России. Это была скорее мистическая вера, нежели трезвая оценка военного и экономического потенциала страны. В начале сентября 1855 года Чижов писал: «…в Севастополе плохо, наши оставили часть укреплений и их взорвали. Трудно, чтобы Севастополь устоял, а все-таки кажется, что конец войны будет в нашу пользу… Так следует… из общих исторических начал». И позднее: «…я не только не отчаиваюсь, а имею полную и несомненную надежду и веру, что война кончится в нашу пользу»[522].
Поражение в Крымской войне обнажило экономическое отставание России от ведущих стран Запада и потребовало от правительства подчинения внешнеполитических задач проблемам внутреннего развития страны. Реальный взгляд на соотношение сил на Балканах определил тактическую линию внешней политики России на ближайшие после Парижского мира годы: отказ от военных средств в решении «восточного вопроса» и усиление нравственного воздействия на находящееся под властью Австрии и Турции славянское население. Этому должно было способствовать создание общественной неправительственной организации, занимающейся развитием неофициальных контактов с зарубежными славянами.
Задачам русской дипломатии как нельзя лучше отвечал просветительно-благотворительный Славянский комитет, стихийно возникший в славянофильской среде еще в годы войны. 26 января 1858 года он был преобразован в Московский славянский благотворительный комитет, о котором подозрительный сверх всякой меры московский генерал-губернатор Закревский докладывал в Петербург как о «тайном обществе». В числе организаторов комитета были братья А. П. и Д. П. Шиповы, И. С. Аксаков, М. П. Погодин, М. Н. Катков, В. А. Кокорев. Активнейшее участие в его создании принял Чижов.
Если прежде помощь России православному населению Балкан носила единичный характер[523], то теперь стало возможным систематически осуществлять частную благотворительность и даже превратить ее в политическое дело. Фонд Славянского комитета складывался из ежегодных взносов его членов, личных пожертвований, а также пособий от Императрицы Марии Александровны и Министерства народного образования. Собранные средства направлялись на помощь православным церквам, школам, народно-просветительным учреждениям в славянских землях; на эти деньги молодые болгары и сербы получали образование в Московском университете и Духовной академии.
С самого основания Московского славянского благотворительного комитета руководящая роль в нем принадлежала славянофилам. В их печатных органах — газете «Парус», издаваемой специально для распространения в славянских странах, и журнале «Русская беседа» — подробно рассказывалось о деятельности Славянского комитета и пропагандировались его задачи. Однако недреманное око цензуры зорко следило за политической линией, проводимой в славянофильской периодике.
29 января 1859 года «Парус» под редакцией И. С. Аксакова «за обнаруженное предосудительное направление» был прекращен. Это вызвало негативную реакцию в славянской среде, и Александр II высказал министру иностранных дел князю А. М. Горчакову пожелание, чтобы в самое ближайшее время началось издание новой еженедельной газеты — «с целью поддержать и развить сочувствие соплеменных нам славян».
Стать редактором нового органа было предложено Чижову. В аттестации, представленной князю Горчакову директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел Е. П. Ковалевским, Чижов характеризовался как человек, «известный в ученом мире разработкой славянских материалов и другими замечательными статьями»[524]. Но Федор Васильевич в это время уже вовсю редактировал журнал «Вестник промышленности», а потому соглашался принять поступившее из Петербурга предложение лишь в случае, если новая газета «будет спасенным „Парусом“», и в письме к Ковалевскому изложил программу будущего издания под предположительным названием «Пароход».
Программа «Парохода» была аналогична программе аксаковского «Паруса», то есть с включением политических вопросов. С этим категорически не согласился Совет министров. Основываясь на замечаниях, сделанных наместником Царства Польского князем М. Д. Горчаковым, он обязал новое периодическое издание иметь чисто учено-литературный характер и не вмешиваться в современную международную проблематику. «Распространение права самобытного развития славянских народностей в государствах чужеземных, — говорилось в постановлении, — может быть в некоторых случаях противно видам русской политики и принято за пропаганду, чего наше правительство отнюдь не желает».
Разумеется, на предложенных условиях издавать газету Чижов не согласился[525]. Вскоре отдел славянских известий в виде, нужном правительству, был открыт в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Как член Славянского комитета, Чижов делал все возможное, чтобы расширить торгово-экономические связи русских купцов со славянами Балканского полуострова, привлекал к сотрудничеству в «Вестнике промышленности» славянских публицистов. Среди его заграничных корреспондентов встречается имя словенского национального деятеля В. Клуна, успешно сотрудничавшего до этого в «Русской беседе»[526]. В 1858 году Чижов опубликовал в своем журнале четыре очерка Клуна, которые содержали детальный разбор состояния торговли и промышленности в Австрийской империи. Автор поднимал в своих статьях проблемы, близкие и понятные русскому читателю: борьба за гражданские права и свободы, защита большей предпринимательской самостоятельности, требование отмены разорительных таможенных тарифов, положительные последствия реформы 1849 года, уничтожившей в Австрии крепостное право[527].
Желая еще более приблизить проблематику корреспонденций Клуна к современной российской действительности, Чижов в примечании от редактора перечислил разного рода трудности, с которыми сталкивалась австрийская (читай: наша, отечественная) промышленность и промышленники — архаичность коммерческого и банковского устава, злоупотребления полиции, бюрократический формализм, неразвитость системы кредита, плохое состояние путей сообщения. Здесь же Чижов изложил свои взгляды на положение славян в Австрийской империи, о чем Клуну приходилось говорить лишь намеками. «Правительство в Австрии, — писал Чижов, — не есть сосредоточенная власть всего народа, народ не есть целое органическое тело, повинующееся власти… Нет, тут правительство — властитель, граждане… — управляемые; первое — завоеватель… вторые — масса завоеванных, едва только не скованных по рукам и ногам рабов… Обыкновенно чреволюбивые австрийцы в утешение угнетенным говорят, что оковы в Австрии нетяжелы; но дело не в том, тяжелы ли оковы, а в том, что их носят; позор не в весе цепей, а в их бряцании; им уничтожается и самая мысль о человеческом достоинстве и неразлучных с ним свободе мысли и свободе слова»[528].
Восстание в Царстве Польском 1863 года Чижов воспринял в соответствии с традиционным, разработанным еще «столпами» славянофильства (А. С. Хомяковым и И. В. Киреевским) противопоставлением России, хранящей в среде народа верность основным началам славянской жизни (Православию и общинной демократии), — Польше, поддавшейся влиянию Запада и перенявшей от него католичество и дух аристократического высокомерия. Имеющее вселенский смысл противоборство России и Польши, по его мнению, непременно разрешится в пользу России не с помощью насилия и карательных мер, а путем нравственного примера при условии, если краю будет предоставлено право на самостоятельное развитие и самоопределение.
В ходе польского восстания часть славянофилов, а именно трое из них: князь В. А. Черкасский, А. И. Кошелев и Ю. Ф. Самарин — оказались в плену великорусских настроений, охвативших лагерь либералов. На посту директора Комиссии внутренних дел Царства Польского князь Черкасский при деятельной поддержке Самарина разработал проект аграрной реформы, призванной, как считал Чижов, расколоть польское общество и изолировать крестьян от шляхтичей — лидеров восстания. «В Польше, — писал Чижов, — чтобы навсегда разъединить крестьянина с помещиком, он (князь Черкасский. — И. С.) в помещичьих лесах предоставил пастьбу скота крестьянам… Вражда между крестьянами и панами есть твердый оплот для России в Польше; но… рассевать семя такой вражды — чем ни оправдывай, все гадко»[529].
Еще накануне отъезда в Польшу князь Черкасский звал Чижова с собой — занять место попечителя финансов, которое через полгода предполагалось переименовать в должность главного директора (министра) финансов. Но Чижов ответил категорическим отказом, заявив, что «не хочет марать свое имя званием палача»[530]. И тогда вместо него в Варшаву отправился А. И. Кошелев.
Из оставшихся в Москве славянофилов схожую с Чижовым позицию в вопросе о независимой Польше занимал один В. А. Елагин. Аксаков же колебался, склоняясь к компромиссу. Чтобы сгладить разногласия между членами кружка, он, с одной стороны, убеждал Чижова и Елагина в необходимости «стать под знамя правительства для защиты русской земли от внешних врагов»; с другой — предостерегал славянофилов, действовавших в Польше, от опасности «перейти черту возможной поддержки правительства», так как «народное[531] дело мало выиграет от этой поддержки… а выиграет и разовьется немецко-императорский либерализм»[532].
Чижов был возмущен двойственностью позиции Аксакова и требовал от него определенности. «Сегодня был у меня… Елагин, — записал Федор Васильевич в своем дневнике 18 мая 1864 года. — Много толковали мы о том, что… Аксаков поступает дурно, поддерживая солидарность с Кошелевым и Черкасским как представителями славянофильских убеждений. Многие уже говорят о том, что теперь Москва перешла в Варшаву, тогда как это не Москва и никак не представители славянофильства, но его ренегаты. Я думаю сделать на них намек, писавши об Иуде Искариотском» (в это время Чижов работал над статьей о только что законченной Николаем Ге картине «Тайная вечеря»)[533].
С течением времени, когда волна восстания в Царстве Польском пошла на спад, Аксаков занял более взвешенную позицию, перейдя на сторону Чижова и Елагина. И хотя в дальнейшем в отношениях между славянофилами наступил период потепления, воспоминания о былой неприязни остались. В частности, Чижов до конца своих дней продолжал недолюбливать князя Черкасского и Кошелева.
В мае 1867 года в Москве проходила этнографическая выставка славянских народов, устроенная по инициативе Славянского комитета. На ее фоне было решено созвать Первый славянский съезд. Активное участие в его организации и проведении приняли славянофилы: Самарин, Аксаков, Чижов, а также близкий к ним Погодин.
В Москву на съезд представителей общественности от западных и южных славянских земель было приглашено более 80 человек, в том числе 27 чехов и 30 сербов. Поляки на съезде отсутствовали. Повестка дня включала два основных вопроса: о славянском единстве и взаимности и о русском языке как общеславянском.
Чижов воспринял факт созыва «всеславянского собора» как небывалое событие в истории славянского мира. В своем выступлении на съезде он с горечью говорил об общеславянском грехе забвения своих корней: «Мы перенесли иго иноземное, пережили вражды междоусобные, подверглись всем кровопролитиям внутренних гражданских бед, — все мы вытерпели, все перестрадали, но несмотря на все страшные страдания было у нас одно, что оставалось неприкосновенным, — это наша народность, наша народная крепость и цельность». Однако западноевропейское «цивилизаторское» нашествие поколебало национальное самосознание славян. «Европа за свои богатые дары взяла с нас страшную цену, цену презрения к нашей народности. Все славяне в этом виноваты: и чехи, и сербы… но более всех виноваты мы, русские… мы не знаем своего простого народа… мы чужды нашей народности».
Возрождение идеи всеславянства проходило мучительно долго. Славянские народы буквально пробивались навстречу друг другу. «Судьба послала мне на долю, — вспоминал Чижов, — быть в славянских странах тогда, когда только… появилась идея славянского племенного братства… С другой стороны, я имел счастье… принадлежать к тому небольшому кружку москвичей, которые… носили в сердце своем идею славянства, постоянно ее проповедовали словом и жизнью и много за нее пострадали».
Славянский съезд в Москве, по мнению Чижова, знаменовал собой как бы рубеж в этом процессе. Закончился период «страданий, терпений и тайного существования идеи славянского братства, потому тайного или полутайного, что эта идея была постоянно, везде гонима и преследуема». С приездом «наших братий славян… начинается второй период исторического развития идеи славянского братства», уже не тайного, а явного и «всеслышимого», который, если и не будет сопровождаться действительною вооруженною борьбою, то непременно — борьбою духовною[534].
Чижов был убежден, что славянские народы могут обрести свою долгожданную независимость только на основе самоопределения. Инициатива же в решении этого вопроса должна была исходить от России — единственного могущественного славянского государства. Об этом же заявляла, подводя итоги съезда, и газета «Москва»: «Опасения <по поводу образования> всемирно-славянской монархии лишены всякого основания»[535].
В середине 1870-х годов славянский вопрос вновь оказался в центре внимания мировой политики. Весной 1875 года в Боснии и Герцеговине вспыхнуло восстание, которое затем перекинулось на другие балканские провинции Османской империи. Эти события дали толчок развитию в России мощного движения в защиту славян. Оно нашло живой отклик как в либеральных кругах, так и в среде «левой», революционной и народнической, оппозиции. Однако лидеры радикального крыла народничества — М. А. Бакунин, П. Л. Лавров и П. Н. Ткачев — недооценивали значение освободительной борьбы славян и предостерегали от участия в ней. Они опасались, что открытое сопротивление турецкому владычеству затормозит социальную революцию, которая по их подсчетам вот-вот должна была вспыхнуть на Балканах. Кроме того, они были убеждены, что выезд на театр военных действий ослабит протестное движение внутри самой России.
Вместе со своими единомышленниками Чижов всеми силами стремился преодолеть дезорганизующую пропагандистскую кампанию лидеров «левых». Еще до Высочайшего разрешения начать сбор средств в пользу герцеговинцев он предпринял ряд конкретных шагов для оказания нелегальной помощи восставшим[536].
Когда в середине сентября 1875 года отставной генерал-майор М. Г. Черняев прибыл в Москву, чтобы найти средства для снаряжения роты добровольцев в Черногорию, Аксаков как председатель Московского славянского комитета обратился за помощью к купечеству через посредничество Чижова. «Внимательно и сурово выслушав меня, — вспоминал Аксаков, — этот убеленный сединами практик прямо ответит мне, что дело это надо постараться непременно исполнить. „Будет ли, не будет ли от этого польза для герцеговинцев, — сказал он, — это другой вопрос: главное в том, что такой поступок со стороны русского общества поднимет его собственный нравственный уровень, возвысит его в собственном сознании, выбьет из пошлости, которая его душит“»[537].
Чижов познакомился с генералом Черняевым еще в 1867 году, когда знаменитый на всю страну «завоеватель Ташкента» военный губернатор Туркестанской области оказался в опале и влачил в Москве едва ли не нищенское существование. Естественно, Чижов не мог оставаться безучастным к судьбе попавшего в беду национального героя и сделал все от него зависящее, чтобы облегчить его участь[538].
В начале 1870-х годов Черняев возглавил редакцию газеты «Русский мир». Для повышения ее тиража боевому генералу приходилось вновь и вновь, заручившись поддержкой Чижова, обращаться за денежной помощью к московским купцам, обещая им сделать газету выразительницей интересов русской торговли и промышленности.
Переговоры Чижова с генералом Черняевым о сборе средств для нужд русского добровольческого движения в помощь югославянам состоялись на квартире у Ивана Сергеевича Аксакова 17 сентября 1875 года. Черняев объявил, что готов отправиться на Балканы с группой из десяти офицеров и пятидесяти солдат-волонтеров. Последних он намеревался переправить через границу в виде слуг или частных проезжих. По его подсчетам, затраты на экипировку солдат, их вооружение и содержание в течение трех месяцев должны были составить сумму в 70 тысяч рублей[539].
Поначалу Чижов скептически отнесся к планам Черняева. «Все это прекрасно, отважно, но, кажется, не более, — передавал он свое впечатление от встречи. — Мне <во> все это не верится. Не верится, во-первых, <в> то, что мы сумеем собрать 70 тыс. в небольшом кружке, потому что все это надобно хранить в тайне. Потом не могу взять в толк, чтоб таким ничтожным вспоможением можно <было бы> перетянуть силу на свою сторону»; «Боюсь… чтоб это не оказалось фиаско и чтоб не сделалось смешным. Особенно боюсь за Черняева… его имя популярно, с его именем соединяется понятие о русском храбром генерале, и кончить детскою шуткою было бы страшно совестно»[540].
Тем не менее Чижов стал вести переговоры с И. А. Ляминым, Т. С. Морозовым и А. И. Хлудовым. Но они, к сожалению, не дали сколько-нибудь значительных результатов. «Мне кажется, — замечал по этому поводу Чижов, — что успех не может быть даже от того, что мы, немногие, взявшие на себя проведение этого дела, сами не верим его успеху…»[541]
И действительно, попытка вмешаться в ход событий на Балканах имела на тот момент весьма ограниченный характер и из-за необходимости действовать тайно широкой общественной поддержки не получила. В итоге экспедиция Черняева осенью 1875 года так и осталась неосуществленной.
Прошло совсем немного времени, и под давлением «снизу» официальный Петербург все же был вынужден перейти от тактики выжидания к активным действиям. Благотворительные комитеты, возникшие после Славянского съезда 1867 года во множестве городов по всей стране, получили наконец Высочайшее разрешение производить сбор пожертвований в пользу восставших. К весне 1876 года призыв о содействии южным славянам не только финансами, но и прямым участием в их освободительной борьбе был услышан в обществе, и 7 апреля 1876 года на деньги, собранные Московским славянским комитетом, генералу Черняеву удалось в конце концов нелегально выехать на Балканы.
В Болгарии в это время было поднято восстание, которое войска Порты подавили с невероятной жестокостью. Сербия и Черногория, поддерживавшие повстанцев, в июне 1876 года объявили войну Турции. Во главе сербской армии стал генерал Черняев, принявший сербское подданство.
В конце июля Император Александр II санкционировал предоставление отпусков русским офицерам для участия в военных действиях в Сербии, и добровольческое движение, а также сбор пожертвований в пользу славян начали приобретать значительный размах.
Чижов, вернувшись в Москву со своих шелковичных плантаций на Украине, зашел в Общество взаимного кредита и был совершенно поражен множеством народа, толпившегося у дверей банка. Оказалось, что все они пришли на прием к председателю Московского славянского комитета Ивану Сергеевичу Аксакову с одной целью — для записи в волонтеры.
«Воодушевление сильное, — отмечал Чижов, — Аксаков работает до изнеможения… С утра до вечера к Аксакову являются солдаты, мещане, предлагающие отправить их в Сербию… Только входишь — куча тюков, посылок, ящиков, как будто в почтамте. Это все пожертвования славянам. Ежедневно — груда конвертов с деньгами, в иной день доходит до 13 000… Завидна такая деятельность»[542].
По данным Аксакова, с 1 сентября 1875 года по 22 октября 1876 года только в Московский славянский комитет поступило от населения более 700 тысяч рублей, а общая сумма пожертвований по стране за этот же период составила 3 миллиона рублей. Причем «две трети пожертвований, — свидетельствовал Иван Сергеевич, — внес… бедный, обремененный нуждою простой народ»[543].
То, что основная масса жертвователей была из неимущих слоев населения, подтверждает и полицейская сводка по Клинскому и Волоколамскому уездам Московской губернии. «…Самые жертвователи денег на славянское дело, — говорилось в ней, — нуждаются в еще большей помощи, чем те славяне, которым они отдают последний свой трудовой грош»[544].
Даже игнорировавший движение солидарности с борющимися славянскими народами граф П. А. Валуев, в это время министр государственных имуществ, вынужден был признать: «Все бредят „южными славянами“»[545].
События на Балканах и отклик на них в России вызвали у Чижова огромный прилив энтузиазма. Для него такое воодушевление народа было сродни особо чтимым славянофилами событиям 1611–1613 годов. Тогда борьба против иноземных захватчиков приняла в России характер всенародного патриотического подъема, закончившегося изгнанием интервентов и созывом Земского собора. В русле подобного восприятия — дневниковая запись Чижова от 29 августа 1876 года: «Вчера была сильная демонстрация на Тверской: народу… были тысячи, все кричали „ура“ на Смоленском поезде, на котором везли знамя Сербии, после народ пошел к монументу Минина и Пожарского и там пели гимн. Ожил монумент; ожила и память о бывших бедствиях России… Народ понимает шире и сердце его охватывает область обширнее, чем дипломатические соображения и политические разделы: народ, читая о страшных бедствиях сербов, кричит: „наших бьют“; для него „единство веры“ не пустой звук, „единство языка не предмет тешенья и единство племени не этнографический признак“, — для него все это единство существа, единство жизненного начала…»[546]
В конторе Московского купеческого общества взаимного кредита, где располагался филиал Славянского комитета, Чижов взял на себя часть организационной работы, облегчив тем самым положение загруженного сверх всякой меры Аксакова. На Московско-Ярославской железной дороге, в правлении которой Чижов председательствовал, по всем станциям были расставлены кружки для сбора пожертвований, а служащие дороги положили за правило отчислять до конца войны по одному проценту от своего жалованья в пользу южных славян[547].
Федор Васильевич высказался однозначно в поддержку просьбы сербского правительства к русскому предоставить ему для ведения военных действий четырехмиллионный заем; выделяемую казной сумму предполагалось замаскировать под кредит, произведенный частными банками и лицами.
Однако, несмотря на разностороннюю помощь России, положение югославян продолжало оставаться сложным. «Бедствия усиливаются, — с тревогой записывал в дневнике Чижов, — мирных граждан, женщин и детей… турецкие мусульмане режут и истязают… К туркам беспрестанно идут подкрепления отовсюду; англичане помогают им деньгами и поддерживают надеждами». В то же время вдохновленные поддержкой русского общества «сербы дерутся превосходно… Наши офицеры сильно помогают, при них сербское войско и сербская милиция стали иными…»[548]
По мере того как сербско-черногорско-турецкая война затягивалась, Чижов приходил к выводу, что без официальной помощи русского правительства восставшим победить будет трудно, и осуждал Александра II и его окружение за нерешительность. «До какой степени Ив<ан> Сергеев<ич>[549] вошел в дело славян, — этому просто надобно удивляться…
Он действительно стал у нас министром по сербским делам, только при народе, а не при Царе… Царь избегает войны всевозможным и даже неприличным образом… Действия нашего правительства решительно непостижимы: Царь смотрит на все, как бы ничего не зная, допускает все и ни в чем не принимает деятельного участия. Трусость ли это? совершенное ли равнодушие ко всему? или, наконец, хитрость?.. Милютин[550]… утверждает, что ему нужно еще 6 лет, чтоб поставить войско совершенно готовым к войне. Это после 20 лет мира, с огромными затратами денег!» «Доведет нерешительность, трусость и колебание нашего правительства до того, что вызовет внутренние беспорядки. Побьет толпа полицию…»[551]
С лета 1876 года военное министерство России, оказавшееся, по образному выражению Чижова, «на буксире у настроения народного»[552], начало готовиться к войне. В октябре 1876 года, когда положение войск генерала Черняева на Балканах стало особенно трудным, русское правительство в ультимативной форме потребовало от Турции в течение 48 часов заключить двухмесячное перемирие с Сербией, угрожая в противном случае войной. Ультиматум был принят. И все же война России с Османской империей неминуемо приближалась, становясь неизбежной.
К зиме 1876/77 года Чижов стал все более отходить от воинственной позиции, склоняясь к предпочтительности мирного урегулирования конфликта. «Говорят, и между ними И. С. Аксаков, что будет война, — писал он, — говорят потому, что желают войны. Положим так, что без войны нельзя ожидать полного разрешения „восточного вопроса“ и, следовательно, освобождения южных славян от турецкого ига… <но> если будет война, она едва ли останется в пределах наших турецких границ… Опять сотни тысяч жертв; опять наше домашнее устройство остановится… Война? кто что ни говори, а все-таки гибель. Мир?.. — стоячее болото внутри и страдание кровных братий — вне. России нужно встрепенуться; нужно порастрясти ее сонное спокойствие. Началась было деятельность. Суды, земство, все двинулось, — и на первом движении впало в свою обычную сонливость… в ту пакость злоупотреблений, которые издавна укоренились на русской почве: взяточничество, только, может быть, в иной форме; холопство страшнейшее… апатия, безучастие ко всему общественному, наконец, страшнейшая несостоятельность как правительственная, так и общественная»[553].
Помимо причин чисто гуманного свойства Чижов основывал свои опасения в связи с войной на знакомстве с положением дел в финансовом ведомстве России. В середине декабря 1876 года им было получено конфиденциальное письмо от министра финансов М. X. Рейтерна, в котором тот сообщал, что в скором времени казне понадобятся деньги на ведение войны, и просил Чижова высказать свое «откровенное мнение», к каким средствам лучше всего прибегнуть. «Правительству, — писал М. X. Рейтерн Чижову, — очевидно принадлежит трудная задача изыскать для ведения войны средства, и весьма значительные, поступление которых было бы обеспечено в скором времени. Ученые труды Ваши, долголетнее управление кредитным учреждением и близкое знакомство с промышленными и экономическими средствами России побуждают меня обратиться к Вам за советом по этому делу. Согласно сему, имею честь покорнейше просить Вас сообщить мнение Ваше о том, каким наилучшим и скорейшим способом можно было бы, по Вашему мнению, приискать средства для ведения войны, в случае если в скором времени Россия вынуждена будет принять в ней участие… <Прошу> выразить мне Ваше по этому важному вопросу мнение с полной откровенностию…»[554]
Прежде чем ответить министру, Чижов посоветовался из славянофилов — с А. И. Кошелевым, а из купцов — с Т. С. Морозовым. Выслушав мнение соратников, которым он доверял как экспертам в области финансов, Чижов убедился в правильности собственных предположений и выводов и лишь после этого счел возможным изложить Рейтерну конкретные соображения. Суть его рекомендаций сводилась к следующему. Поначалу ограничиться выпуском серий облигаций. Затем, если военные нужды потребуют, обратиться к выпуску ассигнаций или кредитных билетов. В чрезвычайном случае — приняться за золото, служащее обеспечением ассигнаций. Но ни в коем случае не поднимать искусственно курс рубля, как бы он ни падал. Кроме того, Чижов предложил министру призвать к себе промышленников и купцов из Москвы и центральных губерний России, чтобы переговорить с каждым из них в отдельности о возможных изменениях в практической системе налогового обложения («когда говоришь со всяким отдельно, слышишь умные суждения, приглашаешь вместе… — несут страшную ахинею»)[555].
Главную причину начавшейся 12 апреля 1877 года Восточной войны Чижов усматривал в интригах англичан, которые предпринимали энергичные меры к завоеванию симпатий балканских славян и при этом всеми доступными им способами стремились опорочить Россию. Как и в Крымскую войну, он видел в событиях, происходящих на Балканах, противоборство двух непримиримых сил: поддерживающего Турцию Запада, который обречен на окончание своего исторического существования, и славянства, открывающего собой новый период в истории[556].
Говоря о целях, которые преследовала Россия в войне, Чижов писал: «Англичанам и всей Европе пришло на ум, что Россия непременно хочет расшириться… тогда как Россия и ногами, и руками готова отбиваться от каждого расширения пределов в Европе. Завладеть славянами значило бы приобрести страшного внутреннего врага, хуже поляков. Они не привыкли ни к какому стеснению со стороны государства, а в России две трети жизни общественной и частной отданы властительству государства, — никому не приходит на ум безумная мысль о каком-нибудь присоединении славян. Но помогать сильно страждущим и угнетенным единственно за родство с нами есть наш долг человеческий. Англия действует тут страшно подло…»[557]
Поддержка Чижовым освободительной борьбы южных славян была лишена великодержавных панславистских идей и целей. Помощь со стороны России, по его мнению, не должна была сводиться к подгонке освобожденных от турецкого владычества славянских братьев «по русскому образцу». Напротив, он предлагал, не навязывая им собственных представлений о будущем административно-политическом устройстве, учитывать их исторические, этнографические, культурные особенности и традиции и считал, как и тридцать лет назад, наиболее подходящей формой послевоенного устройства независимую балканскую федерацию[558].
Ход военных действий, как и предполагал Чижов, выявил неподготовленность России к войне. «Дела на Дунае скверны, — с горечью писал он. — Это бойня, а не война. Как я ни держусь, как ни верую, что мы останемся победителями, а начинаю трусить. Несостоятельность настоящего порядка государственного устройства выказывается так ясно, что уже не закроешь глаз. Двадцать два года постоянного мира… после несчастной Крымской войны, показавшей нам все неурядицы правительственные, — и что же? Куда ни сунемся, везде наше войско с меньшими силами против неприятельских; денег нет; одним словом, мы в таком положении, что даже и с турками можем заключить постыдный мир. Это ужас».
Чижов предсказывал, что Россия стоит накануне больших государственных перемен. Война «непременно сама собою укажет на несостоятельность правительства». Только переход к более контролируемой системе управления, включая безотлагательное расширение сферы деятельности местных земств, мобилизует дремлющий потенциал страны.
Верил Федор Васильевич и в боевой дух русской армии: «Энтузиазм, энергия, способность к самопожертвованию суть огромные военные силы; едва ли можно искать их в Западной Европе, привыкшей к удобствам жизни <и> весьма неохотно переносящей лишения»; Русско-турецкая война — «истинно народная… в самом ее ведении: народ, стихийные силы — чудо, нет им равных!..»[559]
Глава седьмая
«МУЖ СИЛЬНОГО ДУХА И ДЕЯТЕЛЬНОГО СЕРДЦА»
В сущности, вся жизнь Чижова прошла «в делах» и «идеях». Личная жизнь не сложилась, да он и не помышлял о ней. Сердце его после кончины Катеньки Маркевич захлопнулось, никого более не впуская.
Последний отрезок отпущенного ему земного срока Чижов посвятил деятельному участию в финансово-промышленном учредительстве. Он без конца организовывал, строил, благотворительствовал. Его распорядок дня был до предела загружен: утром — правление Ярославской железной дороги, в полдень — правление Курской железной дороги, вечером — правление Московского купеческого банка. Кроме того, он находил время вести переговоры об образовании акционерного общества Киево-Брестской железной дороги, заниматься экономическим обоснованием и расчетами рентабельности Костромской и Киржацкой веток Ярославской железной дороги с перспективой продления их в Сибирь. Им было создано Ташкентское акционерное шелкомотальное общество, написан устав сельского банка в Полтавской губернии.
Чижов планировал сооружение окружной железной дороги вокруг Москвы, так как был убежден, что для города это будет «просто благодеяние»: «Во-первых, построится четыре моста через Москва-реку с проездом для экипажей и пароходов… Во-вторых, построится много станций для отправления товаров по всем дорогам без перегрузки и пассажиров — во все окрестности и на все дороги. В-третьих, на тридцать миллионов пудов будет меньше провезено извозчиками по городу Москве. Положим, по 60 пудов на воз, — и тогда 500 000 возов ломовых уменьшится на улицах Москвы. Город непременно будет сильно строиться… подвозка материалов строительных будет удобнее и дешевле, а потому и постройка домов значительно удешевится…»[560]
Совместно с А. И. Кошелевым Чижов был в числе учредителей при Московской городской думе двух коммерческих организаций: обществ водопроводов и газового освещения улиц. Ему даже довелось заниматься устройством и эксплуатацией в Москве сети банно-прачечных заведений.
«Я не могу привыкнуть быть старым, — писал в это время, испытывая неимоверный душевный подъем, Федор Васильевич. — В голове беспрерывно копошатся предприятия, то промышленные, то умственные начинания»; «Девиз мой: дело, после него — дело и после всего — дело; если есть дело, оно меня сильно радует»; «Вообще я от рождения сумасшедший, маньяк, всю жизнь прожил маньячествуя, переходил от одного увлечения к другому и теперь дошел до полного помешательства на промышленной деятельности»; «Являются новые предприятия; предприниматели обращаются ко мне; полагают ли они, что я… умен и опытен, нуждаются ли они во влиянии… право, решить не умею. А, между тем, действительно за мною идут капиталисты»; «До сих пор я уплачивал мои долги, вызванные моими предприятиями; теперь они почти все уплачены, а тратить деньги на жизнь я не умею и не вижу надобности усиливать траты на то, что никогда не составляло для меня непременной принадлежности жизни… Я работаю сильно, много получаю за работу, но никогда я не работал для того, чтобы получить больше денег: работа сделалась атмосферою моего <существования>, без нее я решительно пропал бы»; «Я совершенно такой же аскет труда, как бывали средневековые монахи, только они посвящали себя молитвам, а я труду»; «Исповедуясь искренне, думаю, что много работает тут и самолюбие… У меня оно не могло быть удовлетворено вялою деятельностью в науке, еще менее — пошлым чиновническим толчением воды; мне непременно давай живую работу ума, давай тревоги, заботы, волнения, иначе мне и жизнь не в жизнь!»[561]
Сопоставляя деятельность славянофилов в разные исторические эпохи, а именно в дореформенные и пореформенные годы, Чижов вспоминал, что раньше все время проходило «в толках, беседах, спорах, и эти толки, беседы, споры наполняли дни и ночи. Едва бывало ложишься спать часа в 3 пополуночи. Это был кружок Хомякова, Аксаковых, Свербеевых, Киреевских… Теперь — деньги, деньги и деньги. Гиляров (Платонов. — И. С.) против последнего как против общественного зла, самого ужасного. Пожалуй… так. А попробуем взглянуть так: все толки, толки и толки. Все бездействие, бездействие и бездействие — тогда. Все дело, дело и дело — теперь»[562].
Безусловно, это было сказано в запальчивости момента. На самом деле без идейных споров и толков в московских гостиных 1840-х годов вряд ли бы Чижов состоялся в будущем как человек дела. Втянутый временем в теоретическое обоснование и практику акционерного промышленного и финансового учредительства, Чижов, названный И. С. Аксаковым «мужем сильного духа и деятельного сердца», мог иметь полное право быть довольным результатами своего труда. Ему в значительной степени удалось помочь русским купцам и промышленникам освободиться от зависимости иностранного капитала и конкуренции западноевропейских фирм. Уже на рубеже 1860–1870-х годов он с удовлетворением констатировал: «Прошел… первый период — эксплуатации России, то есть, говоря попросту, надувательства России иностранцами. Явился второй — полного господства <русских> капиталов и капиталистов»[563].
Христианская «тихая милостыня» и милосердие испокон веков были на Руси основой основ народной жизни. «Сознание неправды денег в русской душе невытравимо», — скажет уже в XX столетии Марина Цветаева[564]. Поделиться тем, что имеешь, с нуждающимся, будь то нищий, странник или просто человек, оказавшийся на каком-то этапе своей жизни в затруднительном положении, не выставляя при этом счета за свою доброту, было столь естественно, что иностранцы, отмечая эту «странность» в поведении нашего народа, возвели ее чуть ли не на мистический уровень, сделав одной из составляющих «загадочной русской души».
Рассматривая деньги не как самоцель, а как средство к достижению цели, Чижов любил повторять: «Деньги портят человека, поэтому я отстраняю их от себя»; «не могу привыкнуть считать их своею собственностью, они требуют употребления, — этой силе нужно дело»[565]. При этом он не любил нездорового возбуждения вокруг своих бескорыстных поступков и действовал согласно Завету, данному Иисусом Христом в Его Нагорной проповеди: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас… Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди… Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, и чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф. Гл. VI. Ст. 1).
И действительно, подчас те, кому Федор Васильевич помогал, даже не догадывались о том, кто был их спасителем. Сегодня нередко лишь по косвенным признакам удается установить, что в том или ином благом деле под именем «жертвователя, пожелавшего остаться неизвестным», скрывался не кто иной, как Чижов. И особую щедрость он проявлял по отношению ко всему, что касалось народного просвещения.
В стремлении приблизить образование к запросам развивающейся отечественной промышленности он всемерно содействовал подготовке собственной технической интеллигенции и рабочих, содержал нескольких стипендиатов, оплачивал поездки молодых специалистов в зарубежные страны для знакомства с постановкой дел на промышленных предприятиях и железнодорожном транспорте.
Секретарь Чижова вспоминал, как однажды из разговора с ним Федор Васильевич узнал, что два его товарища, изучающие практическую механику в Московском техническом училище, хотели бы познакомиться с организацией производства на механических заводах в Западной Европе. Но все упиралось в отсутствие денежных средств. Не будучи знаком с ними лично, Чижов попросил немедленно пригласить к себе этих молодых людей и после наставлений, где бы им лучше всего поработать, «прямо, без всякой их просьбы, почти силой, вручил… необходимые для этих поездок средства с обязательством никогда не думать о возврате ему, а при средствах, когда окажутся, передать их другим… для той же цели»[566].
В 1869 году в связи с уходом барона Дельвига с должности главного инспектора частных железных дорог по инициативе Чижова среди русских капиталистов — членов акционерных железнодорожных обществ — были собраны деньги для учреждения в Москве Железнодорожного училища имени А. И. Дельвига.
Не прошло и трех лет, как Дельвиговское училище было открыто. На одном из первых заседаний училищного совета его председателем был избран вдохновитель замысла и его активнейший исполнитель Федор Васильевич Чижов.
Под влиянием Чижова его питомец Григорий Павлович Галаган, ставший видным земским и общественным деятелем Малороссии (он работал в редакционных комиссиях, готовивших освобождение крестьян, был членом Черниговского губернского по крестьянским делам присутствия, состоял в Прилукском уезде председателем съезда мировых судей и предводителем дворянства), ощутил настоятельную потребность в широкой благотворительности на дело народного просвещения. Когда в 1869 году в семье Григория Павловича и Екатерины Васильевны Галаган произошла трагедия — готовясь к поступлению в VI класс Киевской гимназии, внезапно заболел и умер их 16-летний сын Павел, Федор Васильевич предложил безутешным родителям путь достойного увековечения памяти их единственного наследника. Согласно разработанному Чижовым плану и программе, в 1871 году в Киеве было учреждено общеобразовательное учебное заведение для молодых людей, не имеющих средств завершить учебу в обычной классической гимназии. Коллегия Павла Галагана с числом воспитанников от 45 до 65 человек состояла из четырех высших классов с расширенной гимназической программой по математике, русскому языку, истории и рисованию. На ее создание и содержание супруги Галаган пожертвовали принадлежащий им каменный дом в центре Киева, 8 тысяч десятин земли, одну из усадеб в Черниговской губернии — всего на общую сумму в 1 миллион рублей. Подбор преподавательского состава был чрезвычайно тщательным: он осуществлялся под личным контролем Чижова. Необычайно богатой оказалась и собранная библиотека, насчитывающая более 10 тысяч томов.
В течение долгого времени, вплоть до Октябрьской революции, Коллегия Павла Галагана была в числе лучших учебных заведений в России. Ее удостаивали своим посещением члены Императорской фамилии, здесь читали лекции видные профессора столичных университетов, некоторое время ее директором был один из талантливейших певцов «серебряного века» русской поэзии Иннокентий Федорович Анненский.
По совету Чижова Г. П. Галаган также передал в 1876 году принадлежавшую ему усадьбу в селе Дегтярях Полтавскому губернскому земству для организации в ней ремесленного училища.
Как только у самого Федора Васильевича Чижова появилась возможность «иметь фонды», то есть откладывать излишки денег, получаемых им из разных источников в виде председательского жалованья в компаниях и обществах и дивидендов по имевшимся в его распоряжении акциям, он решил, что настало время составить первый набросок своего духовного завещания. «Деньги мне не нужны, — писал он в дневнике 31 октября 1870 года. — Чтобы жить, я теперь имею, а что бы ни приобрел более, все отдам на общественные дела. Думаю составить духовное завещание, по которому всю библиотеку отдам в Румянцевский музей с условием, чтобы дублеты, особенно русские, были пересланы в Костромскую гимназическую библиотеку. Сестрам отдам по банковскому паю на смерть с тем, чтобы после их смерти эти паи были отданы на учреждение или вспомоществование ремесленной школе в Костроме. Акции Ярославской дороги отдам тоже на устройство или поддержку костромского ремесленного училища, хотя бы небольшого. Что ни прибавится у меня, все оставлю на это заведение»[567].
В дальнейшем намерение завещать свой капитал на устройство профессионально-технических учебных заведений в «родимой Костроме-матушке», которую он по-сыновнему любил, так как, по его словам, «получил здесь начало как образованию, так и нравственному своему развитию», все больше конкретизируется. Особенно часто он стал возвращаться к этой идее после приобретения Товариществом московских капиталистов Курской железной дороги. «До сих пор не составил себе состояния и не забочусь о том, — признавался он 11 ноября 1871 года. — Теперь покупка шестидесятимиллионной Московско-Курской дороги непременно, по истечении нескольких лет, доставит несколько сот тысяч рублей; но они уже мысленно издержаны все, да еще и не достает их. Я дал себе слово не прикасаться к этим деньгам и пожертвовать их на технологическое училище в Костроме — моей родине… Мне, как председателю Общества Московско-Курской дороги как-никак, а все-таки тысяч до пятисот достанется, а может, и больше»[568].
Через полгода Чижов высказывает мысль, если хватит капитала, устроить в Костроме, помимо ремесленного училища, еще и вдовий дом[569]. Еще через полгода — промышленное учебное заведение и несколько приютов для бедных[570]. А спустя полтора года, 29 марта 1874 года, Федор Васильевич записывает: «Главную часть моего богатства — участие в Курской дороге, которое должно мне дать более 24 тысяч акций, по уплате долга англичанам, я не считаю своими… Эти акции должны наверно дать 2 400 000 рублей, а можно утвердительно сказать, что они возрастут на 5 %, то есть будут стоить 3 600 000. Все это — на техническое учебное заведение, на больницы, вдовий дом и богадельни в Костроме»[571].
В апреле 1874 года Чижов уже планировал «начать приводить в исполнение постройку технического училища второго разряда, по степени обучения равного гимназии». Для этого он предложил знакомому петербургскому архитектору Ивану Васильевичу Штрому, который в свое время являлся старшим архитектором Исаакиевского собора, а впоследствии занимал должность члена техническо-строительного комитета Министерства внутренних дел и входил в состав правления Донецкой каменноугольной железной дороги, «начинать делать проект училища», а сам приступил к составлению для него учебной программы[572].
В дальнейшем, когда стало ясно, что акции Курской дороги будут намного доходнее, чем поначалу предполагалось, Чижов счел возможным увеличить в завещании число профессионально-технических учебных заведений, организуемых в Костромской губернии, до пяти.
Глава восьмая
«МЫ ОЖИВИМ НАШ СЕВЕР»
Последним по времени крупным торгово-промышленным предприятием Чижова было образование Архангельско-Мурманского срочного[573] пароходства по Белому морю и Северному Ледовитому океану. Его предпринимательский интерес соединялся здесь, с одной стороны, с давним стремлением оживить северные окраины России. «Архангельск, — напоминал он, — был гаванью еще во времена древних новгородцев, Вологду Иоанн Грозный думал назначить столицею русского царства, — но Петербург забыл все старые воспоминания и предания, а я их по клочкам непременно пробую возродить»[574]. С другой стороны, в основе идеи создания северного пароходства лежало понимание важности развития собственного торгового флота. «Довольно ли одних железных дорог для благополучия страны? — риторически спрашивал Чижов в одной из своих статей. — Имеют ли они право исключительно овладевать нашим вниманием?.. Если какая-либо страна при развитии у себя железных дорог пренебрежет развитием торгового флота, то она непременно самые железные дороги сделает сборщиками податей со своих жителей в пользу иноземцев…»[575]
Еще в первой половине XIX века северное русское купечество, страдая от засилья иностранного капитала, неоднократно обращалось в Петербург с просьбой о помощи. Архангельский купец первой гильдии Петров в петиции на имя Императора Николая I жаловался: «…все пришло в совершенное преобладание иностранцев». Русские купцы, не выдерживая с ними конкуренции, один за другим уходили от дел. В Архангельске, по словам того же Петрова, не осталось ни одного русского «вывозящего дома», хотя полвека назад было еще 48. Русская торговля попала в полную зависимость от иностранных судовладельцев. «Сколько к нам придет кораблей, столько и увезут наших продуктов»[576].
В последующие годы ситуация в этих краях мало в чем изменилась. «Обилие морских зверей и рыб в водах Ледовитого океана у наших северных берегов… привлекает туда значительное число иностранцев на промысел, доставляя им значительные выгоды, — говорилось в докладной записке, написанной совместно Чижовым и мурманским купцом В. И. Смолиным, министру финансов М. X. Рейтерну. — Одна из наиболее существенных причин, почему до сих пор русские не пользуются естественными богатствами своих северных вод, заключается в отсутствии у наших северных промышленников… достаточных капиталов»[577].
С помощью учреждения акционерного торгового и промышленного товарищества Чижов собирался начать хозяйственное освоение северных окраин Европейской России, мечтал развить среди поморов множество рыбных и звериных промыслов: сельдевой, тресковый, акулий, китовый, начать бой моржей, тюленей, отлов песцов, лисиц, белых медведей. На островах от Белого моря до Новой Земли он предполагал наладить добычу гуано — дешевого удобрения для бесплодных земель северных губерний, на Мурмане намеревался открыть склад предметов, необходимых для промыслов и домашнего хозяйства поморов, чтобы тем самым освободить их от соответствующих закупок в Норвегии, по примеру «шотландского джиноделания» хотел «обратить в пользу, коли окажется возможным, наш можжевельник». Кроме того, Чижов планировал организовать пароходное сообщение между Новой Землей и Мурманским берегом для перевозки рыбаков на улов и обратно, а также основать Северный банк в Коле, «чтобы вырвать несчастных поморов из рук кулаков, которым они платят работою и рыбою иногда по 50 %, а иногда и по 75 %. Банк будет давать, брав с них по 1 % в месяц»[578].
«Мне уже рисуется, — делился Чижов своими соображениями с друзьями, — как мы оживим наш Север, заведем там города на берегах Ледовитого океана, прочистим Северную Двину, будем возить туда хлеб с Волги, а оттуда привозить дешевую рыбную пишу…»[579] Тем самым осуществится завет Михаила Васильевича Ломоносова: «Богатство России Сибирью прирастать будет и Северным Ледовитым океаном».
Однако имея богатейший предпринимательский опыт, Чижов понимал, что организуемое им не столько доходное, сколько «поэтическое» предприятие, первоначально не может не быть убыточным («…начинают всегда сумасшедшие, — пользуются люди благоразумные», — любил повторять он). Поэтому, чтобы хоть как-то заинтересовать будущих компаньонов, он стремился устроить Товарищество с помощью получения от властей ряда льгот. И это при том, что в конце 1850-х годов в них было отказано предшествующей обанкротившейся северной пароходной компании.
«Почему я взял на себя это весьма и весьма нелегкое предприятие? — задавал себе вопрос Чижов. — Потому что немногие пользуются таким доверием правительственных лиц, купленным не искательством, не личною дружбою, а просто честным ведением дела. Потому что Бог дал мне настойчивость, с которою я отворю всякие наглухо запертые двери и начну говорить голосом совершенно независимого человека там, где привыкли слышать только уклончивые поддакивания»[580].
И действительно, ему удалось добиться согласия на предоставление Товариществу в течение десяти лет субсидии в виде порейсной платы размером 50 тысяч рублей в год и единовременной помощи путем оставления в казне ста паев Товарищества на сумму 50 тысяч рублей. Правительственные льготы давались на определенном условии: «…не ранее, как по взносе учредителями не менее ста тысяч рублей за взятые паи Товарищества, о чем должно быть предоставлено Министерству финансов надлежащее удостоверение и с тем непременным условием, чтобы к первому июля настоящего (1875. — И. С.) года было открыто сообщение между Архангельском и Мурманским берегом хотя бы одним пароходом Товарищества»[581].
Пайщиками Архангельско-Мурманского срочного пароходства стали купцы Т. С. Морозов, В. И. Смолин и три брата Мамонтовых, а также барон А. И. Дельвиг и граф К. Ф. Литке (сын знаменитого исследователя Арктики адмирала Ф. П. Литке, в то время президента Императорской Академии наук). Каждый из учредителей вложил в дело от 5 до 10 тысяч рублей. Чтобы требуемая правительством сумма была набрана, Чижову со своей стороны пришлось внести все имеющиеся у него в наличии деньги, да еще и войти в долги, так что вся сумма его взноса составила 105 тысяч рублей. «Капиталисты с трудом вытаскивают из мешков деньги, — замечал по этому поводу с явным неудовольствием Чижов, — правительство же тогда помогает, когда видит, что предприниматели верят выгодам дела. А как показать веру? Только одним — вложить в него значительный капитал. Меня все считают миллионером именно потому, что, задумавши предприятие, я действую решительно… Никто не поверит, что я отдал все до последней копейки, да еще и призанял. Вот и дело пошло»[582].
С Высочайшим утверждением устава Товарищество Архангельско-Мурманского срочного пароходства получило официальный статус. На общем собрании пайщиков в члены правления были избраны Чижов, С. И. Мамонтов и граф К. Ф. Литке, причем Федор Васильевич стал председателем, а Савва Иванович — директором. Товарищество приобрело в Лондоне два парохода океанского плавания: «Архангельск» и «Онега».
Уже в сентябре 1875 года Чижов писал с нескрываемой гордостью: «„Архангельск“ сделал уже три рейса от Архангельска до Норвегии и обратно и каждый раз все приобретает более и более грузов. Другой пароход „Онега“ близ мыса Норд-Кап захватил гибнувший шведский пароход „Carles-Crone“ и привел его в норвежскую гавань. Начало деятельности весьма приятное…»[583]
Но уже в октябре первоначальный успех сменился полосой неудач. Бурей выбросило на камни пароход «Онега». В небывало суровую зиму 1875/76 года никогда ранее не замерзавший Либавский залив сковали льды, и доставка грузов в Либаву стала невозможной. Потерпел крушение у шотландских берегов новоприобретенный пароход «Кемь». Промыслы у Мурманского берега приносили против ожидания ничтожную выручку. Так что в результате непрекращающихся убытков к лету 1876 года пайщики остались без дивидендов.
Чижов тяжело переносил невзгоды, обрушившиеся на учрежденное им предприятие. Оставаясь наедине с собой, он записывал в дневник: «Я как будто равнодушен ко всем неудачам, а между тем… может быть, не достанет сил их вынести…»; «Неужели не выгорит такое истинное, чисто патриотическое дело?..»[584]
Вместе с тем Чижов старался подбодрить компаньонов. Он писал графу К. Ф. Литке, представлявшему интересы Северного пароходства в Петербурге: «Испытавши много бед и ведши много дел при начале неудачных, но потом оказавшихся великолепными, как, например, Троице-Сергиевская дорога, разросшаяся сначала до Ярославля, потом и до Вологды, я нисколько не теряю бодрости духа и в нашем Мурманском деле»[585].
Чтобы хоть как-то поддержать оказавшееся на грани краха Товарищество, Чижов занял 75 тысяч рублей («более занять не могу, считал бы нечестным делом, потому что не вижу возможности отдать»[586]).
В начале 1877 года Чижову удалось уговорить М. X. Рейтерна предоставить Товариществу новые льготы. «Наше умирающее дело воскресло, — поспешил он поделиться радостной новостью с пайщиком князем Л. Н. Оболенским, ведавшим делами кассы. — Министр согласился, во-первых, на то, чтобы 50 тысяч рублей дать нам за 20, а не за 40 рейсов… Во-вторых, он нам дает ссуду в 30 тысяч рублей на пять лет с тем, чтобы ежегодно уплачивать ему из порейсовых денег по 6000 руб. Согласитесь, что лучшего невозможно было придумать. Теперь на 5 лет мы гарантированы… В это время дело разовьется и решительно оживит наш Север!»[587] За несколько месяцев до смерти Чижов вновь пожертвовал в пользу Товарищества 200 тысяч рублей, собрав и заложив все свои свободные процентные бумаги.
Глава девятая
«ДВА ПОЛЮСА МАГНИТА…»
Многие мемуаристы отмечали, что Федор Васильевич Чижов был удивительно верным другом. На протяжении всей жизни он поддерживал отношения со многими из товарищей, с которыми его сблизил Петербургский университет, обменивался с ними письмами, в случае жизненных затруднений оказывал деятельную помощь. Но первым среди равных в этом студенческом братстве следует назвать Владимира Сергеевича Печерина, рассказ о котором в одной из предыдущих глав пришлось прервать на печальной ноте — обращением кумира петербургских «пятниц» в католичество и его вступлением в монашеский орден.
…Редемптористская карьера Печерина складывалась на первых порах весьма успешно. В 1843 году в бельгийском городке Льеж он был рукоположен в священники, пару лет состоял профессором красноречия в миссионерской школе виттемского монастыря, в 1845 году был переведен в Фальмут, в Англию, а спустя четыре года — во вновь основанный монастырь Сент-Мери Чапель в Клапаме, близ Лондона.
Связь с Чижовым прервалась. Ничто не тянуло на родину. Казалось, он всецело отдался во власть религиозных переживаний: «…я как будто напился воды из реки забвения: ни малейшего воспоминания о прошедшем, ни малейшей мысли о России»[588]. Печерина даже нимало не взволновала доставленная к нему в монастырь в 1848 году из русского посольства бумага, извещавшая о постановлении Сената лишить его всех прав состояния и счесть навсегда изгнанным из отечества за самовольное оставление России и отступление от Православного вероисповедания.
Переписка с Чижовым возобновилась лишь в 1865 году, когда Печерин наконец пробудился после двадцатилетнего монастырского забвения («я проспал 20 лучших лет моей жизни») и стал пристально всматриваться в события, происходившие в России: «19-ое февраля, освободившее 20 миллионов крестьян, и меня эмансипировало[589].»[590]
Но путь к духовному возвращению Владимира Сергеевича на родину начался раньше, со времени приезда к нему в клапамский монастырь А. И. Герцена, а именно с 1853 года. Герцен, до этого лично не знавший Печерина, но много наслышанный о нем от Редкина, Крюкова, Грановского, приехал к нему в Сент-Мери Чапель, чтобы просить разрешения напечатать в «Вольной русской типографии» трагедию «Вальдемар» и поэму «Торжество смерти», которые он читал еще в бытность свою в Петербурге в 1840–1841 годах. Получив уклончивый ответ, Герцен все же опубликовал их в 1861 году дважды: на страницах «Полярной звезды» и в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия», — а впечатлениям от свидания с Печериным посвятил главу в «Былом и думах» «Pater V. Petcherine» с приложением последовавшей за встречей переписки.
В своей неоконченной повести «Долг прежде всего» Герцен воссоздал трагическую судьбу Печерина в образе Анатоля Столыгина. «Протестантов, идущих в католицизм, я считаю сумасшедшими… но в русских камнем не брошу, — они могут с отчаяния идти в католицизм, пока в России не начнется новая эпоха», — писал он. И хотя дальнейшие отношения между двумя соотечественниками-эмигрантами — революционером-демократом и католиком-прозелитом — не сложились (Герцен отшатнулся от резко полемизировавшего с ним убежденного «попа-иезуита», а Печерина, в свою очередь, испугала материальность герценовского социализма, умалчивавшего о душе и ставившего целью лишь «всеобщую сытость»), все же для Печерина знакомство с Герценом и его статьями «Русский народ и социализм» и «О развитии революционных идей в России» послужило толчком к разрыву с монастырем и орденом и обратило его взор на восток, в Россию[591].
В конце 1850-х — начале 1860-х годов имя Печерина неожиданно для него самого привлекло внимание представителей различных противоборствующих между собой общественно-политических сил.
В условиях кризиса политического авторитета Ватикана на фоне центростремительных тенденций в итальянских и германских княжествах ближайшее окружение папского престола предложило Печерину — блестящему оратору, проповеди которого пользовались огромным успехом, а имя приобретало все большую известность в католическом мире, — фактически стать во главе русского католического движения, посулив ему при этом посмертную канонизацию. Папе Пию IX представлялось возможным удержать в своих руках светскую власть при помощи России — оплота консерватизма — путем обращения в католицизм проживающих на Западе представителей высших кругов русского общества[592].
Но Печерин отказался служить марионеткой в руках ватиканской дипломатии, снял носимое в течение двадцати лет монашеское облачение и ушел от активной миссионерской деятельности, затворившись простым католическим священником в дублинской больнице, «разделяя труды сестер милосердия и вместе с ними служа страждущему человечеству». Круто повернуть (в который раз!) жизнь и полностью порвать с католицизмом у него не хватило ни мужества, ни сил[593].
Желая быть в курсе перемен, происходивших в России, Печерин становится подписчиком герценовского «Колокола». «Я снова сблизился с русским миром в 1862, когда начал читать „Колокол“», — писал он впоследствии Чижову[594]. Именно к Герцену потянулся снова Печерин. несмотря на непримиримость расхождений, лежавших между ними: «Я чувствую, что между нами пропасть, и, однако, через эту пропасть я протягиваю Вам руку соотечественника и друга… нет ли возможности для нас соединиться в более высоком единстве — там, где прекращаются споры и где царит одна лишь любовь?»[595]
На призыв Печерина откликнулся Н. П. Огарев; желанию Печерина «вернуться в народ русский» он поверил безоговорочно. «Ваше место среди людей „Земли и воли“», — уверял Огарев Печерина и при этом указывал на Литву как на возможную для него в качестве католического священника арену революционной деятельности[596].
Однако Печерин предложения не принял; свое «возвращение в русский народ» он понимал отнюдь не в буквальном, действенном смысле. Жизненные катаклизмы сделали из когда-то восторженного радикала — скептика; «…после стольких опытов мне очень трудно решиться на какую-либо новую деятельность. Я чрезвычайно дорожу моим теперешним положением: я живу в совершенном уединении и совершенной независимости»[597].
Спустя четыре с небольшим месяца, в августе 1863 года, на страницах «Московских ведомостей» разгорелась полемика между М. Н. Катковым и М. П. Погодиным, до которых дошли слухи о разрыве Печерина с католическим монастырем: они всерьез обсуждали вопрос о возможном благотворном прорусском влиянии Печерина на польское католическое духовенство в восстании 1863 года[598]. Негодующий ответ Печерина был опубликован в брюссельском «Листке» князя Петра Долгорукова: «Издатель „Московских ведомостей“[599] желает какой-то свободы совести в пользу русского правительства, то есть ему хочется найти католических священников, преданных русскому самодержавию! Едва ли где он их найдет… Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше: если б я был на их месте, я бы действовал, как они действуют… Я никогда не думал, что католическая религия, в какой бы то ни было стране, должна служить опорой самодержавию и помогать Нерону казнить строптивых христиан… Если вследствие какого-нибудь переворота врата отечества отверзнутся передо мною — я заблаговременно объявлю, что присоединяюсь не к старой России, а к молодой, и теперь с пламенным участием простираю руку братства к молодому поколению, к любезному русскому юношеству, и хотел бы обнять их во имя свободы совести и Земского Собора!»[600]
Интерес к переменам, происходившим в России в период общественного обновления, требовал информации «из первых рук». Таковыми для Печерина могли стать свидетельства его прежних друзей. Случайно увиденные на страницах славянофильской газеты «День» корреспонденции Чижова заставили Печерина в августе 1865 года прислать в редакцию письмо, к которому была приложена длинная стихотворная исповедь «блудного сына России».
«Милостивый государь, — обращался к И. С. Аксакову, редактору „Дня“, Печерин. — Благородный дух вашего журнала давно привлекает мое внимание… Сверх того, там часто встречается дорогое для меня имя Ф. В. Чижова… Я сам не могу себе объяснить, для чего я посылаю вам эти стихи. Это какое-то темное чувство или просто желание переслать на родину хоть один мимолетный умирающий звук…»[601]
Аксаков понял смысл письма по-своему, как желание Печерина возвратиться в Россию. «Он наш, наш, наш! — убеждал Аксаков читателей в своем редакторском предисловии к публикации письма. — Неужели нет для него возврата? Ужели поздно, поздно?.. Русь простит заблуждения, которых повод так чист и возвышен, она оценит страстную, бескорыстную жажду истины, она с любовью раскроет и примет в объятия своего заблудшего сына!»[602]
Но не этого искал Печерин. Ему хотелось, не меняя на склоне лет привычного уклада жизни, получить возможность общаться с другом-соотечественником, с которым его связывали общие юношеские воспоминания, который сам был свидетелем его несложившейся жизни и в какой-то степени принимал в ней участие. С ним он собирался обсудить волновавшие его вопросы общественной и политической жизни России и тем самым создать для себя иллюзию деятельного участия в новых процессах, происходивших на родине.
Еще до того, как послание из Дублина было опубликовано в газете «День», Чижов ознакомился с ним в редакции и откликнулся незамедлительно. Завязалась переписка, которая в течение последующих двенадцати лет утоляла ностальгическую тоску Печерина и постепенно становилась в его дублинском уединении главным жизненным интересом. Это был разговор двух собеседников о насущных проблемах России и событиях в мире в целом. «Письмо твое для меня важнее всех газет, — признавался Печерин Чижову, — оно показывает настоящее настроение умов в России…»[603]
Переписка Печерина и Чижова в 1860–1870-е годы, хранящаяся в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки в Москве и Пушкинском доме Академии наук в Санкт-Петербурге, читается как захватывающий документ эпохи. В почти не пожелтевших от времени, исписанных мелким почерком разноцветных листках тончайшей почтовой бумаги оказались запечатленными образы и характеры этих двух столь непохожих людей, со своими пристрастиями, вкусами, взглядами и убеждениями. Невероятно, но, несмотря на порой непримиримые, принципиальные идейные разногласия, Печерин и Чижов тянулись друг к другу, были друг другу необходимы.
Отношение Печерина к славянофильским убеждениям Чижова выразительно раскрывается в одном из его первых писем к вновь объявившемуся другу. Печерин решительно отмел очередную попытку Чижова обратить его в свою веру: «Я чрезвычайно уважаю твой патриотизм, но, признаюсь, никак не могу следовать за тобою в твоем идолопоклонстве русскому народу… Хотите ли, не хотите ли, а Россия пойдет своим путем, то есть путем всемирного человеческого развития. Вы говорите, что здесь на Западе все мишура, а у вас одно чистое золото. Да где же оно? скажите пожалуйста! В высшей ли администрации? в неподкупности ли судей? в добродетелях семейной жизни? в трезвости и грамотности народа? в науке? в искусстве? в промышленности?.. А! понимаю: это золото кроется где-то в темных рудниках допетровской России… Нет! господа, мы за вами не попятимся в средние века. Нет, нет! Я вечно останусь пантеистом! Мне надобно жить всемирною жизнью… я всех людей обнимаю как братьев, но ни за каким народом не признаю исключительного права называть себя сынами Божьими. Заключить себя в каком-нибудь уголку Белокаменной и проводить жизнь в восторженном созерцании каких-то доселе еще не открытых тайных прелестей древней Руси — это вовсе не по мне! Я скажу с Шиллером: „Столетие еще не созрело для моего идеала. Я живу согражданином будущих племен“»[604].
Как вспоминал Чижов впоследствии, критику Печериным славянофилов и их учения он счел тогда недостаточно компетентной: «Ты ровно ничего об них не знал, а привыкши схватывать… из двух-трех на лету попавшихся суждений… заклеймил их… и черт знает что возвел на них — я… признаться, не принял труда разуверять тебя»[605].
В ответ на рассказы о либеральных переменах в России Печерин просил Чижова не обольщаться реформами Александра II: «Припомни-ка еще царствование Александра I: оно началось ужасно как либерально, а кончилось оно чем? Аракчеевым»; «Мы вечно вертимся в роковом круге»[606].
Показательно, что в годы возобновления дружеских связей с Чижовым у Печерина решительным образом меняется отношение к ценностям материальной цивилизации, в частности, он становится сторонником расширения реального, технического образования в России. Еще в 1853 году в письме к Герцену Печерин с ужасом рисовал апокалипсическую картину торжества всевластия материи: «Химия, механика, технология, пар, электричество… Если эта наука восторжествует, горе нам!., она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги… Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтобы их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и спросят: „Зачем вы бежите от нашего общества?., рай здесь на земле — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!“… Где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?»[607]
Увлеченные, полные энтузиазма рассказы Чижова о своей промышленной деятельности, об экономическом подъеме в пореформенной России примирили Печерина с духом времени, заставили признать положительное значение достижений технического прогресса. Он искренне радовался успехам друга: «Признаюсь, от твоих проектов и планов у меня дух захватывает»; «меня восхищает твоя деятельность»; «Железные дороги — существенная потребность России. Это артерии для ее кровообращения».
По сравнению с конкретными, зримыми результатами деятельности Чижова Печерин сознавал свою практическую ненужность и бесполезность: «Мог ли я когда-либо вообразить, что буду коротким приятелем человека, измеряющего океаны, двигающего пароходами как пешками, заказывающего рельсы в Англии»; «Я… не без зависти смотрю на твою деятельность: ты посвятил всю жизнь, в некотором смысле пожертвовал жизнию для общего блага — я говорю для общего блага[608], потому что никак не могу придумать, какой бы у тебя мог быть интерес в твоих предприятиях: ты одинок, без семейства, твои личные нужды очень ограничены, след<овательно>, все, что ты приобретешь, пойдет просто на Россию, и ты будешь жить в памяти благодарного потомства»; «ты очевидно положительно содействуешь возрождению России»; «Не странно ли тебе кажется иметь дело с таким как я бесплодным мечтателем? Но, может быть, в этом и заключается тайна нашей дружбы: это два полюса магнита…»[609]
В 70-е годы бывший ярый враг реализма и естествознания, образно названный Чижовым «генералом от классицизма» за его обширные познания в области древних языков и литератур, становится противником классического образования. «Поэзия — риторика — чепуха!» — приписывает он к отправляемым Чижову трем отрывкам из своего дневника 1854 года «Mémoire d’un fou»[610]. Весь его интерес переключается на изучение естественных наук: «Я теперь почти исключительно занимаюсь естественными науками, физиологиею и ботаникою»; «Мне кажется, что мы скоро всю метафизику пошлем к черту! Истинная суть вещей находится в химии. Дальше идти нельзя. Все прочее — бред!» Он признавался Чижову, что его «исследования разных явлений электричества и химических разложений» достигли степени помешательства и что со временем он надеется оборудовать порядочный физический кабинет. Не ограничиваясь домашними опытами, он посещал лабораторные занятия студентов: «На старости — говорят — люди впадают во второе младенчество; я впал не в младенчество, а в студенчество»[611].
В одном из писем 1871 года Чижов сообщил Печерину о реформе среднего образования в России, вызвавшей недовольство либеральных кругов. «Последнее время, — писал Федор Васильевич, — вся наша газетная деятельность была сосредоточена на страшнейшем споре между людьми, защищающими классическое воспитание, и другими — реальное. Министр просвещения граф Толстой… представил преобразование гимназий, по которому ученики только классических могут поступать в университеты, а из реальных — нет… Почему-то… в правительственных слоях укоренилась мысль, что реальное воспитание ведет прямо… к нигилизму; что классицизм есть опора консерватизма, и вот приспешники Двора, мимоходом будет сказано, весьма мало знакомые с древними языками, ратуют за классицизм, а газета Каткова, закусивши удила, лезет вон…»[612]
Желая видеть в России собственные кадры технической интеллигенции и квалифицированных рабочих и всемерно поощряя открытие в стране реальных училищ, Чижов принял непосредственное участие в разгоревшейся на страницах печати полемике. Он опубликовал в «Русском архиве» ответ Печерина со своим предисловием, в котором представил читателю своего друга-филолога как беспристрастного судью в споре классицистов и реалистов. «Ты очень метко назвал себя аскетом труда[613], — писал Печерин Чижову, — в этих словах заключается вся суть современного мира, да этим же разрешается вопрос между классиками и реалистами. От классицизма все как-то пахнет монастырем, душною кельею, книжным учением, словопрением, а от реализма веет свежий утренний ветерок пробуждающейся жизни»[614].
На рубеже 60–70-х годов религиозные взгляды Печерина эволюционировали от веры в возможность союза демократии и католицизма через «отсутствие всякого сочувствия к светской власти папы» — к веротерпимости. «Кажется, уж столетие прошло, так изменились мои воззрения», — писал он Чижову. Продолжая оставаться католическим священником, Печерин вступал в глубочайший внутренний конфликт со своими убеждениями: «Я нахожусь в положении мнимоумершего… Я связан по рукам и ногам железною цепью необходимости… Все мои мысли, все сочувствия на противоположном[615] берегу с передовыми людьми обоих полушарий, а в действительной жизни я остаюсь по сю сторону с живым сознанием, что принадлежу к ненавистной касте тех людей, коих еще древние римляне называли inimici generis humani[616]»[617].
Во время посещения Дублина в 1872 году Чижов пытался получить от Печерина объяснение в необходимости подобной раздвоенности: «В защите его будет хоть частица истины, а я, признаюсь, ничего не вижу, кроме лжи»[618].
Однако задать вопрос напрямую он не решился. Зато в письме, посланном вскоре после встречи, он оказался более откровенен, называя вещи своими именами: «…монашество и священство оставили на тебе резкий отпечаток. Твоя уклончивость, как будто постоянное снисхождение, — говорит же Герцен, что и на Ламенне осталась печать того, что он был аббатом, — все это как-то очень сковывало меня в твоем присутствии… О многом я не решился говорить с тобою. Например, я не решился спросить тебя: почему ты считаешь как бы невозможным расстаться с католическим священством, когда в нем видишь источник зла в настоящее время. Вообще как-то ты был так уклончив, что я боялся оскорбить тебя малейшей нескромностью вопроса»[619].
Предвидя ответ Печерина, Чижов записал в своем дневнике: «Необходимость получать средства к жизни. Но какая же это независимость — жить наперекор самым задушевным убеждениям?..»[620]
Беседы с Чижовым, в практической деловитости которого Печерину виделись радужные перспективы будущего экономического развития России, цементировали сформировавшийся у него в последние годы буржуазный либерализм. В житейской расчетливости английских буржуа, в прогрессистском консерватизме общественно-политического уклада Англии он стал находить противовес былым своим революционно-романтическим фантазиям. Отныне царство разума и свободы для него воплощал туманный Альбион, в то время как Франция стала синонимом мальчишеского безрассудства: то, что англичанин спокойно обсудит в Гайд-парке, француза, лишенного государственной мудрости, приведет на баррикады[621].
Расценивая идею социализма как отвлеченную политическую фразу, Печерин полагал, что ее распространение в среде русской молодежи есть результат тлетворного влияния французов. «У нас распространен… циркуляр министра внутренних дел <о том>, что социализм в России принимает угрожающие размеры и что даже высшие классы им заражены. Правда ли это? Очень странно! Но, впрочем, Россия молода и ее желудок все перемелет». Он спрашивал Чижова: «…не можешь ли ты каким-нибудь образом убедить наших молодых соотечественников позаняться чем-нибудь практически полезным, хоть, напр<имер>, железными дорогами, вместо тех идеальных планов преобразования общества, которыми они так усердно занимаются?»[622]
В качестве доказательства исконной нереволюционности русского народа Печерин приводил фразу, брошенную его крепостным слугой Никифором Шиповым, который, находясь со своим юным барином в Петербурге, заявил на следующий день после восстания офицеров на Сенатской площади в декабре 1825 года: «Это все дворяне с жиру бесятся». — «Вот истый глас народа!» — восхищенно восклицал Печерин[623].
Ему вторил Чижов своим рассказом о революционной демонстрации на площади перед Казанским собором: «…человек 50 провозгласили: земля и воля! и даже всунули… знамя с этой надписью в руки крестьянскому мальчишке. Ну прямо революция. А… этих безбородых революционеров перехватал народ даже до появления полиции…»[624]
Но порой у Печерина неожиданно проскальзывают былые революционные симпатии, заглушая на время его новейший либеральный скептицизм. В письме, датированном 18 июля 1871 года, Чижов сообщал Печерину о нашумевшем в России «Процессе нечаевцев» и саркастически обращал внимание друга на несоответствие между огромными политическими претензиями организации и ее незначительными материальными ресурсами и численным составом[625]. Печерин откликнулся на это сообщение с живейшим интересом: «Нечаевское дело — очень важное и утешительное в русском быту. Пришли, пожалуйста, весь процесс, когда он будет напечатан. Я от всей души сочувствую этим бедным молодым людям; но… — и тут просыпается его уснувший на время „здравый смысл“, — все ж таки должен сказать, что предприятие их не имеет никакого разумного основания: это тот же фанатизм — только в другом виде… слепая вера в слова пророка, обещающего земной рай… Все это одни фразы: человечество! прогресс! А Чижов без фраз строит железные дороги и своими паровиками действительно подвигает человечество вперед гораздо быстрее, чем все эти воздушные шары метафизики и риторики»[626].
И позднее, отвечая Чижову на его сетования в отношении молодого поколения, Печерин возражал с вызовом, звучащим по сравнению с другими его обычными высказываниями последних лет парадоксально: «Ты говоришь, что не можешь дружно сойтись с новым поколением, — а я, напротив, сгораю желанием познакомиться с… ультрамолодой Россией, со всеми этими нигилистами и нигилистками, студентками медицины, — послушать их толков». Высказав свою симпатию к девушке, которая стреляла в князя Горчакова, он экзальтированно восклицал: «Вероятно, она постоянно носит револьвер за своим девичьим поясом! Каковы русские дамы! Настоящие спартанки! Признаюсь, тут есть богатые материалы для революции»[627]. Но подобные редкие, в духе революционного романтизма высказывания в целом подавлялись скептическим отношением к леворадикальному движению в России, которое воспринималось Печериным через призму воспоминаний о его собственных заблуждениях, произросших на почве французских утопических идей.
В переписке Печерина и Чижова отразились их различные оценки Франко-прусской войны 1870–1871 годов. В первых же неудачах французской армии Печерин увидел подтверждение своим пророчествам о неизбежной гибели Франции, увязшей в «завиральных идеях 1789 года»: «Германо-славянским племенам суждено в будущем владычество мира, а так называемые латинские народы обречены на неминуемую погибель!»[628]
Чижов опротестовал безапелляционный приговор Печерина по двум причинам. Во-первых, он был решительным противником германофильства, отстаивая мировое культурно-историческое значение Франции. Во-вторых, славянофильские убеждения Чижова не могли допустить смешения молодой славянской культуры с имеющей давнюю историю и, следовательно, бесперспективной в творческом плане германской[629].
В чем они оба сходились, так это в симпатиях к Северо-Американским Штатам, что было вполне характерно для настроений либеральной интеллигенции того времени. В 1866 году Чижов стал одним из инициаторов небывалого по размаху приема, устроенного Славянским комитетом американскому посольству адмирала Фокса в Москве в благодарность за дипломатическую поддержку России в период польского кризиса 1863–1865 годов. В свою очередь, американцы были признательны великой евроазиатской монархической державе за ту роль, которую она сыграла в борьбе за независимость Северо-Американской республики, а также в Гражданской войне Севера с Югом.
Узнав из газет о чествовании адмирала, Печерин поддержал горячее выражение чувств и гостеприимство русских: «…что мне нравится — это радушный прием, сделанный московским купечеством американскому посланнику. Это прекрасно! От всей души разделяю ваше сочувствие к великой Американской республике. К сожалению, я не имел случая читать произнесенных при этом случае речей: английские журналы только намекнули о них. И твоя речь (Tchijoff) замечена в Saturday Review. Критик не согласен с тобою касательно запретительного тарифа — но в этом вы лучше знаете, что полезно России и что нет».
«Наша тесная дружба с Северною Америкою есть одно из знамений времен, — писал он другу годом ранее. — Может быть, не в очень далеком будущем свет увидит две исполинские демократии — Россию на Востоке, Америку на Западе: перед ними смолкнет земля»[630]. Чижов подкрепил пророчество Печерина авторитетом Алексиса де Токвиля — известного французского социолога и историка: «Токвиля Democratic еп Amerique я читал еще в конце тридцатых годов, — припоминаешь ли ты, какую великую будущность пророчит он России и Соединенным Штатам на последних страницах своей книги?»[631]
Еще в разгар Франко-прусской войны Чижов в письме к Печерину указал на новый очаг военных действий — Балканы, где в скором времени должны будут столкнуться интересы европейских держав. Предвидя расстановку сил в середине 1870-х годов, Чижов всю вину за сложившуюся ситуацию в этой части Османской империи целиком возложил на английскую дипломатию. Россия, по его убеждению, не преследовала задач территориального расширения, а руководствовалась лишь выполнением исторического долга перед единоплеменниками. У Чижова вызывало полное неприятие англоманство Печерина: все старания друга заставить его «смягчить суровый взгляд на Англию» побуждали лишь усиливать критику Англии, а самого Печерина иронически называть «европейским умником», «великим мудрецом многомудрой Европы»[632].
Печерин, со своей стороны, скептически воспринимал уверения Чижова в альтруизме внешней политики России, видя в ее активности на Балканах имеющую многовековую историю политическую игру: «Ты говори, что хочешь, а я стою на своем. Я знаю, я уверен, что у русского народа испокон веку есть одна заветная, задушевная мысль — пойти на Царьград и водрузить крест на куполе Св. Софии. Это согласно со всеми нашими преданиями, с тех пор как Олег прибил свой щит к стенам Царьграда. Народы живут не выводами чистого разума, но страстными стремлениями, роковыми увлечениями, которых никакая дипломатия ни предвидеть, ни остановить не может…»[633]
Чижов расценил ответ Печерина как издевательство над русским патриотизмом и рассердился не на шутку: «Можно не разделять их русских убеждений, но глумиться над людьми, жертвующими жизнью и сознательно идущими на смерть, — вам высокоумным отчего и не поглумиться, присевши за угол своей эгоистической жизни… Для тебя, разумеется, парламентское решение — верх мудрости, человечности и образования; мы смеем смотреть иначе: для нас эта подлая торговая политика — мерзость античеловеческая».
В начавшейся Русско-турецкой войне Печерин продолжал усматривать захватнические планы «усачей, гремящих саблями и шпорами на берегу Дуная», мечтающих «схватить за золотой рог Босфорского быка» и «наделить славянские племена несчетными благами русской администрации, столь выгодно известной у себя дома». «Чай Аксаков… ликует: теперь на его улице праздник. Заварили вы кашу», — язвительно иронизировал он[634].
В свою очередь, Чижов возмущался пропагандистской кампанией английской прессы, пытавшейся уверить мировое общественное мнение в агрессивности русских. Он продолжал настойчиво убеждать Печерина в искренней, не преследующей никаких территориальных выгод помощи соотечественников братьям-славянам и описывал полное единодушие, царящее во всех слоях русского общества: «Не говори, брат, „чай Аксаков ликует“. Никто не ликует при известии о войне, но ликуют при разрешении неопределенности, томительного ожидания. Такого воодушевления давно не бывало. Москва в два дня пожертвовала два миллиона рублей, и с тех пор только и читаешь, что перечень пожертвований… Эта война пользуется у нас такою популярностью, какой едва ли пользовалась война 1812 года»; «разумеется… приписывают все нам, славянофилам, и нашему подстреканию… Спасибо им за такую честь. Дело в том, что славянофилы теперь не имеют своего органа, а народ сам стал славянофилом. Бывают, брат, минуты в истории, когда дипломатия становится в тупик…»
Главную же причину войны Чижов, в противоположность Печерину, сводил к интригам англичан: «…если бы не вмешательство Англии, очень может быть, что не было бы и настоящей войны»[635].
И действительно, в споре по поводу Восточной войны правда была на стороне Чижова. Объективно балканская политика России, направленная на предоставление независимости славянскому населению Османской империи, содействовала их прогрессивному развитию, в то время как восточная политика западноевропейских держав, стремившихся во что бы то ни стало сохранить в составе Порты ее европейские провинции, была враждебна по отношению к пробуждающимся южнославянским народам.
Едва прерванные взаимоотношения с Печериным возобновились, Федор Васильевич стал настоятельно советовать другу засесть за мемуары. Пересылая вначале фрагменты своих воспоминаний трем адресатам — племяннику С. Ф. Пояркову, Никитенко и Чижову, — Печерин постепенно все надежды на публикацию своих записок возлагает исключительно на последнего: «Я исполняю твою просьбу и буду писать — но писать наобум, то, что в голову взойдет… а ты после, как мудрый Лизистрат, соберешь эти гомерические рапсодии и соединишь их в одно целое…»
О значении, которое Печерин придавал своим мемуарам, говорят выдержки из его писем к Чижову: «…мне непременно надобно оправдаться перед Россиею»; «Это некоторого рода духовное завещание — это apologia pro vita теа — моя защита перед Россиею, особенно перед новым поколением»; «Хорошо тебе: ты живешь одною нераздельною жизнью, то есть русскою жизнью. А у меня необходимо две жизни: одна здесь, а другая в России. От России я никак отделаться не могу. Я принадлежу ей самой сущностью моего бытия, я принадлежу ей моим человеческим значением. Вот уже 30 лет как я здесь <в Англии> обжился — а все ж таки я здесь чужой… Я нимало не забочусь о том, будет ли кто-нибудь помнить меня здесь, когда я умру; но Россия — другое дело… как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской — хоть одну печатную страницу… Ты оставишь по себе… железные дороги и беломорское плавание, а мне нечего завещать, кроме мечтаний, дум и слов»[636].
Чижов пытался опубликовать воспоминания Печерина в русской периодике, чтобы с их помощью преподать урок патриотизма молодому поколению («Я уверен, что он не может сделать ничего лучшего для России, как написать свою автобиографию», — утверждал в одном из писем к Ивану Аксакову Чижов). Но из-за сопротивления цензуры в журнале «Русский архив» удалось напечатать лишь два письма Печерина и один мемуарный отрывок. «…Цензура стала очень строга к тому, что предварительно проходит сквозь ее железные когти», — сообщал Печерину Чижов.
Печерин был крайне огорчен и разочарован: «Я теперь адресую свои записки прямо на имя потомства… Через каких-нибудь пятьдесят лет… будет только темное предание, что, дескать, в старые годы жил-был на Руси какой-то чудак Владимир Сергеев сын Печерин: он очертя голову убежал из России, странствовал по Европе и наконец оселся на одном из британских островов, где и умер в маститой старости. А память о нем сохранил еще больший чудак Федор Васильевич Чижов, питавший к нему неизменную дружбу в продолжение сорока с лишком лет…»[637]
…В конце января 1878 года из Дублина в Москву на имя Федора Васильевича Чижова пришло письмо всего в несколько строк: «Скажи, ради Бога, что стало с тобой, любезный Чижов. Твое последнее письмо лежит у меня на столе. Оно от 10-го октября, а теперь по вашему 11 января, стало быть, целых три месяца. Ты никогда не оставлял меня так долго без отзыва… Не забудь, что ты единственная и последняя нить, связывающая меня с Россиею — если она порвется, то все прощай… Твой Печерин». Не будучи распечатанным, письмо было возвращено отправителю в связи со смертью адресата[638].
После кончины Чижова его архив вместе с рукописями Печерина поступил в Румянцевский музей и, согласно завещанию, был вскрыт только через сорок лет. Уже в советское время, в 1932 году, мемуары Печерина были изданы отдельной книгой под названием «Замогильные записки».
Глава десятая
ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ
Сердечное, теплое чувство до конца дней связывало Чижова еще с одним из бывших завсегдатаев никитенковских «пятниц» — государственным деятелем, дипломатом, секретарем Русского археологического общества Дмитрием Васильевичем Поленовым. Душа компании, записной весельчак, любивший при случае спеть и сплясать от души, Поленов с годами стал степенен, чопорно корректен, временами даже угрюм. Бывая по делам акционерных обществ в Петербурге, Чижов по обычаю останавливайся в доме старого университетского друга и жил среди его многочисленных домочадцев, по собственному выражению, «совершенно как в своей семье»[639]. Дети Дмитрия Васильевича и его жены Марии Алексеевны, урожденной Воейковой, три сына и две дочери, с детства привыкли называть Чижова «голубчиком дядей». Да и сам Поленов в обществе Чижова преображался — казалось, он забывал про свои седины и воспоминания о годах безвозвратно ушедшей юности нет-нет да и озаряли лицо государственного мужа улыбкой с заговорщически-ребячливым прищуром.
Особенно нежно привязался к Чижову его крестник, старший сын Поленова Вася. Судьба отвела Федору Васильевичу важную роль в формировании его личности как человека и художника, в воспитании его эстетических вкусов и пристрастий (недаром впоследствии своего первенца Василий Поленов назовет в честь Чижова Федором).
С раннего детства Вася считался с мнением своего крестного отца едва ли не больше, чем с мнением родителей. Чижов неизменно оказывался для него не только притягательным собеседником, но и авторитетным наставником, другом. Именно Чижову он был обязан пронесенным через всю жизнь преклонением перед именем Александра Андреевича Иванова — воплощенного идеала подвижнического служения искусству, к которому должен стремиться художник: «В 1858 году влюбился в Иванова. Рассказ об Иванове от Федора Васильевича Чижова <помню> с 14 лет»; «Когда… Иванов должен был приехать в Петербург из Италии, у нас в семье ждали его приезда, как праздника, собирались встречать его, приготовили даже кресло, куда должны были усадить. Но нашим мечтам не суждено было сбыться. Он заболел и умер»[640].
Юноша начал часто бывать в Императорской Академии художеств единственно ради выставленной там на обозрение публики знаменитой картины Иванова. Он мог часами стоять перед ней, стремясь «поверить алгеброй гармонию». В нем зрела решимость стать художником, создателем шедевра, по мощи идеи и совершенству исполнения равного «Явлению Христа народу». Но для человека его круга, потомка родовитой аристократии, сына тайного советника, выбор художественной карьеры как основного дела жизни был, по выражению Чижова, настоящим «общественным переворотом»[641]. Ведь в те годы отпрыску столбовых дворян приличествовала государственная служба, военная или гражданская, но никак не богемная жизнь артиста. И Василий Поленов вынужден был пойти на компромисс: в 1863 году он поступил вольноприходящим учеником в Академию художеств одновременно с зачислением на первый курс юридического факультета Петербургского университета.
Видя увлеченность сына творчеством Александра Иванова, родители приобрели на выставке работ великого мастера два его небольших этюда. «На днях было у нас торжество, — сообщала Мария Алексеевна Поленова Чижову. — Мы купили, как дети говорят, картину Иванова. Но, в самом деле, купили его Иоанна Евангелиста, в малом виде этюд, с которого он писал большого в картине, это видно по тому, что разбит на граны…»[642] Также Поленовыми был приобретен этюд драпировок для трех центральных фигур картины: Иоанна Крестителя и апостолов Петра и Иоанна. В 1871 году Дмитрий Васильевич подарил этот этюд сыну — по случаю получения им диплома юриста в Петербургском университете и Большой золотой медали Академии художеств за программную картину «Христос воскрешает дочь Иаира».
Годы учебы Поленова в Академии художеств совпали по времени с торжеством искусства передвижников, не жаловавших классическую школу живописи с ее обязательными академическими сюжетами, оторванными от острых проблем современности. Тем не менее восемь лет, проведенных в ее стенах, Василий Дмитриевич будет вспоминать как один из самых светлых и плодотворных периодов в своей жизни. «Принято бранить Академию, называть ее мачехой, — писал он спустя годы своему однокашнику Илье Ефимовичу Репину, — а я так иначе ее вспоминаю, для меня она всегда была родной… Меня с молодости увлекали великие мастера Академии. Больше всех я любил и до сих пор люблю Иванова»[643].
С получением высшей награды Академии художеств Поленов отправился в качестве академического пенсионера за границу для завершения своего художественного образования. По пути в Италию он посетил Австрию и Германию и отовсюду посылал Чижову подробные отчеты, делился рабочими планами и сомнениями. При этом он исправно следовал «дядюшкиным» наставлениям, в каких городах непременно побывать, с архитектурой и убранством каких церквей и собраниями каких картинных галерей познакомиться. «От себя я Вам вот что скажу, дорогой дядя, — признавался Поленов Чижову, — я стараюсь, тружусь и все собой недоволен, все мало, и вывод еще не удовлетворяет меня. Не могу попасть на свою точку, не могу себя хорошенько выяснить; воли, энергии и терпения у меня, как мне кажется, нет недостатка, но характера очень мало, поэтому брожу пока еще в потемках»[644].
Чижов пристально следил за успехами молодого художника, которого, по собственному признанию, любил «больше, чем любят кровных племянников». В частых письмах к нему он советовал «глубоко разбирать произведения великих maestro», не сковывая вместе с тем собственного воображения, консультировал по поводу выбора сюжетов, требовал оттачивать до самозабвения технику рисунка, быть предельно строгим в исполнении замысла: не приступать к написанию картины без двух эскизов — «одного, где было бы видно все сочинение, другого, на котором были бы набросаны пятна колорита», и обязательного картона, с полным абрисом будущего произведения…
Чижов помогал Василию деньгами в его путешествиях по Европе, с готовностью откликался на его просьбы оказать поддержку попавшим в беду друзьям. Он передал недостающую сумму для возвращения в Москву, к родным, умиравшей на чужбине от злой чахотки бедной студентке-нигилистке Е. А. Богуславской (ее образ впервые натолкнул Поленова написать ставшую впоследствии широко известной картину «Больная»).
Оказавшись в Риме, Василий Поленов начал делать этюды для грандиозного полотна «Кто из вас без греха?» — первого в серии картин «Из жизни Иисуса Христа». В Париже он в течение двух лет работал над исторической картиной «Право господина», иллюстрирующей одну из позорных страниц средневекового быта германских княжеств. Поначалу за неимением собственной студии трудился в мастерской близкого ко Двору художника-мариниста Алексея Петровича Боголюбова, которому Академия художеств поручила попечение и надзор за проживающими во Франции стипендиатами.
В Париже Василий Дмитриевич близко сошелся с И. Е. Репиным, так же, как и он, награжденным Академией Большой золотой медалью и правом на шестилетнее пенсионерство в Западной Европе. Илья Ефимович только что закончил своих «Бурлаков на Волге» и благодаря им получил известность сначала на Академической выставке в Петербурге, а затем на Всемирной — в Вене. Не смутившись тем, что картина отражала «левые» взгляды ее создателя, «Бурлаков» приобрел брат Наследника престола Великий князь Владимир Александрович — президент Академии художеств.
Однажды в мастерской Боголюбова Василий Поленов стал свидетелем того, как министр государственных имуществ А. А. Зеленой, в ведении которого находились вопросы судоходства, упрекал Репина за выбор сюжета, носившего, по его убеждению, клеветнический характер.
— Где это вы, милостивый государь, в нынешней-то России бурлаков сыскали? Их повсюду уже заменили паровые суда!.. Хоть бы вы, Алексей Петрович, — обратился он к Боголюбову, — внушили этим господам, нашим пенсионерам, чтобы, будучи обеспечены своим правительством, они были бы патриотичнее и не выставляли обтрепанные онучи напоказ Европе на всемирных выставках…[645]
Во время одного из кратковременных посещений Чижовым Парижа по пути в курортный городок Виши, на воды, Поленов познакомил его с Репиным. Чижов нашел Илью Ефимовича в довольно грустном состоянии. Обремененный семейством, художник еле-еле сводил концы с концами, жаловался на недостаточность казенного академического содержания. Вдали от России Поленовым и Репиным овладело щемящее чувство ностальгии. «Теперь Вася и Репин и многие из их собратий непременно хотят писать в России, непременно ищут содержания картин в русском быту», — заключил из общения с молодыми людьми Чижов[646]. Побуждаемые внутренним долгом и предчувствием перемен, назревающих в отечественном искусстве, они буквально считали дни до своего отъезда на родину. Удерживало одно: по условиям творческой командировки художник обязан был вернуться в Петербург с двумя значительными работами. У Репина уже была готова одна — «Парижская кофейня», в которой отразилось экспериментирование автора в области изобразительного языка.
Чижов не одобрял «Кофейню» прежде всего за бедность, «некартинность» ее содержания. По его мнению, отдавшись совершенствованию одной только внешней формы, Репин в своих творческих поисках зашел в тупик, тогда как мог стать подлинным новатором в искусстве, обратись к темам из русской истории и фольклора.
Илья Ефимович внимательно прислушивался к суждениям и замечаниям умного старика — непререкаемого авторитета по части эстетики. Его радовало, что к замыслу новой картины на сюжет древнерусской былины «Садко» Чижов проявил живейший интерес. Садко, «богатый гость» из Новгорода Великого, тридевять земель обошел, на дне морском побывал, но ничего краше родной земли не встретил. Вот как описывал сюжет картины сам Федор Васильевич: «Садко в подводном царстве смотрит, как мимо него проплывают… красавицы, но он не пленяется ими, а пленяется замарашкой <Любавушкой>, что наверху, одетою просто. Это изображение самого Репина, пред которым идут все страны образованные: Франция, Италия, Испания, Америка, — а он ни которой не пленен, и все его тянет к замарашке, к неумытой, непричесанной, его родимой России»[647]. Это был как бы косвенный ответ Репина его критикам на обвинения в очернительстве и непатриотизме.
Чтобы наиболее эффектно изобразить «невиданную доселе игру красок и света в подводном мире», Чижов настоятельно советовал Репину отправиться в Неаполь, где в это время находился самый большой в мире аквариум. Его владелец — Антон Дорн, основатель Неаполитанской зоологической станции — приходился зятем близкому приятелю Чижова, оренбургскому и саратовскому губернатору Егору Ивановичу Барановскому. Федор Васильевич обещал снабдить Репина рекомендательными письмами, гарантировал ему свободный доступ к натуре, предлагал деньги на расходы, связанные с выездом в Италию, и квартиру по приемлемой цене.
Илья Ефимович был тронут добрым участием Чижова в его работе. «Поездка в Неаполь привела его в восторг, — извещал Поленов о реакции друга, — он сейчас же хотел собраться и катить, без всякой гордости приняв предлагаемую Вами помощь. Но, рассудив более холодно вопрос, он стал колебаться… <Безусловно,> относясь честно к работе, необходимо воспользоваться таким богатым материалом, как неаполитанский аквариум. Но так как желание вернуться в Россию у нас теперь заглушает все остальное, то он боится не кончить к предполагаемому сроку[648], хочет сначала заручиться временем. Во всяком случае, он очень благодарит Вас за Ваше к нему расположение и на днях будет писать Вам, дорогой дядя…»[649]
Чижов был крайне расстроен нерешительностью Репина, вызванной, скорее всего, его щепетильностью в денежных делах. «Очень мне жаль, — отвечал он Поленову, — что Репин не решился пожить в Неаполе; ну, по крайней мере, съездил бы туда на недельку… наделал бы этюдов… Уговори его, пожалуйста, и представь ему то, что нам, людям трудящимся, не только не хорошо, а гадко смотреть на помощь собрата по труду как на какое-то вспоможение. Слава Богу, мой труд награжден с лихвой, но я не даю решительно никакой цены деньгам, кроме той, какую они заслуживают, как средство, быть полезным…» «Потолкуй хорошенько с Репиным, употреби все свое красноречие, — не унимался Федор Васильевич, и в этой его настойчивости проявлялось все буйство чижовского темперамента, не терпящего возражений, когда налицо дело, достойное общественной поддержки, — если ты уверен, что ты не красноречив, то напейся пьян на мой счет и пустись ораторствовать, — не достигнет витийства, пусти в ход силу и просто поколоти его, только достигни цели!»[650]
Желая предоставить стесненным в средствах Репину и Поленову возможность иметь дополнительный заработок[651], Чижов пошел на небывалый для себя шаг — ответил согласием на предложение написать его портрет. Когда-то сам Александр Андреевич Иванов умолял Чижова позировать для одного из своих этюдов, но Федор Васильевич счел, что слишком некрасив, чтобы служить моделью художнику. Теперь же, помимо удобного случая оказать помощь талантливой молодежи, он получал еще и шанс лишний раз поучить ее уму-разуму. «Вы оба будете иметь дело со стариком несговорчивым, — предупреждал Поленова Чижов. — Вы забудьте думать, чтобы я ограничился сходством. Нет, брат, так и собаки писать портрет не годится… Я захочу, чтобы ты в портрете передал не милостивого государя Федора Васильевича Чижова, а такого Чижова, которого ты любишь (или, пожалуй, не любишь)… Точно того же прошу и у Репина. Тогда портрет имеет значение художественного произведения, когда я в нем вижу, как художник понял и принял в свою душу того, с кого он пишет портрет. Иначе для какого черта сидеть десять сеансов и скучать страшнейшим образом, для чего и художнику сидеть столько же и потеть над своей работой, когда фотография может передать лицо… с математической точностью… Ан нет, — фотография, чем больше на нее смотришь, тем делается пошлее и сильнее наскучивает, исключая фотографии людей, близких сердцу… потому что переносит к особе, сердце наполняющей. Чем больше смотришь на истинно художественный портрет, тем больше он пленяет не красотою лица, на которое и не взглянул бы в натуре… но которое отразилось в душе художника… Чем более художественности у портретиста, тем доступнее ему внутренняя красота человека, с которого он снимает портрет. Не знаю, удавалось ли тебе встречаться с такими высокими художниками… а мне случалось…»
В качестве примера явного художественного промаха Чижов ссылался на виденный им на одной из выставок портрет Ивана Сергеевича Тургенева («не помню, кем написанный, кажется Ге или едва ли не Перовым»): «Я принял его за портрет бывшего московского головы Казакова, знаменитого торговца мужской и женской обувью… А… портреты Боровиковского усаживали меня против себя на целые часы, и чем более я ими любовался, тем они больше меня пленяли»[652].
Летом 1875 года в Виши между приемом минеральных вод и лечебными процедурами Чижов несколько сеансов позировал Поленову. Результат работы превзошел ожидания. «Портрет я написал и, кажется, удачно, — несколько тушуясь, сообщал родным Василий Дмитриевич. — Все, кто его видел, находят большое сходство. Я сам отчасти доволен. Репин говорит, что это лучшая моя вещь, которую я когда-либо произвел… Сам дядя особенно доволен тем, что он вышел раскольником или старовером. В лице я более всего доволен лбом, в котором вышла дума, и глазами, которые выражают, как мне кажется, и строгость его, и доброту. А во всей фигуре и в руке видна его могучая железная воля».
Претензии же заказчика сводились к одному — размеру холста. «Он (Чижов. — И. С.) хотел в полнатуры, но ничего мне не сказал, а я взял в натуру, — оправдывался Поленов. — Дядя хотел подарить этот портрет барону Дельвигу, а теперь, говорит, совестно в комнату повесить, будет слишком на себя обращать внимание»[653]. Но Дмитрий Васильевич Поленов поспешил успокоить сына: «Недовольство Ф<едора> В<асильевича> размером портрета напрасно. Это он говорит из скромности, а мама и я полагаем в этом его достоинство. Очень любопытно нам было бы взглянуть на него, но жаль, что Ф<едор> В<асильевич> намерен подарить его Дельвигу. В наших скромных палатах он был бы более у места. Если ты не снял с него фотографии, то сделай это для меня и на мой кошт, только поручи исполнение хорошему мастеру… Я желал бы иметь штук десять. Постарайся это исполнить»[654].
Специально для отца Василий Дмитриевич сделал авторскую копию, а оригинал приберег для весенней выставки 1876 года в Парижском салоне.
Русским рецензентам портрет Чижова напомнил портреты Ван Эйка[655]. А французская газета «L’Univer illustré» в статье «Le Salon de 1876» писала: «Прекрасен мужской портрет г-на Поленова: кажется, что этот седобородый старик… сидящий с книгой в руках, дышит. Это сама жизнь, жизнь на склоне лет, тихая и задумчивая. Все подробности проработаны широко и точно»[656].
Но высшей похвалой для Василия Поленова были слова, сказанные Тургеневым. Зайдя в марте 1876 года в мастерскую художника, Иван Сергеевич сразу же обратил внимание на стоящий у стены портрет, приготовленный к отправке на выставку.
— Да, это Федор Васильевич. Очень похож! Только я знал его темным.
— То есть как — темным?
— Тридцать пять лет тому назад… Как он побелел за это время!..
«Мне это было приятно, — прибавлял Поленов, пересказывая родным и друзьям свой диалог с великим писателем, — ибо, значит, похож, коли через тридцать пять лет люди узнают»[657]…
К этому времени он закончил и две свои пенсионерские работы. «Право господина», выставлявшееся в Салоне, приобрел П. М. Третьяков для своего московского собрания, а картину «Арест гугенотки» (или «Арест графини д’Этремон»), за которую художник удостоился звания академика, купил во время посещения его парижской мастерской Наследник Цесаревич Великий князь Александр Александрович.
Ощущая себя на Западе, где «жить утомительно и сиротливо», по-прежнему «как-то без почвы, без смысла»[658], Поленов отныне мог «со щитом» вернуться в Россию — на два года раньше положенного срока. «За границей оставаться теперь не только незачем, но и вредно», — твердил он Чижову[659]. Все его мысли уже давно были устремлены к Москве. В письмах на родину он писал: «Москва у меня так идеально засела в голове, что мысль о моем поселении в ней придает в минуты упадка бодрости продолжать работать здесь»[660].
Узнав о скором приезде Поленова, Чижов был крайне обрадован: «Знай же, что я купил домик, в котором тебе готовы две комнаты, — это на широкой улице, на Садовой, в месте, довольно покойном. Знай еще, что у тебя есть в Москве пятьсот руб<лей> на начало жития». Рисуя несомненные выгоды водворения в Белокаменной, Чижов решил увлечь «друга Васю» своей причастностью к новейшим достижениям технического прогресса: «…ты будешь в середине России… Вздумаешь куда-нибудь поехать — всюду железные дороги. Очень хотелось бы мне, чтобы ты съездил в Малороссию, ты никогда в ней не бывал… Я каждый год езжу по северным дорогам; если ты захочешь прокатиться до Ростова, Ярославля и Костромы, — пустимся. Если даже захочешь побывать на далеком Севере, в Вологде, — и туда путь открыт…»[661]
За год до этого Чижов направил в путешествие к берегам Ледовитого океана среднего брата Василия Поленова, Алексея, «очень милого малого», служащего Министерства финансов. Доверив его заботам своего компаньона рыбопромышленника Смолина, Федор Васильевич поставил перед молодым экономистом задачу исследовать прилегающие к океану земли, а также описать плавание двух пароходов Товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства «Архангельск» и «Онега». Алексей Поленов справился с поручением блестяще. Подготовленный им по итогам поездки «Отчет о командировке на Мурманский берег» получил высокую оценку Чижова и руководства Министерства финансов и был опубликован отдельным изданием в 1876 году в Петербурге.
3/15 июля 1876 года, сдав свою мастерскую на Монмартре, Василий Поленов вслед за Репиным покинул Париж. В конце июля он был уже в России и занимался совместно с Ильей Ефимовичем устройством отчетной выставки в Академии художеств в Петербурге.
«Какие хорошие вещи привез с собой Вася!..» — восхищался, бродя по выставочным залам Академии, Чижов. Строгий и беспристрастный судья, он, сравнивая мастерство двух даровитых художников, отдавал пальму первенства Репину, хотя и с оговорками. «По мне таланту у Репина больше, но мало сравнительно образованности»[662].
Репин с женой и дочерьми осенью уехал на Украину, в Чугуев, не переставая мечтать о Москве. «Как только приедешь в Москву, так и я приеду[663], — писал он Поленову. — … Как же, ведь я ни на одну йоту не отступаю от нашего плана: мы будем жить в Москве…»[664]
Но Василий Дмитриевич Поленов посчитал своим долгом в сентябре 1876 года отправиться добровольцем на Балканы, в армию генерала М. Г. Черняева. Этому, разумеется, содействовал Чижов, помогавший сербам и черногорцам в войне против турок. «Я беспрестанно говорю себе: не ропщи, что не можешь быть на поле битвы, — урезонивал себя Федор Васильевич, завидуя решительности и отчаянной отваге молодых соотечественников, — везде битва в жизни»[665].
В составе кавалерийского отряда Поленов участвовал в военных действиях и вел ежедневные записи своих наблюдений и впечатлений. Его «Записки» и «Дневник русского добровольца» публиковались в журнале «Пчела» и имели большой успех у читающей публики[666]. В них есть любопытное описание встречи с доблестным генералом Черняевым, во многом подготовленное беседами с Чижовым: «Он… очень некрасив, но необыкновенно симпатичен… Вас охватывает какая-то теплота и безотчетное доверие к этому человеку, вы для него готовы идти в огонь и воду… Ни фатовства, ни позировки, а напротив, — необыкновенная простота и скромность во всех словах, приемах, действиях. При этом глубокая преданность идее, которая сообщалась и вам, совершенно вас побеждала и заставляла чуть что не боготворить его… Я вышел от него совершенно обвороженный, мне припомнился Кутузов из „Войны и мира“». «…Мы одержали пассивную победу, — передавал Поленов слова генерала. — Турки дальше не идут. Благодаря ли бездарности пруссака Османа-паши или просто трусости турок, но мы с нашими слабыми средствами, с армией, в которой половина людей взята прямо от сохи и вооружена чуть ли не дубинками, удерживаем неприятеля, в три или четыре раза сильнейшего нас. Не будь на их стороне Англии, мы, может быть, теперь не тут бы были. Вот это ружье (американское магазинное) дает восемнадцать выстрелов, не заряжая, и этим вооружены черкесы и бышибузуки… Стыдно и нерасчетливо нашему правительству держать себя в таком официально холодном отношении к горячему движению, охватившему всю Россию»[667].
В конце концов Турция под давлением России вынуждена была запросить перемирия. В последних числах ноября Поленов вернулся на родину героем: он был награжден черногорской медалью «За храбрость» и сербским золотым орденом «Таковский крест».
После успешного литературного дебюта в петербургской «Пчеле» сотрудничество Поленова с этим журналом продолжилось, но уже в качестве иллюстратора и гравера. Чижов, «по-родственному» чрезвычайно требовательный к сыну своего университетского товарища, в котором угадывал огромный творческий потенциал, расценил его работу в журнале как слишком прикладную, сродни «малеванию вывесок». По мнению Федора Васильевича, Поленов делал как бы шаг назад, останавливался в развитии своего художественного самообразования, изменял великой цели искусства, не терпящей суетливого разменивания по мелочам.
В то же время сам Василий Дмитриевич был огорчен первой и единственной до сей поры размолвкой в отношениях с «дядюшкой» и в письмах к нему оправдывал свое нежелание приступать к исполнению нового значительного замысла потребностью взять полугодовую паузу после напряженной четырехлетней работы за границей и участия в изнурительной военной кампании. К тому же с помощью хорошо оплачиваемой журнальной поденщины он рассчитывал накопить достаточно средств «на обзаведение в Москве».
Переезд в июне 1877 года в Москву — поначалу в дом Чижова, а затем и в нанятую неподалеку, между Новинским бульваром и Собачьей Площадкой, квартиру — ознаменовал новый творческий взлет художника. В его картинах начинают звучать национальные мотивы. Именно здесь, в Дурновском переулке, Василий Поленов создал свой лирический шедевр, гимн русскому патриархальному укладу жизни — напоенный воздухом и солнечным светом знаменитый «Московский дворик».
В июле того же года в Москву приехал Репин. Он поселился в небольшом усадебном доме невдалеке от Новодевичьего монастыря. «Какие места на Москве-реке. Какие древности еще хранятся в монастырях, особенно в Троице-Сергиевом и Саввином», — восторгался Илья Ефимович[668]. Древняя столица сразу же дала импульс его вдохновению: он одновременно начал работу над картинами «Крестный ход», «Проводы новобранца» и «Царевна Софья».
Домашняя близость к Чижову и высокое уважение к его авторитету крепко сдружили Поленова и Репина с одним из наиболее ярких представителей просвещенного московского купечества Саввой Ивановичем Мамонтовым. Его отец Иван Федорович был главным пайщиком Троицкой железной дороги, держателем контрольного пакета акций. Будучи председателем правления дороги, Чижов уважал своего компаньона, занимавшего пост ее директора, за ровный, тихий характер и неизменную готовность печься о пользе русской промышленности. Поэтому и Савву Ивановича Мамонтова, сына Ивана Федоровича, Чижов всячески выделял своим вниманием и помогал готовить в преемники отцу. Тем более что в этом исключительно одаренном, обаятельном, энергичном молодом человеке, стремившемся совместить жертвенное служение музам с будничным и зачастую рутинным исполнением обязанностей в конторах акционерных обществ, он отчасти видел самого себя.
Как и в случае с Поленовым, Чижов подолгу беседовал с Саввой, воспитывал в нем художественный вкус, объяснял принципы, по которым следует отличать подлинные произведения искусства от ремесленных поделок. По следам Чижова Савва Иванович совершал свои итальянские прогулки; суждения опытного и влиятельного наставника о Мазаччо, Беато Анджелико, Пьеро делла Франческа приходили на ум, когда под строгими сводами древних базилик представали его взору шедевры великих мастеров Кватроченто…
После смерти Ивана Федоровича Мамонтова его душеприказчик Чижов не только привел в порядок оставшиеся незавершенными дела покойного, но и стал опекать его наследника Савву Ивановича в первых самостоятельных шагах на стезе железнодорожного предпринимательства. И хотя Федору Васильевичу была не по душе горячность подопечного, склонность Саввы принимать подчас необдуманные, рискованные решения без точного расчета, «на кокоревский глазомер», он немало способствовал тому, что в 1872 году тридцатилетний Мамонтов занял ответственный пост директора Общества Московско-Ярославской железной дороги. Вот как отозвался Чижов о новичке-директоре в письме к Василию Поленову: «Мамонтов живет хорошо, пробавляется художническим дилетантством и дилетантством железнодорожным, потому мы иногда и враждуем с ним, что я заклятый враг дилетантства; но зато это такая славная природа, что ругаешь его именно потому, что хорошее хочешь видеть лучшим»[669].
Нелицеприятная критика из уст «патрона» не раз заставляла Мамонтова называть Чижова «ворчуном дяденькой». Но с годами то, что казалось излишней придирчивостью, оборачивалось в несомненную пользу. Недаром Савва Иванович вспоминал о Чижове как о своем «великом учителе».
Когда в начале 70-х годов молодая чета Мамонтовых решила приобрести подмосковную усадьбу, по совету Чижова остановились на имении Абрамцево по Троицкой железной дороге, у станции Хотьково. Почти тридцать лет Абрамцевым владели Аксаковы. Стены старого помещичьего дома, окруженного густым монастырским лесом, помнили голоса гостивших здесь Гоголя, Погодина, братьев Киреевских, Хомякова, Щепкина, Тургенева, Тютчева… Неизменно радушно был принимаем здесь и Чижов.
После смерти главы семьи Сергея Тимофеевича Аксакова и его сына Константина, последовавших одна за другой в 1859–1860 годах, Абрамцево потеряло для его обитателей прежнюю притягательную силу, став горьким и мучительным напоминанием о прошлом. К тому же Ольга Семеновна Аксакова с тремя незамужними дочерьми сильно нуждалась в средствах, особенно после реформы 1861 года, разорившей многих помещиков.
Чижов стремился облегчить выпавшие на долю Аксаковых трудности. Вот строки одного из сохранившихся к нему писем вдовы: «Не сердитесь на меня, многоуважаемый Федор Васильевич, что я так мешаю Вам моими делами. Вы столько показали участия в самую минуту постигшего нас несчастья, что я ухватилась за Вас как за опеку»[670].
Встал вопрос о продаже имения. Единственным условием владельцев была передача его в хорошие руки. Чижов посоветовал Савве Ивановичу Мамонтову посмотреть Абрамцево. Плененные живописностью здешних мест и очарованием старого барского дома, овеянного столькими литературными легендами, супруги Мамонтовы тут же оформили купчую. На часть от полученных 15 тысяч рублей одна из дочерей писателя Софья Сергеевна Аксакова с помощью Чижова устроила в Москве приют.
Так началось второе рождение Абрамцева. Причем в лице Федора Васильевича, одинаково близкого Аксаковым и Мамонтовым, воплотилась преемственность двух эпох абрамцевской культурной жизни. Его самобытные рассказы-свидетельства наполняли жизненной конкретикой представления новых обитателей усадьбы об обычаях аксаковской семьи, круге ее друзей и знакомых, излюбленных маршрутах прогулок и тайных тропах. С величайшей бережностью относились Мамонтовы к оставшимся после прежних владельцев реликвиям: предметам мебели, фотографиям, рукописям, найденным на чердаке дома. «Дух старика Аксакова» бережно сохранялся даже в окружающей Абрамцево природе.
Постепенно обширное, в 285 десятин, дворянское поместье превратилось в поселок художников со своей церковью, школой, медицинской амбулаторией, живописной, скульптурной, столярно-резчицкой и гончарной мастерскими. Как когда-то в Риме Чижов стремился создать коммуну мастеров, связанных единством стоящих перед ними творческих задач, так теперь Савва Иванович, сам даровитый творец — музыкант, скульптор, драматург, режиссер — образовывал братство, деятельное соратничество людей, любящих русскую старину и возрождающих традиции народного искусства. Он привлек в Абрамцевский (мамонтовский) кружок Поленова и Репина, Сурикова и Нестерова, Серова и Коровина, Врубеля и братьев Васнецовых. Здесь, в тени векового парка, у берегов поросшей водяными лилиями речки Вори, ими были написаны картины, эскизы, рисунки, наброски, созданы скульптурные портреты, сооружены в национально-романтическом стиле постройки, ставшие частью золотого фонда русской культуры.
Именно в Абрамцеве в начале 80-х годов Василий Дмитриевич Поленов встретил свою будущую жену Наталью Васильевну Якунчикову. Она приходилась свояченицей Саввы Ивановича Мамонтова, двоюродной сестрой его жены Елизаветы Григорьевны Сапожниковой. В абрамцевской церкви во Имя Спаса Нерукотворного, возведенной преимущественно по эскизам самого Поленова в духе северной деревянной архитектуры, состоялось их венчание. Для молодых на территории усадьбы был выстроен небольшой домик, получивший название «Поленовского». Так семьи дорогих Чижову людей породнились.
Тогда же, в 80-е годы, Поленову удалось предпринять поездку на Восток, в Палестину, о которой в свое время грезил Александр Иванов. Привезенные оттуда этюды послужили основой для целого цикла картин «Из жизни Иисуса Христа», насчитывающего 68 полотен. Таким образом, исполнилась дерзкая мечта юного Васи Поленова, зароненная в его душу Чижовым, — стать продолжателем дела великого творца «Явления Мессии» и показать Иисуса Христа не только грядущего, но уже пришедшего к людям и поучающего их добру.
Савва Иванович Мамонтов в середине 80-х годов создал русский частный оперный театр, спектакли которого представляли собой синтез всех видов искусства: поэзии, музыки, живописи. Здесь впервые были поставлены «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского, «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова. С подмостков мамонтовской частной оперы был явлен миру гений Федора Ивановича Шаляпина.
Трудно переоценить роль Саввы Ивановича в становлении личности Шаляпина. То, как «Савва Великолепный», следуя методике своего учителя Федора Васильевича Чижова, развивал его художественный вкус, оставил свидетельство сам великий артист. «Не знаю, был бы ли я таким Шаляпиным без Мамонтова! — признавался он много лет спустя. — Он… часто держал меня в своей компании, приглашал обедать, водил на художественную выставку… Вкус, должен я признаться, был у меня в то время крайне примитивный.
— Не останавливайтесь, Феденька, у этих картин, — говорил, бывало, Мамонтов. — Это все плохие.
— Как же плохие, Савва Иванович. Такой ведь пейзаж, что и на фотографии так не выйдет.
— Вот это и плохо, Феденька, — добродушно улыбаясь, отвечал Савва Иванович. — Фотографии не надо. Скучная машинка… Вот, Феденька, — указывал он на „Принцессу Грезу“ (Врубеля. — И. С.), — вот эта вещь замечательная. Это искусство хорошего порядка.
А я смотрел и думал: „Чудак наш меценат. Что тут хорошего? Наляпано, намазано, неприятно смотреть. То ли дело пейзажик, который мне утром понравился в главном зале выставки. Яблоки, как живые, — укусить хочется… На скамейке барышня сидит с кавалером, и кавалер так чудно одет (Какие брюки! Непременно куплю себе такие)“. Я… в суждениях Мамонтова сомневался… И вот однажды в минуту откровенности я спросил его:
— Как же это так, Савва Иванович? Почему вы говорите, что „Принцесса Греза“ Врубеля хорошая картина, а пейзаж — плохая? А мне кажется, что пейзаж хороший, а „Принцесса Греза“ — плохая.
— Вы еще молоды, — ответил мне мой просветитель. — Мало вы видели. Чувство в картине Врубеля большое[671]»[672].
Под занавес уходящего века, выполняя завет Чижова о создании процветающей «русской Норвегии», Мамонтов активно включился в работу по хозяйственному и культурному освоению северных территорий. Он принял участие в экспедиции, организованной в 1894 году министром финансов С. Ю. Витте на русский Север. Непосредственной целью поездки был поиск места для строительства незамерзающего порта, в котором могла бы разместиться база военно-морского флота России. Путь министра и сопровождавших его лиц лежал по Ярославской железной дороге до Вологды, далее по Северной Двине, через Великий Устюг, Холмогоры — до Архангельска и после осмотра Соловецкого монастыря по Баренцеву морю вдоль берегов Мурманского края. Вечера проводили за рассказами, имевшими отношение к путешествию. Когда настал черед Саввы Ивановича, он поведал собравшимся о Чижове, создателе Архангельске-Мурманского пароходства.
Впоследствии Мамонтов неоднократно порывался написать подробные воспоминания о Чижове, да так и не собрался…
Вернувшись домой из поездки на русский Север, Савва Иванович был настолько увлечен увиденным, что отправил в творческую командировку по только что проделанному им маршруту своих друзей-художников Коровина и Серова.
Через два года Мамонтов организовал на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде павильон «Крайний Север», пользовавшийся большой популярностью у публики. В его оформлении были использованы этюды и фотографии, сделанные во время путешествий на Кольский полуостров. Коровин представил свои панно: «Кит», «Северное сияние», «Лов рыбы», «Охота на моржей». Самое большое панно «Екатерининская гавань» было превращено в диораму с использованием множества интереснейших экспонатов: образцов лесных пород, моделей промысловых судов, снастей, муляжей рыб, чучел птиц и животных. Был привезен даже коренной житель Севера некий Василий, состоявший при живом тюлене, плавающем в оцинкованной ванне. Парень научил тюленя выскакивать из воды и кричать нечто вроде «ура!». В экспозиции также были показаны фотографии строящейся Мамонтовым Северной железной дороги — от Вологды до Архангельска.
Савва Иванович прохаживался по павильону, довольно потирая руки, прислушивался к разговорам посетителей. Некоторые из них узнавали его и подходили с поздравлениями. Но Мамонтов знал, что он лишь продолжатель достойного дела. Лавры зачинателя и первопроходца в освоении Крайнего Севера по праву принадлежали его великому наставнику Федору Васильевичу Чижову.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В последнее десятилетие отпущенного Чижову земного срока его авторитет в обществе в целом и среди предпринимателей, в частности, был особенно велик. К его суждениям прислушивались, его мнением дорожили. О его безупречной честности ходили легенды. Имя его, стоящее во главе предприятия, было лучшей гарантией верности и успеха начатого дела. Вот только некоторые высказывания людей, знавших Федора Васильевича.
«Это был сильный человек, человек с властью, — писал Иван Сергеевич Аксаков. — Прежде всех других его качеств ощущалось в нем именно присутствие внутренней силы: силы убеждения, силы воли непреклонной, деспотической относительно самого себя. Смотря на его работу, методическую, отчетливую до мелочей, всякий сказал бы, что такое систематическое применение воли к делу возможно только при твердом спокойствии и хладнокровии духа. А между тем это был человек самый пылкий, самый страстный… Цельное сочетание таких, по-видимому, противоположных свойств и было в нем особенно привлекательно: оно-то и придавало ему такую нравственную красоту и такую власть над другими».
Говоря о влиянии Чижова на окружающих, его личный секретарь Аркадий Чероков свидетельствовал: «Это была непонятная сила какая-то, мощь особая, ощутительная для каждого, всех покорять и подчинять».
«Чижов был научно образованный и „тонкий“ человек, ум благородный, чуткий, острый, отнюдь не податливый ни на какие компромиссы, — характеризовал своего учителя Савва Иванович Мамонтов. — Добрый по натуре, он был требователен к близким ему людям, и кого любил, того часто журил и даже подчас изводил… Из бесед с ним чувствовался зоркий, строгий и деликатный экзаменатор… Интеллигентная, честная постановка общественного дела и бережливость до мелочей… К людям фальшивым и пошловатым он был беспощаден, иногда до резкости. Осадить нахала, сорвать маску с подхалима — в этом Федор Васильевич был виртуоз. Таким его все знали и боялись…»[673]
Николай Кононович Беркут, инспектор Московского врачебного округа, знавший Чижова с юности, утверждал, что «по управлению железными дорогами Федор Васильевич не допускал никакого кумовства, дружбы и послаблений, отчего могло бы пострадать дело». Он любил повторять, что «дорога мне не принадлежит, я только управляю делами Общества, так как Общество мой хозяин… и был едва ли не единственным у нас дельцом, который безупречно составил крупное состояние…»[674]
Современников удивлял поразительный талант Чижова разбираться в людях. Он был чрезвычайно наблюдателен и умел определять характер по почерку. Одна из первых профессиональных женщин-журналисток Мария Скавронская вспоминала, как вскоре после ее поступления на работу в московскую газету «Современные известия» редактор для определения способностей новой сотрудницы направил Чижову страничку с образцом ее почерка. «Федор Васильевич, не видев меня ни разу, не только вполне верно определил мой характер, но даже не ошибся в том, каких композиторов и поэтов я люблю». В другой раз в редакцию пришло письмо «от одного господина, которого еще не видали лично; показали письмо Федору Васильевичу, и он сказал: „Когда этот человек входит, то, кланяясь, вот так подпрыгивает“. И когда вечером господин этот вошел, то, раскланиваясь, действительно подпрыгнул именно так, как показал Чижов…»[675]
Не отличаясь ни внушительным ростом, ни завидным здоровьем, Чижов обладал поистине богатырской силой духа, твердой волей и колоссальной работоспособностью. Религиозность — основа основ его личности. До конца своих дней он оставался преданным и послушным сыном Православной Церкви. Зерно веры, зароненное в него в раннем детстве, развилось в убеждение, которое было не пассивным состоянием ума, а мотивом, побуждающим к поступкам. Даже в последний год жизни, одолеваемый мучительными недугами (помимо «каменной болезни», он страдал «расширением аорты» — опаснейшим заболеванием, грозившим мгновенной остановкой сердца), Федор Васильевич старался соблюдать православные обряды и предписания отцов Церкви, не делая для себя никаких послаблений.
Когда в начале семинедельного Великого поста рокового 1877 года он все же решил несколько дней есть рыбу, так как придерживаться исключительно постного, безрыбного, по немощи телесной был уже не в состоянии, в дневнике появляется самобичующая запись, свидетельствующая о его нравственном максимализме. «Я Православного исповедания, — писал Чижов, — оно полагает пост, — я его не исполняю. Это гадко… Мне скажут: это не догмат, это постановление Церкви, оно не обязательно, исполнение его обусловливается совестью каждого. Что оно таково, это всего проще и всего яснее высказано в „Слове Иоанна Златоуста“, которое читается в первый день Святого Воскресения на заутрени; великий учитель Церкви обращается одинаково к постящимся и непостящимся. Если хотите, тут во мне нет сознательного исполнения веления Церкви, а есть привычка детства, правило всей нашей семьи… исполняемое всем народом; неисполнение его как будто разрывает меня с семьею, со всем народом и всегда мне сильно неприятно»[676].
Несмотря на нездоровье и невероятную загруженность по предпринимательским делам, Чижов продолжал интересоваться литературой, искусством, философией, живописью. Все отмеченные талантом произведения отечественной словесности читались и перечитывались им с упоением, особенно это касалось литературных новинок, выходивших из-под пера Достоевского, Тургенева, Толстого, Немировича-Данченко. В память Николая Михайловича Языкова он планировал к лету 1877 года, в тридцатую годовщину смерти поэта, подготовить к изданию переписку покойного товарища.
«Зная Спинозу только по имени» и прочтя о нем в дневнике Герцена, Чижов решил познакомиться с его учением как можно подробнее. Восторженные толки в радикальных кругах о Карле Марксе и его революционно-экономической теории подвигли его к чтению «Капитала», чтобы иметь о сем предмете собственное суждение.
Чижов сам не понимал, откуда в нем, «66-летнем старике», такая жажда знаний. Ведь большая часть друзей — уже на том берегу Стикса, да и около его собственного дома «смерть давно уже ходит… и если не стучит в дверь, то только из джентльменства. А между тем ознакомиться со всем незнакомым — сильное, страстное желание…»[677]
Ровно за месяц до смерти Чижов составил в присутствии друзей: Григория Павловича Галагана, Ивана Сергеевича Аксакова и барона Андрея Ивановича Дельвига — окончательный вариант своего духовного завещания. Оно начиналось словами:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я оставляю после себя долги и имущество, которое с избытком может покрыть их; потому считаю долгом перечислить те и другие»[678].
Федор Васильевич составил перечень принадлежавших ему ценных бумаг: 160 акций Московско-Ярославской железной дороги — всего на 41 тысячу 600 рублей; четыре пая Московского купеческого банка на 30 тысяч рублей; десять паев Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова-сына и К° на 10 тысяч рублей и членский взнос в Московский купеческий банк в 5 тысяч рублей. Таким образом, в его активе числилось ценных бумаг на 94 тысячи 400 рублей.
Долги же Чижова были на сумму 64 тысячи рублей и состояли из 35 тысяч паев Московского купеческого общества взаимного кредита, полученных под залог акций Московско-Ярославской железной дороги и паев Купеческого банка, а также принятого им на себя долга Архангельско-Мурманского срочного пароходства на сумму 18 тысяч рублей. Кроме того, он имел обязательства перед сестрами, поддержавшими его в Архангельско-Мурманском начинании: Александре Васильевне и Елене Васильевне он должен был вернуть по 4 тысячи рублей, а Ольге Васильевне, в замужестве Поповой, — 3 тысячи рублей.
Осуществить возврат долгов Чижов просил следующим образом:
«К маю месяцу, когда будут получены дивиденды с акций и паев, продать: четыре пая Московского купеческого банка, десять паев Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова сына и К°, десять акций Московско-Ярославской дороги, потом взять мой членский взнос в Московском купеческом обществе взаимного кредита и получить долг вышеназванный. Все это вместе должно составить более пятидесяти четырех тысяч восьмисот рублей, и этими деньгами покрыть мои долги в Московском купеческом обществе взаимного кредита и принятый на себя долг Архангельско-Мурманского товарищества срочного пароходства…
В уплату долга моим сестрам отдать Александре и Елене Васильевнам по пятидесяти пяти акций Общества Московско-Ярославской железной дороги, а Ольге Васильевне сорок акций, разумеется, когда все акции будут выкуплены…»[679]
Особо в завещании Федора Васильевича была упомянута его «крестница» Екатерина Михайловна Маркевич. В начале 70-х годов она вышла замуж за Василия Семеновича Трифановского, брата известного в Москве врача-гомеопата Д. С. Трифановского. Катенька жила с мужем по преимуществу в Малороссии, в селе Березовка Полтавской губернии Прилуцкого уезда и растила сына, названного в честь ее «крестного отца» Федором. Она всегда была желанной гостьей в доме Федора Васильевича. Да и он сам, пока позволяло здоровье, часто наведывался на Украину в имение Трифановских, баловал Катеньку и «внучка» дорогими, с отменным вкусом выбранными подарками, нередко привозимыми из Западной Европы, где бывал по служебным делам или для лечения.
Согласно воле Чижова, Екатерине Михайловне Трифановской отходил его дом в Москве на Садово-Кудринской, под № 437 и 10, «со всею мебелью, экипажами, часами, кроме картин и библиотеки», а также тысяча акций Московско-Курской железной дороги. По оглашении завещания такое явное предпочтение «крестницы» вызвало ревнивое неудовольствие сестер Федора Васильевича, которые, вероятно, были не посвящены братом в строго хранимую им от пересудов историю своей давней любви.
Весь свой основной капитал, состоявший из 24 тысяч акций, приходившихся на его долю участия в Обществе Московско-Курской железной дороги (за вычетом тысячи акций, доставшихся Е. М. Трифановской), Чижов завещал на устройство и содержание пяти профессионально-технических учебных заведений. Одно ремесленное училище, по его плану, должно было быть сооружено в Костроме — предполагалось, что уровень обучения в нем будет равняться гимназии и готовить средний технический персонал для промышленных предприятий («Из него могли бы выходить ученики в подмастерья, приказчики фабрик, <которые> впоследствии могли бы быть сами директорами фабрик, хозяевами мастерских…»).
Четыре низших училища, построенных в Костроме, Кологриве, Чухломе, а также Галиче или Макарьеве (по выбору Костромского губернского земства), должны были выпускать высококвалифицированных рабочих-ремесленников. Обращаясь к своим душеприказчикам, Савве Ивановичу Мамонтову и Алексею Дмитриевичу Поленову, Чижов просил их составить учебные программы этих училищ таким образом, чтобы в них большая часть времени уделялась развитию профессиональных производственных навыков.
Кроме того, Чижов распорядился основать в Костроме родильный дом и при нем учебное родовспомогательное заведение с классами повивальных бабок. По поводу этого пункта завещания современники гадали: «Каким образом и почему Федор Васильевич пришел к мысли об устройстве именно такого рода учреждения? Был ли у него в жизни какой-либо случай, который показал всю необходимость такого учреждения, или же он сделал это по совету доктора Смирнова, в семействе которого всегда останавливался во время <первых> приездов в Москву?»[680] Имея сегодня доступ к архиву Чижова, его переписке и дневникам, мы смеем выдвинуть более обоснованное предположение. Думается, что сделать такое распоряжение заставила Федора Васильевича память о событиях тридцатилетней давности в далеком малороссийском хуторе Леньков, где скончалась от «послеродовой горячки», дав жизнь дочери, его возлюбленная Катерина Васильевна Маркевич.
Свою личную библиотеку, состоящую из более чем четырех тысяч томов, а также три портрета: скульптора Витали работы К. П. Брюллова, «Пожилого человека с мальчиком» кисти Д. Г. Левицкого, автопортрет А. П. Лосенко — Чижов велел передать в дар Румянцевскому музею. Туда же в запечатанном на сорок лет виде поступали его дневники и переписка.
В те годы многие истинные радетели об отечественной культуре несли в расположенное вблизи Кремля, на Ваганьковом холме, здание бывшей городской усадьбы гвардии капитан-поручика П. Е. Пашкова свои сокровища. Первоначально Румянцевский музей был открыт в 1831 году в Петербурге на основе книжной и рукописной коллекций графа Н. П. Румянцева, библиофила, книгоиздателя и мецената. Спустя тридцать лет собрание Румянцева было перевезено в Москву и со временем преобразовано в настоящий народный музей, создаваемый не на средства казны, а «жертвами милостивцев», представлявших все сословия Российской империи: от Государя Императора и его сановников до временнообязанных крестьян.
Картинная галерея музея начала формироваться с поступления эпохального полотна А. А. Иванова «Явление Христа народу» вместе со 150 эскизами и этюдами к нему. Они были приобретены Императором Александром II у наследников художника специально для Румянцевского музея за 15 тысяч и 25 тысяч рублей золотом соответственно. В дальнейшем «Музей одной картины» пополнялся либо за счет подарков, либо по завещаниям. Несомненно, сделанный Чижовым выбор пристанища для своей библиотеки и картин объяснялся двумя причинами: благородной просветительской целью создателей первого в Москве публичного общедоступного музея и присутствием в нем живописных произведений «друга-римлянина» Иванова.
Похоронить себя Чижов завещал «очень просто», употребив не более полутораста рублей. Кроме того, просил купить хороший покров и отдать его в храм Арбатской части Феодора Студита, прихожанином которого он являлся, а своему духовнику, священнику этой же церкви, уплатить тысячу рублей на помин души.
Утром 14 ноября 1877 года Федор Васильевич Чижов сделал в дневнике небольшую запись, буквально в несколько строк. В последнее время он почти не вставал, проводя дни и ночи в покойных креслах за рабочим столом, в теплом беличьем халате. Любое изменение положения тела причиняло невыносимую боль. Рядом безотлучно находился приехавший из Киева преданный друг — Григорий Павлович Галаган.
Заходили по неотложным делам посетители. Навестил Аксаков. Чижов уверил его, что чувствует себя лучше, и болезнь, видимо, отступает. Около десяти часов вечера Чижов пожал на прощание Ивану Сергеевичу руку и попросил заглянуть на следующий день, ежели будет желание и свободная минута.
Спустя полчаса, в половине одиннадцатого, Чижов преставился о Господе. Смерть была скоропостижной — он скончался от аневризма («мгновенного разрыва сердца») на руках у Галагана, буквально за разговором о том, как, оправившись от недуга, он приедет к нему в Малороссию отдохнуть в столь милых его сердцу Сокиренцах…
Немедленно извещенный о случившемся, Аксаков уже через час был в доме на Садово-Кудринской. «Он сидел в креслах мертвый, с выражением какой-то мужественной мысли и бесстрашия на челе… муж сильного духа и деятельного сердца», — вспоминал Иван Сергеевич подробности той трагической ночи.
Вскоре пришел и Илья Ефимович Репин. Художник был настолько поражен представшим его взору видом маститого старца, как бы на время уснувшего после тяжких трудов и забот, что неуловимость этого мистического, пограничного состояния между сном и смертью он тотчас запечатлел в одном из лучших своих карандашных рисунков «Смерть Чижова». Впоследствии эта мастерски сделанная зарисовка послужила эскизом для одноименной картины, подаренной Репиным Савве Ивановичу Мамонтову.
16 ноября гроб с телом Федора Васильевича при большом стечении разночинного народа друзья и сослуживцы покойного пронесли на руках из церкви Феодора Студита у Никитских ворот к месту его вечного упокоения на кладбище Свято-Данилова монастыря. Рядом со свежевырытой могилой покоился прах его друзей и соратников: Гоголя, Языкова, Хомякова, Самарина, князя Черкасского.
По прошествии нескольких лет Товарищество Архангельско-Мурманского срочного пароходства наконец встало крепко на ноги. Навигационное сообщение в Заполярье, вдоль берегов Белого и Баренцева морей, сделалось регулярным. В 1881 году в память о Чижове на общем собрании пайщиков было решено присвоить его имя одному из новых пароходов Товарищества.
Взошедший на престол в 1881 году молодой Государь Император Александр III взял курс на жесткий протекционизм, предусматривающий поощрение отечественных предпринимателей, за что так долго ратовал Чижов. Благодаря этому получаемая торгово-промышленная прибыль вместо оттока за рубеж стала оставаться, как правило, в России и идти на дальнейшее развитие производства. В результате к концу XIX века в государстве, где сельское население более чем в четыре раза превышало городское, на долю промышленности, строительства, транспорта и торговли приходилась половина национального дохода, и Россия, превзойдя по темпам экономического роста передовые капиталистические страны, вошла в пятерку крупнейших индустриальных держав мира…
Душеприказчики в точности исполнили волю Федора Васильевича, высказанную в его завещании. Доля Чижова в акциях Курской железной дороги составила по их реализации в 1889 году колоссальную по тем временам сумму — 6 миллионов рублей. На эти деньги на основании Высочайше утвержденного в 1890 году «Положения о промышленных училищах имени надворного советника Ф. В. Чижова» и Устава, утвержденного в 1891 году министром народного просвещения, были построены пять специальных учебных заведений. Два из них — в Костроме и три — в уездных городах губернии.
В сентябре 1894 года начались занятия в низшем химико-техническом училище Костромы (первом такого рода учебном заведении в России), а в августе 1897 года — в среднем механико-техническом училище. Через некоторое время они были объединены в Костромское промышленное училище имени Ф. В. Чижова. С 1892 по 1896 год были открыты Чижовские училища в Макарьеве — ремесленное, сельскохозяйственное — в Кологриве и техническое — в Чухломе. По великолепию отделки и интерьеров они напоминали дворянские усадебные гнезда, а комплексы зданий составляли целые учебные городки. В них была создана мощная профессиональная база: специальные лаборатории, кабинеты, производственные мастерские. Последние представляли собой настоящие заводы, оснащенные наисовременнейшими техническими средствами. Преподаватели набирались из выпускников столичных высших учебных заведений, а лучшие учащиеся посылались на стажировку за границу.
Вот отрывок из «Местной хроники», напечатанной в газете «Костромской листок» летом 1900 года: «Командировка учеников за границу. Лучшие ученики нынешнего выпуска средне-технического училища имени Ф. В. Чижова будут посланы в электротехнический институт в Карлсруэ… Средства на этот предмет даны душеприказчиками покойного Ф. В. Чижова, завещавшего училищу 6 миллионов рублей»[681].
К началу века все пять учебных заведений были обеспечены неприкосновенным капиталом в 3, 9 миллиона рублей. Он был надежно помещен в Государственный банк, а начисляемые проценты с лихвой покрывали содержание училищ на сумму 148 тысяч рублей в год.
При каждом из училищ действовала церковь. К их оформлению были привлечены друзья Саввы Ивановича Мамонтова из Абрамцевского художественного кружка. Василий Дмитриевич Поленов и его сестра художница Елена Дмитриевна расписали храм при сельскохозяйственной школе в Кологриве, используя мотивы библейских эскизов Александра Иванова.
В 1902 году в Костроме открылось Учебное родовспомогательное заведение имени Ф. В. Чижова, готовившее «опытных повивальных бабок 1-го разряда». В 1915 году приняла первых читателей Костромская публичная библиотека имени Ф. В. Чижова.
Кроме того, в начале века был разработан проект ежегодной Чижовской премии за «наилучшие сочинения на пользу русской промышленности». Премии в 10 тысяч, 6 тысяч и 2 тысячи рублей присуждались Комитетом, состоящим из шести профессоров (трех — университетских и трех — из технических училищ). Если бы не революция, кто знает, не стали бы сегодня Чижовские премии, обеспеченные неприкосновенным капиталом, обросшим немалыми ежегодными процентами, соперничать на равных со знаменитыми премиями Альфреда Нобеля…
Жизнь подтвердила, что начатое Чижовым освоение северных окраин России было не блажью настырного «миллионщика», а насущным государственным делом. Достигшая Архангельска Ярославская железная дорога в годы Первой мировой войны была в срочном порядке продлена до Мурмана и получила важнейшее стратегическое значение. В 1915–1916 годах в Екатерининской гавани Кольского полуострова начал действовать незамерзающий морской порт и был заложен город Мурманск. Через него по Северной железной дороге в отрезанную от союзников Россию доставлялись жизненно необходимые товары и грузы. Неоценимую военно-хозяйственную роль сыграла и основанная при участии Чижова Донецкая железная дорога, с помощью которой стали разрабатываться богатейшие залежи каменного угля в Донецком бассейне — главной топливно-энергетической базе Европейской России.
Благодарные земляки решили к 40-летию со дня смерти Чижова поставить у здания городского самоуправления, на месте осужденной на слом водонапорной башни, памятник «известному благотворителю и учредителю многих профессиональных учебных заведений Костромской губернии» и вокруг него разбить сквер. Для сбора средств была объявлена всенародная подписка. Значительные суммы пожертвований поступили от губернского и уездного земств. Городская дума, со своей стороны, ассигновала на эти цели 2 тысячи рублей… К сожалению, памятник Чижову так и не был открыт — запланированное в Костроме торжество пришлось на ноябрь 1917 года…
Вскоре не стало и парохода «Федор Чижов». 13 мая 1918 года во время военных действий в бухте Вайда-губа он был торпедирован германской подводной лодкой и затонул.
Затонула, ушла в небытие и память о предпринимателе-патриоте Федоре Васильевиче Чижове: он не укладывался в прокрустово ложе «классового подхода», провозглашенного новой властью основным мерилом ценностей. Приходится только сожалеть, что русская литература XIX века, великая учительница жизни, в мучительных поисках ответа на вопросы «что делать?» и «кто виноват?» сосредоточила свое внимание на антигероях, «лишних людях» с их непобедимо-разрушительным обаянием, и прошла мимо такого типа русского человека-созидателя, действительного героя своего времени, каким был Чижов.
… Скромное, из белого мрамора, надгробие на могиле Чижова в форме древнего, допетровских времен, креста и плиты с высеченными датами рождения и смерти не сохранилось. В 1929 году Свято-Данилова обитель была закрыта, а на ее территории, окруженной высокими монастырскими стенами, организован приемник-распределитель для детей репрессированных родителей и несовершеннолетних правонарушителей. Кладбище при монастыре, некогда представлявшее собой настоящий заповедный уголок, «где представители славянофильства и люди, близкие им по духу, собирались в тесную семью»[682], было уничтожено, а уникальные надгробные памятники разошлись в усекновенном виде, без крестов и иной православной символики, по соседним кладбищам. Удалось спасти только останки Языкова, Гоголя и Хомякова — в 1931 году их перенесли на кладбище Новодевичьего монастыря. А место погребения Чижова сровняли с землей.
Еще раньше имя Чижова было сбито с фронтонов пяти промышленных училищ, подаренных им России. Находившиеся там картины кисти С. А. Коровина, на одной из которых был изображен Чижов, работающий у наковальни, а также его прижизненный бюст, выполненный С. И. Мамонтовым, бесследно исчезли.
Но в народе великолепные здания, построенные в стиле неоклассицизма, продолжали упорно именоваться «чижовскими». В них получило специальное техническое образование не одно поколение российского юношества, ставшего действительными наследниками чижовских миллионов. И среди них — гордость отечественной науки, выдающийся русский химик Григорий Семенович Петров. Именно ему Россия обязана изобретением в 1913 году первой отечественной пластмассы — карболита, и универсального клея, получившего известность под маркой «БФ». А ведь в жизни профессора Петрова не было ни столичных университетов, ни институтов — все его образование ограничилось учебой в костромской «чижовке».
Время все расставило на свои места — в этом великая справедливость истории. К нам тяжело, исподволь возвращается память. Последние десять лет юбилейные даты, связанные с именем Чижова, торжественно отмечаются на его родине. Имя славного земляка возвращено Костромскому химико-механическому техникуму, с 1927 года носившему имя Л. Б. Красина. При техникуме создан музей, отражающий его историю. На здании Чижовского училища в Анфимове, недалеко от Чухломы, открыта памятная доска, рассказывающая о его основателе. В церквах служатся панихиды. На территории возрожденного Свято-Данилова монастыря в Москве, ставшего с начала 1980-х годов резиденцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, в том месте, где когда-то находился разоренный некрополь, возведена часовня — в память обо всех, нашедших здесь свое последнее пристанище…
«Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая на их могилах», — написал когда-то Василий Осипович Ключевский. Хочется верить, что скрижали истории, на которых золотыми буквами выбито имя недюжинного предпринимательского таланта, славного русского патриота Федора Васильевича Чижова, никогда впредь не покроются безжалостной патиной забывчивой неблагодарности потомков.
Сегодня мы крайне нуждаемся в таких бескорыстных деятелях, людях долга и чести, каким был Чижов, радевший не о собственной выгоде и спекулятивной наживе, а об укреплении мощи, процветании, пользе и славе отечества. И чем раньше появится у нас такой тип просвещенных, патриотически настроенных предпринимателей, тем скорее возродится Россия.
ИЛЛЮСТРАЦИИ[683]

Кострома. Набережная реки Волги и пристань. Фотография Д. И. Пряничникова. Начало 1910-х годов.

Богоявленский монастырь, вблизи которого на Старо-Троицкой улице родился Ф. В. Чижов. Фотография 1910-х годов

Кострома. Молочная гора. Фотография М. Ф Риттера. Начало 1910-х годов.

Ф. И. Толстой-Американец. Художник К.-Х.-Ф. Рейхель. Масло.

Петербургский университет. Гравюра 1-й половины XIX века.

Е. В. Галаган. Художник А. Н. Мокрицкий. Масло. 1832 год.

Г. П. Галаган. Художник В. А. Серебряков. Масло. 1842 год.


Украинец и Украинка. Этюды И. Е. Репина.

Ярмарка. Художник К. Е. Маковский.

Дворец Галаганов в Сокиренцах.

В. А. Жуковский.

Н. В. Гоголь.

Дом на Via Felice, 126 в Риме, где Гоголь, Языков и Чижов жили в зиму 1842/43 года. Современная фотография.

Октябрьский праздник в Риме у Понте Молле. Акварель А. А. Иванова. 1842 год.

Явление Христа народу. Картина А. А. Иванова.

Мастерская А. А. Иванова. Конец 1830-х — начало 1840-х годов.

Воскресение Христово. Эскиз А. А. Иванова к запрестольному образу храма Христа Спасителя в Москве. Гуашь. 1845 год.

Святая великомученица Екатерина Александрийская. Художник Джованни Анджелико Фиезолийский (1430-е годы).

А. А. Иванов.

Париж. Дворец камеры депутатов. Акварель середины XIX века.

Париж. Итальянский бульвар. Литография середины XIX века.

А. Мицкевич.

М. А. Бакунин.

Москва. Середина XIX века.


А. С. Хомяков и Ф. В. Чижов. Карандашные рисунки Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1846 год.

А. О. Смирнова-Россет.

Московская гостиная 1840-х годов. Художник Б. М. Кустодиев Акварель. 1912 год.

Е. А. Свербеева.




Карандашные рисунки Э. А. Дмитриева-Мамонова: И С. Аксаков, Н. В. Гоголь, М. П. Погодин, К. С. Аксаков.

Салон Елагиных.

И. В. Киреевский и В. А. Елагин.

Н. М. Языков. Художник Э. А. Дмитриев-Мамонов.
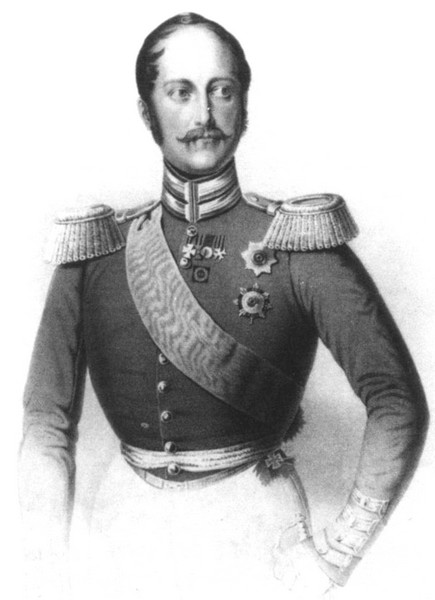
Император Николай I. Литография Майера по рисунку Крюгера.

Дорожный тракт. Рисунок неизвестного художника. Акварель. 1-я половина XIX века.
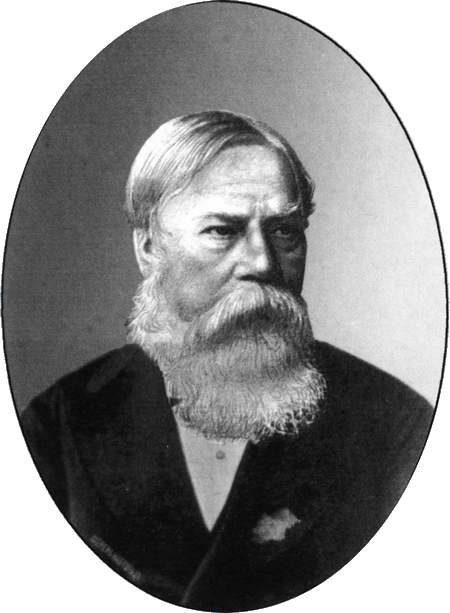
Ф. В. Чижов. Фотография начала 1870-х годов.

Император Александр II с сыновьями: Цесаревичем Александром Александровичем и Великими князьями Владимиром и Алексеем Александровичами. Фотография А. И. Деньера. 1865 год.

Москва. Охотный Ряд. Литография А. Гудона.
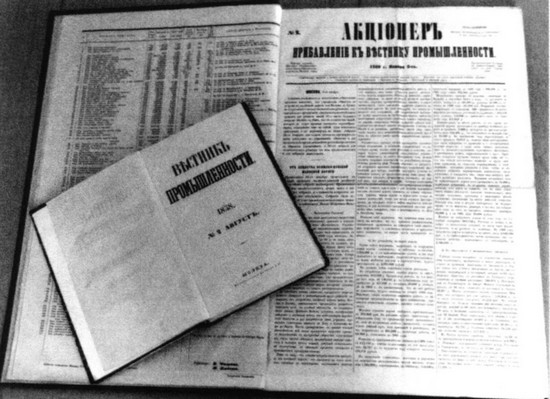
Журнал «Вестник промышленности» и газета «Акционер».

И. К. Бабст. Фотография 1860-х годов.

И. С. Аксаков. Фотография А. И. Деньера начала 1870-х годов.
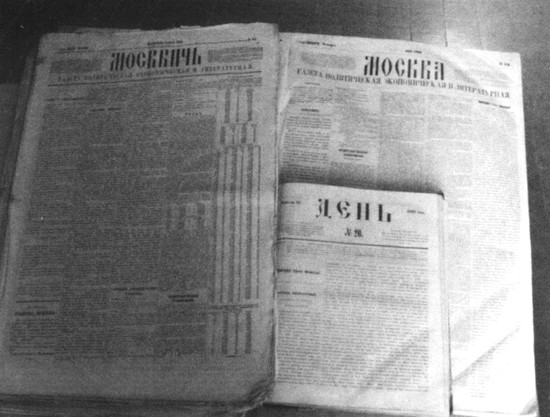
Газеты «День», «Москва» и «Москвич».
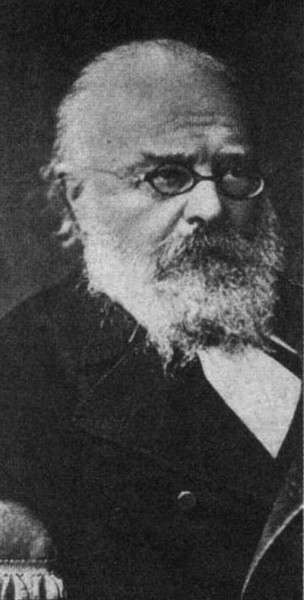
А. И. Кошелев.

Князь В. А. Черкасский.

Ю. Ф. Самарин.

А. И. Герцен. Фотография 1860-х годов

В. С. Печерин. Фотография конца 1860-х годов

Д. В. Поленов. Гравюра В. А. Боброва. 1879 год.

А. В. Никитенко. Художник И. В. Крамской. Масло. 1863 год.

Павел Галаган. Литография конца 1860-х годов.

Г. П. Галаган. Фотография начала 1880-х годов.

Коллегия имени Павла Галагана в Киеве.

B. Д. Поленов у входа в мастерскую. Фотография C. И. Мамонтова начала 1880-х годов.

В. Д. Поленов. Московский дворик. Масло. 1878 год.

И. Е. Репин. Садко в подводном царстве. Масло. 1876 год.
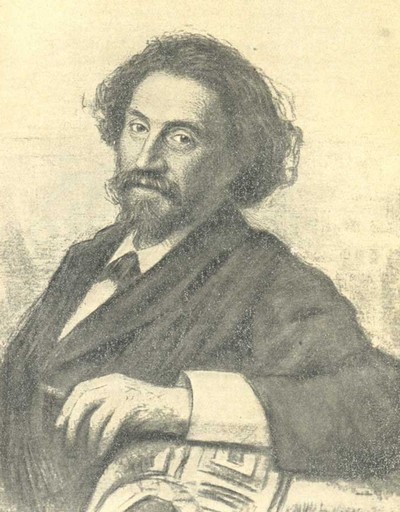
И. Е. Репин. Автопортрет.

И. Ф. Мамонтов. Фотография 1860-х годов.
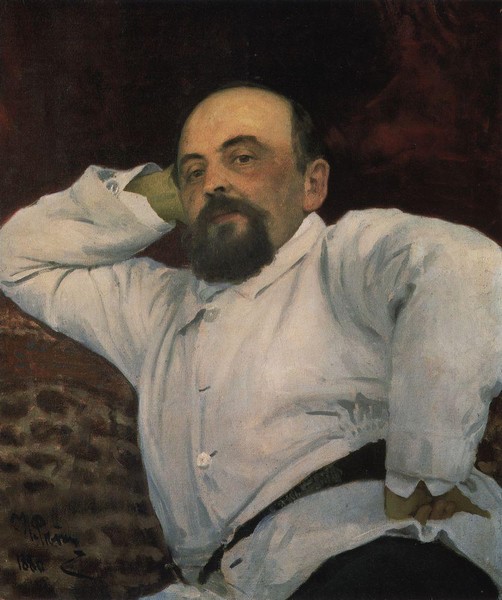
С. И. Мамонтов. Художник И. Е. Репин Масло. 1880 год.

Дом в Абрамцеве.
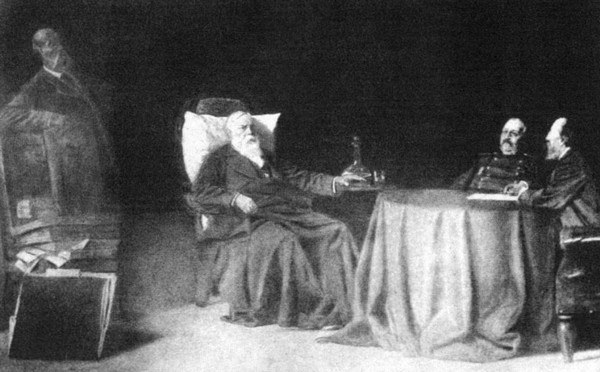
С. А. Коровин. Ф. В. Чижов, окруженный друзьями, пишет духовное завещание. Слева стоит: Г. П. Галаган. Справа у стола сидят: барон А. И. Дельвиг и И. С. Аксаков.

Ф. В. Чижов на смертном одре. Рисунок И. Е. Репина. 1877 год.
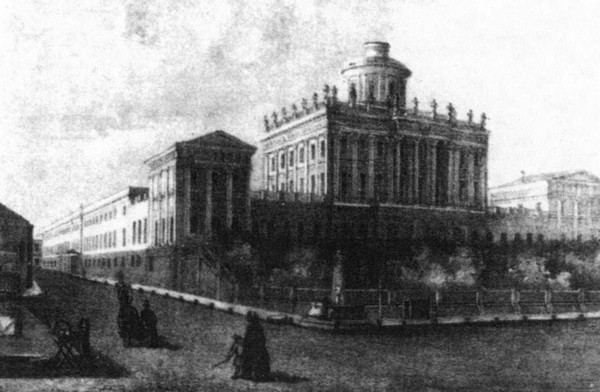
Московский публичный и Румянцевский музеи. Гравюра середины XIX века.

Церковь Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, где отпевали Чижова.
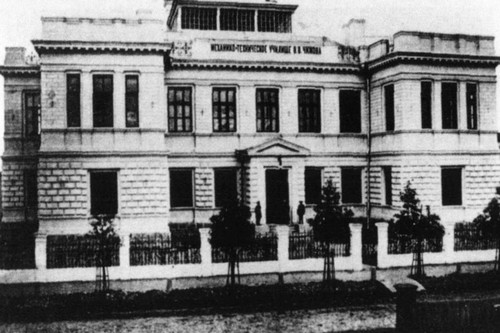
Высшее механико-техническое училище имени Ф. В. Чижова в Костроме. Фотография начала 1900-х годов.

Интерьер техникума: вестибюль и большой актовый зал.

В глубине — две картины С. А. Коровина: «Ф. В. Чижов, окруженный друзьями, пишет духовное завещание» и «Чижов у наковальни», ныне утраченные.

Фотографии начала 1900-х годов: Низшее химико-техническое училище в Костроме.
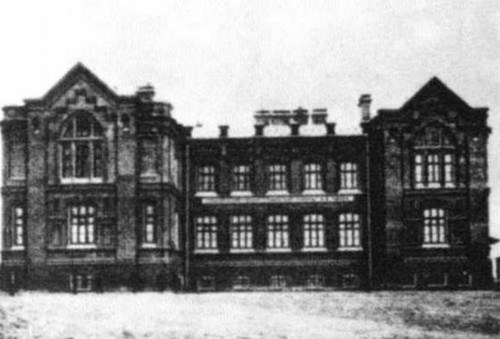
Сельскохозяйственное училище близ г. Кологрива.

Техническое училище близ г. Чухломы.
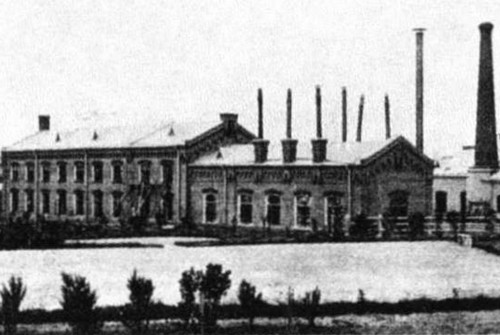
Мастерские Костромского механико-технического училища.

«Чижовцы» на могиле Ф. В. Чижова в Даниловом монастыре в день его 100-летнего юбилея 27 февраля 1911 года. В центре — С. И. Мамонтов.

Водонапорная башня у здания Костромского городского самоуправления, на месте которой в ноябре 1917 года собирались открыть памятник Ф. В. Чижову. Фотография 1913 года.

Современный вид. Фотография В. Ф. Шевченко. 2001 год.

B. И. Колчина, выпускница Костромского энергетического техникума 1946 года, в музее Ф. В. Чижова у исторических экспонатов: прибора Кеннига для анализа звука и кресла, изготовленного в абрамцевских мастерских C. И. Мамонтова. Фотография автора. 2001 год.

Автор книги у памятной доски Чижову на здании Химико-механического техникума. Фотография А. В. Шмалько. 1987 год.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. В. ЧИЖОВА
1811, 27 февраля (11 марта). Рождение Федора Васильевича Чижова в г. Костроме.
1820–1823. Учеба в Костромской гимназии.
1823. Отъезд вместе с отцом в Петербург.
1823–1828. Учеба в Третьей петербургской гимназии.
1828. Поступление на физико-математический факультет Петербургского университета.
1830. Вхождение в круг участников никитенковских «пятниц» — еженедельного собрания студентов и выпускников Петербургского университета. Знакомство с В. С. Печериным.
1832. Окончание университета со степенью кандидата физико-математических наук. Начало преподавательской деятельности в Петербургском университете в качестве адъюнкт-профессора и работы под руководством академика М. В. Остроградского над диссертацией на тему «Об общей теории равновесия с приложением к равновесию жидких тел и определение фигуры Земли».
1834. Знакомство с адъюнкт-профессором кафедры всеобщей истории Петербургского университета Н. В. Гоголем.
1836. Успешная защита диссертации и получение степени магистра философии по отделу физико-математических наук.
1836–1838. Репетиторство в семье Галаганов.
1840. Оставление преподавательской деятельности.
1841, лето. Отъезд за границу с целью сбора материалов по истории искусств; посещение Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Франции, Италии.
1841–1845. Работа в библиотеках Венеции и Ватикана над четырехтомной историей Венецианской республики.
1842–1843, зима. Жизнь в Риме, в одном доме с Н. В. Гоголем и Н. М. Языковым, на Via Felice, 126. Знакомство и дружба с художником А. А. Ивановым.
1843. Организация «суббот» — еженедельных собраний русских художников в Риме.
1843, июнь — сентябрь. Пешеходное путешествие из Венеции в бывшие ее владения: Истрию, Далмацию и Черногорию. Увлечение славянским национально-освободительным движением в Габсбургской и Османской империях. Знакомство со сводным братом И. В. и П. В. Киреевских В. А. Елагиным и славянофилом А. Н. Поповым.
1844. Пребывание в Париже. Знакомство с представителями различных политических кружков и партий. Дискуссии с А. Мицкевичем и М. А. Бакуниным о судьбах славянского мира.
1844, август. Доставка в Перой (Истрия) присланных из России для местной православной церкви икон, облачений и богослужебных книг.
1845. Путешествие в Словению, Хорватию, Военную Границу, Словакию и Сербию. Изучение жизни, истории, искусства и хода освободительной борьбы славянских народов.
1845, сентябрь —1846. Пребывание на Украине, в Петербурге и Москве. Личное знакомство с А. С. Хомяковым, братьями Киреевскими, Аксаковыми, Ю. Ф. Самариным.
1846, лето. Начало работы по подготовке к изданию славянофильского журнала «Русский вестник».
1846, осень. Отъезд в земли южных славян для создания корреспондентской сети будущего журнала.
1847, 6 мая. Арест при въезде в пределы России.
1847, 14–28 мая. Пребывание под следствием в Третьем отделении по подозрению в причастности к Кирилло-Мефодиевскому обществу.
1847, июнь. Отъезд в ссылку на Украину.
1848, май. Встреча с Гоголем в Киеве.
1850, май. Аренда у Министерства государственных имуществ на 24 года 60 десятин шелковичных плантаций на хуторе Триполье близ Киева.
1855. Освобождение от обязанности направлять предназначенные для печати статьи на просмотр в Петербург, в Третье отделение.
1856. 31 марта. Подача анонимной записки на имя Императора Александра II о необходимости реорганизации системы управления промышленностью и торговлей в России.
1857. Получение почетного звания вольного общника Российской Императорской Академии художеств.
1857, лето. Переезд в Москву.
1857, август. Высочайшее разрешение на издание первого в России журнала для предпринимателей «Вестник промышленности».
1857, осень. Пребывание на средства братьев А. П. и Д. П. Шиповых — издателей журнала «Вестник промышленности» — в Западной Европе: Германии, Бельгии, Англии, Франции, Италии и Австрии. Налаживание связей с выходившими там периодическими торгово-промышленными изданиями и их авторами. Посещение лекций по политической экономии в столичных университетах, составление библиографии по проблемам мирового торгово-промышленного развития.
1858. Знакомство с инженером бароном А. И. Дельвигом.
1858, январь. Участие в учреждении в Москве Славянского благотворительного комитета.
1858, июль — 1861. Издание «Вестника промышленности».
1859. Избрание действительным членом Общества любителей российской словесности.
1859, 29 мая. Высочайшее утверждение устава акционерного общества Московско-Троицкой железной дороги.
1860, январь. Выход в свет газеты «Акционер» — еженедельного приложения к журналу «Вестник промышленности».
1860. Избрание кандидатом в члены правления Московско-Троицкой железной дороги. Посещение в Лондоне А. И. Герцена.
1861. Избрание председателем правления Московско-Троицкой железной дороги.
1862. Первое издание полного собрания сочинений Н. В. Гоголя под редакцией Чижова в типографии П. Бахметева в количестве шести тысяч экземпляров.
1862, 18 августа. Открытие движения поездов от Москвы до Троице-Сергиева Посада.
1863. Чижовский «Акционер» выходит в свет совместно с газетой И. С. Аксакова «День».
1864–1865. Редактирование в «Дне» специального экономического отдела. Упразднение «Акционера».
1865, январь. Созыв в Москве Первого купеческого съезда.
1866. Учреждение по просьбе московского купечества новой политико-экономической еженедельной газеты «Москва»; привлечение И. С. Аксакова к ее редактированию.
1866, декабрь. Открытие Московского купеческого банка. Избрание Чижова председателем правления.
1867. Участие в организации и проведении в Москве Славянского съезда.
1867, январь —1868, октябрь. Издание газеты «Москва» (на время ее цензурных приостановок газета продолжала выходить под названием «Москвич»).
1867. Создание совместно с С. И. Мамонтовым и Д. П. Шиповым Московского товарищества капиталистов для приобретения у казны Николаевской железной дороги.
1868. 7 июня. Высочайшее утверждение устава общества Московско-Ярославской железной дороги.
1869. Организация Товарищества московских капиталистов для покупки Московско-Курской железной дороги.
1869, июль. Учреждение Московского купеческого общества взаимного кредита и избрание Чижова председателем его правления.
1870. Учреждение в Киеве по проекту и плану Чижова Коллегии Павла Галагана.
1870, 18 февраля. Открытие железной дороги от Троице-Сергиева Посада до Ярославля.
1870, 24 июля. Высочайшее утверждение дополнительных статей к уставу общества Московско-Ярославской дороги для строительства узкоколейной железной дороги от Ярославля до Вологды.
1870, август. Участие в учреждении сельского банка в Полтавской губернии.
1870. ноябрь. Создание совместно с генерал-губернатором Ташкентского края К. П. Кауфманом Ташкентского акционерного шелкомотального общества и вхождение в члены его совета.
1871. Одобрение в Комитете министров устава акционерного общества для приобретения и эксплуатации Московско-Курской железной дороги. Избрание председателем ее правления.
1872. Открытие по инициативе Чижова Дельвиговского железнодорожного училища. Чижов — председатель совета училища.
1872, 28 июня. Начало движения поездов по Ярославско-Вологодской железной дороге.
1873–1874. Проведение изыскательских работ для строительства окружной дороги вокруг Москвы.
1874. Участие в организации при Московской городской думе Товарищества московских водопроводов и избрание на пост его вице-председателя. Вхождение в число учредителей образованного при Думе Общества газового освещения московских улиц.
1875, 17 сентября. Личная встреча с генералом М. Г. Черняевым по вопросу о сборе средств для нужд русского добровольческого движения в помощь югославянам.
1875, июнь. Высочайшее утверждение устава Товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства по Белому морю и Северному Ледовитому океану.
1875, 1 июля. Открытие сообщения между Архангельском и Мурманским берегом.
1876, январь. Организованное Чижовым акционерное общество во главе с С. И. Мамонтовым получает концессию на строительство Донецкой каменноугольной железной дороги.
1877, 14 (26) ноября. Кончина Федора Васильевича Чижова в собственном доме на Садово-Кудринской в Москве.
БИБЛИОГРАФИЯ
ОПУБЛИКОВАННЫЕ ТРУДЫ Ф. В. ЧИЖОВА
Воспоминания (Ответы Ф. В. Чижова на вопросы, предложенные ему в Третьем отделении) // Исторический вестник. 1883. Т.1. Февраль.
Воспоминания о Н. В. Гоголе // Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 т. СПб., 1856.
Вступительное слово к публикации отзыва В. С. Печерина по вопросу о классическом и реальном образовании // Русский архив. 1871. № 10.
Джемс Уатт // Библиотека для чтения. 1851. Т. 110. Ч. 2.
Джованни Анджелико Фиезолийский и об отношении его произведений к нашей иконописи // Русская беседа. 1856. № 4. Жизнеописания.
Дневник «Путешествие по славянским землям 1845 года…» // Славянский архив. М., 1958.
Духовное завещание // Русский архив. 1893. № 3.
Есть ли у нас свободные капиталы для постройки железных дорог? (Читано в заседании Отделения статистики Русского географического общества 10-го декабря). СПб., 1866. — Доклад впервые был опубликован в № 279 и 280 «Русского инвалида» за 1865 год.
Живопись и живописцы главнейших европейских школ. Настольная книга для любителей изящных искусств, составлена по лучшим современным изданиям А. Андреевым. Рецензия // Молва. 1857. № 19 и 20.
Жизнь и открытия Джемса Уатта // Сын отечества. 1840. Т. 2.
Житие преподобных Антония и Феодосия Печерских. СПб., 1871.
Заметки путешественника по славянским странам // Русская беседа. 1857. № 1. Смесь; № 2. Смесь.
Записки Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел мастера и скульптора: В 2 ч. (Пер. с итал.). СПб., 1848. (Прил. к № 1 журнала «Современник» за 1848 год).
Историческое обозрение шелководства в Киевской губернии // Журнал сельского хозяйства. 1851. № 7 и 8.
История европейской литературы XV–XVI столетий Галлама / Пер. с англ. Ф. Чижова: Ч. 1, 2. СПб., 1839.
Комментарий к письму А. С. Пушкина к В. Ф. Одоевскому // Русский архив. 1864, № 7 и 8.
Краткое практическое наставление к выводке коконов. СПб., 1855.
Куда направить от Москвы южную дорогу // День. 1864. № 48.
Несколько слов о шелководстве в России // Акционер. 1862. № 27–29.
О В. С. Печерине // Русская старина. 1889. Т.П.
О переносном газе в Москве // Вестник промышленности. 1859. № 7.
О работах русских художников в Риме // Московский литературный и ученый сборник. М., 1846.
О римских письмах Муравьева // Московский литературный и ученый сборник. М., 1847.
О трудах по истории русского законодательства // Русский архив. 1869. Стлб. 2045–2066.
О Фридрихе Овербеке // Современник. 1846. XLIII. № 7.
О ходе кормления шелковичных червей в 1851 году в Киевской губернии в шелковичном саду близ местечка Триполье // Сибирские ведомости. 1852. № 80–84.
Обозрение русских газет и журналов по части наук математических // Журнал Министерства народного просвещения. 1836. Ч. XI; 1837. Ч. XIII.
Описание сеяльной мельницы, приспособленной к потребностям русского сельского хозяйства // Библиотека для чтения. 1838. Т. XXVI–II.
Памятники Московской древности Ивана Снегирева // Московский литературный и ученый сборник. М., 1847.
Паровые машины. История, описание и приложение их, взятые из соч. Пертингтона, Стеффенсона и Араго. СПб., 1838.
Письма к Н. В. Гоголю // Русская старина. 1889. Т. 63. Август.
Письма к А. А. Иванову // Русский архив. 1884. № 1.
Письма к А. В. Никитенко // Русская старина. 1904. Т.П.
Письма к Н. М. Языкову // Литературное наследство. М., 1935. Т. 19–21.
Письма о шелководстве: 9 писем. СПб., 1853.
Письма о шелководстве: 23 письма. М., 1870.
Письмо к Лахтину / Публикация А. Сабурова // Литературное наследство. М., 1941. Т. 41–42.
Письмо к А. В. Никитенко из Дрездена от 3. IX (22.VIII) 1841 // Русская старина. 1899. Т. 11.
Письмо к Ю. Ф. Самарину от 1853 года / Подгот. к печати, предисл. и примеч. Н. И. Цимбаева // Вопросы философии. 1992. № 4.
Полвека общественной жизни. Воспоминания И. А. Шестакова, с предисловием Ф. В. Чижова // Русский архив. 1873. С. 164–200.
Положение дел Московского купеческого банка. М., 1866.
Приблизительные соображения о доходности предполагаемой железной дороги от Москвы до Ярославля. М., 1866; Изд. 2-е, исправленное и значительно пополненное. М., 1867.
Призвание женщины: Переделка с английского. СПб., 1840.
Прощание с Франциею и Женева. Венеция 1844 года // Московский литературный и ученый сборник. М., 1847.
Рассуждение об общей теории равновесия с приложением к равновесию жидких тел и определению фигуры Земли. СПб., 1836.
Русские художники в Риме. СПб., 1842.
Список и краткое содержание всех грамот и вообще всех бумаг, заключающих в себе сношения России с Венецианской республикою // Чтения Общества истории и древностей российских. 1846. № 4. Отд. IV.
Степень, до которой может развиться шелководная промышленность //Акционер. 1862. № 37.
Топографическое описание Черниговского наместничества, составленное Афанасием Шафонским. Рецензия // Московские ведомости. 1852. № 92, 93.
АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ): ф. 3 (Аксаковых), ф. 139 (А. И. Кошелева), ф. 265 (Ю. Ф. Самарина), ф. 327 (В. А. Черкасского), ф. 332 (Ф. В. Чижова).
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) (ИРЛИ): ф. 3 (Аксаковых), ф. 18 (П. И. Бартенева), ф. 265 (журнала «Русская старина»), ф. 384 (В. С. Печерина), 1487. VII (Н. М. Языкова).
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ): ф. 109 (Третье отделение С. Е. И. В. канцелярии).
Российский государственный исторический архив (РГИА): ф. 97 (Товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства), ф. 268 (Особенной канцелярии по кредитной части), ф. 560 (Комитета финансов), ф. 735 (Канцелярии министра народного просвещения), ф. 772 (Главного управления цензуры), ф. 773 и 775 (Особенной канцелярии министра народного просвещения), ф. 776 (Главного управления по делам печати МВД).
Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ГИМ ОПИ): ф. 44 (И. К. Бабста), ф. 231 (А. Н. Попова), ф. 209 (М. Г. Черняева), ф. 440 (И. Е. Забелина).
Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина): ф. 14 (Аксакова), ф. 124 (В. И. Межова), ф. 209 (И. Г. Черняева), ф. 356 (Е. П. Ковалевского).
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ): ф. 10 (Аксаковых), ф. 472 (Свербеевых), ф. 799 (Мамонтовых).
ЛИТЕРАТУРА
Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов. Из речи, произнесенной 18 декабря 1877 года. М., 1878.
Коваль Л. Даритель Чижов // Библиотека (Москва). 1993. № 5.
Коваль Л. М. Книжный Петербург в жизни и творчестве Ф. В. Чижова //Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской: Сб. научных трудов. Л., 1987. Вып. 113.
Козьменко И. В. Дневник Ф. В. Чижова «Путешествие по славянским землям» как источник // Славянский архив. М., 1958.
Либерман А. А. Краткий биографический очерк Федора Васильевича Чижова. М., 1905.
Прохорова А. Н. К жизнеописанию Ф. В. Чижова. Его родители и сестры // Русский архив (Москва). 1907. № 4.
Розанов И. Из переписки Н. М. Языкова с Ф. В. Чижовым 1843–1845 годов //Литературное наследство (Москва). 1935. Т. 19–21.
Симонова И. А. «Два полюса магнита…»: Исторические портреты // Встречи с историей. М., 1990. Вып.3.
Симонова И. А. «Заговорщики»: Из истории одного несостоявшегося политического процесса // Истоки: Альманах. М., 1990. Вып. 22.
Симонова И. А. «Муж сильного духа и деятельного сердца» // Предпринимательство. 1992. № 1.
Симонова И. А. «Мы оживим наш Север…» // Мир Севера. 1998. № 1–2.
Симонова И. А. О взаимосвязи славянофильства с идеологией Кирилло-Мефодиевского общества. Ф. В. Чижов и кирилло-мефодиевцы // Советское славяноведение. М., 1988. № 1.
Симонова И. А. В. С. Печерин и Ф. В. Чижов / Общественное движение в России XIX века. М., 1986.
Симонова И. А. «С душой вашей роднится душа беспрестанно…» // Москва. 2001. № 4.
Симонова И. А. Социально-экономическая доктрина славянофильства во взглядах и деятельности Ф. В. Чижова: Дис… канд. ист. наук. М.: Институт Истории СССР АН СССР, 1986.
Симонова И. А. Фонарщик всероссийского масштаба. Предпринимательская деятельность Ф. В. Чижова // Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte. Unemehmertum in Russland: 1997. Berlin, 1998.
Чероков A. C. Федор Васильевич Чижов и его связи с Н. В. Гоголем. Биографический очерк. М., 1902.
Швабе Н. К. Архив Ф. В. Чижова // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 15. М., 1953.
Simonova I. «А Man of Strong Character and an Active Heart». Fedor V. Chizhov // Russian Studies in History: Entrepreneurship in the Russian Empire, 1861–1914. Armonk, NY, 1996. Vol. 35, No. 1.
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Автор выражает благодарность за помощь в издании книги:
Правительству Москвы,
Московскому Литфонду и Альфа-банку,
главе администрации Костромской области г-ну В. А. ШЕРШУНОВУ,
главе костромского представительства в Москве г-же Г. М. ПШЕНИЦЫНОЙ,
Российскому фонду культуры, ее президенту г-ну Н. С. МИХАЛКОВУ и первому вице-президенту г-ну С. Г. БЛИНОВУ,
Костромскому фонду культуры в лице г-на Ю. В. ЛЕБЕДЕВА,
генеральному директору компании «Святой источник» г-ну Е. Б. ВТЮРИНУ,
президенту ОАО «Кострома-Газтранссервис» г-ну В. М. МИГУНОВУ.
Сноски
Примечания
1
Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов. Из речи, произнесенной 18 декабря 1877 года. М., 1878. С. 7.
2
См.: Симонова И. А. Социально-экономическая доктрина славянофильства во взглядах и деятельности Ф. В. Чижова: Дисс… канд. ист. наук. М.: Институт истории СССР АН СССР, 1986.
3
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук Российской Федерации (ИРЛИ). Ф. 3. Оп. 3. Д. 48.
4
Игроков А. С. Федор Васильевич Чижов и его связи с Н. В. Гоголем: Биографический очерк. М., 1902.
5
См.: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 332. К. 83. Д. 16. Л. 4; Прохорова А. Н. К жизнеописанию Ф. В. Чижова. Его родители и сестры // Русский архив. 1907. № 4. С. 623.
6
Кологривский филиал Костромского историко-архитектурного музея-заповедника. КРМ 2136/1–3. Ревизская сказка 131.
7
Пушкин А. С. Евгений Онегин // Собр. соч.: В 10 т. М., 1960. Т. 4. С. 115.
8
ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 3. Л. 3–4.
9
Там же. Л. 4 об.
10
Цит. по: Прохорова А. Н. Указ. раб. С. 626.
11
Там же.
12
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 332. К. I. Д. I. Л. 15 об., 16 об. — 17; Из письма Ф. В. Чижова к У. Д. Чижовой от 17 марта 1827. — Там же. К. 9, Д. 3. Л. 1 об., 1а.
13
Цит. по: Прохорова А. Н. Указ. раб. С. 627.
14
Герцен А. И. Былое и думы // Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 8. С. 107.
15
Хрущов Г. Очерк жизни и деятельности Д. В. Поленова. СПб., 1879. С. 23.
16
ИРЛИ. Ф. 348. Д. 15. Л. 220 об.
17
ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 3. Л. 122.
18
Там же. Д. 4. Л. 10.
19
Там же. Л. 122.
20
Там же. Л. 129–130 об.
21
Цит. по: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 годов. СПб., 1908. С. 286.
22
Игроков А. С. Указ. раб. С. 7.
23
Из письма Ф. В. Чижова к Лахтину, б/д. // Литературное наследство. М., 1941. Т. 41–42. С. 479.
24
ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 4. Л. 50.
25
Из письма Ф. В. Чижова к матери от 4. II. 1838. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 9. Д. 5. Л. 18 об.
26
Там же. Д. 3. Л. 202; Д. 4. Л. 14.
27
Там же. Д. 3. Л. 197.
28
Из письма Ф. В. Чижова к И. К. Гебгардту, втор. пол. 1830-х годов. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 10. Д. 18. Л. 3, 3 об.
29
Из письма Ф. В. Чижова к матери от 8 ноября 1838. — Там же. К… 9. Д. 5. Л. 33 об. (Ср. с письмом Ф. В. Чижова к матери от 16 сентября 1838 года. — Там же. Л. 33 об.).
30
ОР РГБ. Ф.332. К. 1. Д. 4.
31
Николай Семенович Мордвинов, граф (1754–1845) — государственный и общественный деятель, адмирал, с 1823 по 1840 год — президент Вольного экономического общества.
32
Алексей Алексеевич Бобринский, граф (1800–1868) — известный сельский хозяин, изобретатель и усовершенствователь агрономических орудий, владелец образцового свеклосахарного завода на Украине, с 1840 года — член Совета Министерства финансов и Мануфактурного совета. Чижов был наставником у его сыновей Александра и Владимира Алексеевичей, которых готовил к поступлению в университет (в дальнейшем старший из братьев Бобринских станет членом Государственного Совета, а младший займет в 1869–1871 годах пост министра путей сообщения).
33
Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов… С. 10.
34
Материалы для биографии Г. П. Галагана // Киевская старина. 1898. Т. LXII, сентябрь. С. 200.
35
Здесь и далее курсив Г. П. Галагана.
36
Материалы для биографии Г. П. Галагана… С. 195.
37
См., напр.: Колмаков Н. М. Очерки и воспоминания // Русская старина. 1891. № 5. С. 457.
38
Воспоминания, мысли и признания человека, доживающего свой век смоленского дворянина // Русская старина. 1895. № 7. С. 118.
39
Материалы для биографии Г. П. Галагана… С.195–196.
40
И. С. Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3. С. 40.
41
Материалы для биографии Г. П. Галагана… С. 198.
42
Там же. С. 202.
43
Там же. С. 212.
44
Там же. С. 213.
45
Там же. С. 204.
46
ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 4.
47
Письмо от 2. IX. 1842 // Русская старина. 1899. № 11. С. 371–372.
48
ИРЛИ. Ф. 18. Д. 65. Л. 1 об.
49
Цит. по: Коваль Л. Даритель Чижов // Библиотека. 1993. № 5. С. 20.
50
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 1. Л. 7 об.
51
Никитенко А. В. Дневник в трех томах. М., 1955. Т. 1. С. 168–169.
52
Чижов Ф. В. Воспоминания о Н. В. Гоголе // В кн.: Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2-х т. СПб., 1856. Т. 1. С. 106.
53
Чижов Ф. В. Воспоминания о Гоголе… С. 326.
54
Цит. по: Гусева Е. Н. Воспоминания Г. П. Галагана о Н. В. Гоголе в Риме / Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1984. Л., 1986. С. 64–69.
55
ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 4, 19.
56
Материалы для биографии Г. П. Галагана… С. 196.
57
Поттер Паулюс (1625–1654) — голландский живописец, прославившийся превосходным реалистическим изображением сцен охоты и пастбищ.
58
Там же. Д. 5. Л. 7.
59
Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 782.
60
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 204 об.; Д. 3. Л. 20 об.
61
Литературное наследство. Т. 58. С. 782.
62
Русская старина. 1889. Т. 63. С. 369.
63
Литературное наследство. Т. 58. С. 782.
64
Там же.
65
Русская старина. Т. 63. С. 372.
66
Чижов Ф. В. Воспоминания (Из ответов на вопросы Третьего отделения) // Исторический вестник. 1883. Т. 1. С. 243.
67
Императора Николая I.
68
Там же. С. 244–245.
69
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 5. Л. 105 об.
70
Чижов Ф. В. Воспоминания… С. 245.
71
Литературное наследство. М., 1935. Т. 19–21. С. 110.
72
Чижов Ф. В. Воспоминания… С. 245.
73
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Третьего отделения (№ 109). I эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 50.
74
Герцен А. И. Собр. соч: В 30 т. Т. 2. С. 333–334.
75
Литературное наследство. Т. 19–20. С. 125–126.
76
Русский архив. 1884. №. 1. С. 401.
77
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 213–213 об.
78
Литературное наследство. Т. 19–21. С. 125.
79
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 182–203 об.
80
Литературное наследство. Т. 19–21. С. 125–126.
81
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 1. Л. 116; Д. 2. Л. 89 об.
82
Там же. Д. 1. Л. 137.
83
Там же. Л. 106.
84
Чижов Ф. В. Прощание с Франциею и Женева. Венеция 1844 года / Московский литературный и ученый сборник. М., 1847. С. 491, 495–496.
85
ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 1. Л. 140.
86
Цит. по: Гершензон М. О. Жизнь В. С. Печерина. М., 1910. С. 40–42.
87
Там же. С. 47.
88
«Слова верующего» (франц.).
89
Джузеппе Мадзини (Mazzini).
90
Цит. по: Штрайх С. Я. В. С. Печерин за границей в 1833–35 годы // Русское прошлое: Исторический сборник. Кн. 3. Пг., 1923. С. 94.
91
Цит. по: Гершензон М. О. Указ. раб. С. 103.
92
Никитенко А. В. Дневник… Т. 1. С. 147.
93
Цит. по: Гершензон М. О. Указ. раб. С. 102.
94
Русские пропилеи. Т.1. М., 1915. С. 101. Состояние отчаяния, подобное печеринскому, среди вернувшихся из Германии стажеров было не единично: направленный учительствовать в Бобруйск приятель Печерина и Чижова Калмыков, столкнувшись с пошлостью провинциальной жизни, застрелился.
95
ОР РГБ. Ф. 332. К. 5. Д. 10. Л. 7, 10. 13 об.
96
День. 1865. 2.IX. № 29.
97
ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 10. Л. 7.
98
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1960. Т. 2. С. 225.
99
Никитенко А. В. Дневник… Т. 1. С. 190.
100
Курсив Чижова.
101
ОР РГБ. Ф. 332. К. 10. Д. 50. Л. 2.
102
Печерин В. С. Замогильные записки. М., 1932.
103
Из черновика письма Ф. В. Чижова к Лахтину //Литературное наследство. М., 1941. Т. 41–42. С. 477–481.
104
ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 10. Л. 6 об.
105
Русский архив. 1870. Стлб. 2136.
106
Русская старина. 1899. Ноябрь. С. 367.
107
Русская мысль. 1899. Кн. 4. С. 4.
108
Из письма Печерина к Чижову от 10. V. 1840 (на франц. яз.). — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 10. Л. 17 об. — 18.
109
Лебедев А. А. Чаадаев. М., 1965. С. 159–160.
110
Печерин В. С. Замогильные записки. С. 121.
111
Из письма к Ф. В. Чижову от 26. VI. 1840 (на франц. яз.). — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 10. Л. 19–19 об.
112
Там же. Л. 21 об. — 22.
113
ОР РГБ. Ф. 332. К. I. Л. 190 об.; ИРЛИ. Ф. 18. Д. 65. Л. 2.
114
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1990. Т.1. С. 97.
115
Чижов Ф. В. Памятники московской древности Ивана Снегирева // Московский литературный и ученый сборник. М., 1847. С. 130.
116
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 65 об.
117
Письмо от 2/14. XII. 1844 // Литературное наследство. М., 1935. Т. 19–21. С. 128.
118
См.: Чижов Ф. В. О работах русских художников в Риме. Московский литературный и ученый сборник. М., 1846. С. 95–106.
119
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 1. Л. 23 об.
120
Рукописный отдел государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (РО ГПБ). Ф. 302. Д. 9. Л. 5, 5 об.
121
Боткин М. П. А. А. Иванов, его жизнь и переписка. СПб., 1880. С. 202.
122
Из письма А. О. Смирновой-Россет к Н. В. Гоголю от 14.V. 1846 // Переписка Н. В. Гоголя в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 187.
123
Русский архив. 1884. № 1. С. 394; ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 2. Д. 59. Л. 1 об.
124
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 347–355.
125
Чижов Ф. В. Джованни Анджелико Фиезолийский: Жизнеописание // Русская беседа. 1856. № 4. С. 135.
126
Русский архив. 1904. № 7. С. 451.
127
Чижов Ф. В. Памятники московской древности Ивана Снегирева… С. 130, 138.
128
ИРЛИ. Ф.1487.VII. С.5.
129
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 63 об.; ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 2. Д. 59. Л. 2 об.
130
Боткин М. П. Указ. раб. С. 178, 184.
131
Литературное наследство. № 19–21. С. 130.
132
ОР РГБ. Ф. 332. К. 10. Д. 30. Л. 7.
133
Бернштейн Б. А. Иванов и славянофильство // Искусство. 1959. № 3. С. 63.
134
Чижов Ф. В. Римские письма А. Н. Муравьева / Московский литературный и ученый сборник. М., 1847. С. 94; Чижов Ф. В. Памятники московской древности Ивана Снегирева… С. 140–141.
135
ОР РГБ. Ф. 111. К. 2. Д. 1. Л. 106.
136
ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 5. Л. 85.
137
Там же. Л. 178 об.
138
ИРЛИ. Ф. 1487.VII. C.5. Л. 9 об.
139
Дневник Ф. В. Чижова «Путешествие по славянским землям 1845 года…» // Славянский архив. М., 1958. С. 174.
140
Там же. С. 176.
141
Цит. по: «Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII века — 1849 год». М., 1980. С. 46.
142
Дневник Ф. В. Чижова «Путешествие по славянским землям 1845 года…». С. 142.
143
Там же. С. 154, 155.
144
Там же. С. 170, 171, 188.
145
Здесь и далее в цитате курсив Ф. В. Чижова.
146
Там же. С. 165, 172, 174–176.
147
Письмо от 30. V. 1845. — ИРЛИ, Ф. 1487.VII. С.5. Л. 21 об.
148
Дневник Ф. В. Чижова «Путешествие по славянским землям 1845 года…». С. 167.
149
Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 231. Д. 5. Л. 260 об., 261.
150
Дневник Ф. В. Чижова «Путешествие по славянским землям 1845 года…» С. 170.
151
Там же. С. 252.
152
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 5 об. Дневник Ф. В. Чижова «Путешествие по славянским землям 1845 года…». С. 253, 258.
153
Курсив Ф. В. Чижова.
154
Литературное наследство. М., 1935. Т. 19–21. С. 140; ИРЛИ. Ф. 1487.VII. С.5. Л. 27.
155
Литературное наследство. Т. 19–21. С.135, 139.
156
Литературное наследство. Т.19–21. С. 125.
157
Курсив Н. М. Языкова.
158
Там же. С. 136.
159
Из письма Чижова к А. А. Иванову от 12. X. 1845 // Русский архив. 1884. № 1. С. 409.
160
Отрывок из дневника Г. П. Галагана за 1845 год // Киевская старина. 1899. LXVII, ноябрь. С. 229.
161
Из письма от 3. IX. 1841 // Русская старина. 1899. Т. 11. С. 360.
162
Из письма Чижова к А. А. Иванову из Венеции от 11. VII. 1843 // Русский архив. 1884. № 1. С. 397.
163
Из письма от 28. I. 1844 // Литературное наследство. М., 1935. Т. 19–21. С.115.
164
Моя драгоценная (итал.).
165
Из письма от 20. XI. 1845 // Русский архив. 1884. № 1. С. 412–413.
166
Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1980. Л., 1981. С. 373.
167
ИРЛИ. Ф. 1487. VII. С. 5. Л. 41.
168
Из письма Ф. В. Чижова к А. А. Иванову от 6. II. 1846 // Русский архив. 1884. № 1. С. 415.
169
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 5. Л. 121.
170
Русский архив. 1884. №.1. С. 419.
171
Самарин Ю. Ф. О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе // Соч. М., 1878. Т. 2. С.37.
172
Акционер. 1860. 18.III. № 12. С. 47.
173
ОР РГБ. Ф. 332. К. 1. Д. 5. Л. 85, 183, 185 об.
174
Там же. К. 2. Д. 1. Л. 48; Д. 2. Л. 178 об., 207.
175
Там же. К. 3. Д. 3. Л. 117.
176
Там же. К. 1. Д. 5. Л. 143 об.
177
Там же. Л. 144.
178
Там же. К. 3. Д. 5. Л. 137 об.
179
Там же. К. 2. Д. 11. Л. 23 об.
180
И. С. Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. 2. 4.1. С. 160; Русская мысль. 1916. Т. 9. С. 11.
181
Русский архив. 1884. № 1. С. 414.
182
См. письмо И. С. Аксакова к родным от 5. IV. 1847 // И. С. Аксаков. Письма к родным. 1844–1849. М., 1988. С. 366; Письмо А. П. Елагиной к А. Н. Попову от 24. IX. 1846 // Русский архив. 1886. № 3. С. 345.
183
Вестник Европы. 1897. № 12. С. 645–651.
184
ОР РГБ. Ф. 265. К. 207. Д. 31. Л. 16 об.
185
Чижов Ф. В. Воспоминания… С. 257; ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). I эксп. Д. 81. Ч. 15. Л. 105, 105 об.
186
ИРЛИ. Ф. 1487.VII. С.5. Л. 58; ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). I эксп. Д. 81. Ч. 16. Л. 108 об., 109.
187
Русская старина. 1889. Т. 63. С. 378.
188
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 109 об.; Русский архив. 1884. № 1. С. 414–415.
189
Литературное наследство. Т. 19–21. С. 128.
190
Из письма Н. М. Языкова к Н. В. Гоголю от 9. X. 1846 // Русская старина. 1896. Т. 12. С. 539.
191
Русская старина. 1889. Т. 63. С. 380.
192
Русский архив. 1884. № 1. С. 413.
193
ИРЛИ. Ф. 1487. VII. С. 5. Л. 42 об., 58.
194
Русская старина. 1896. Т. 12. С. 642.
195
Е. А. Свербеевой.
196
«Московский городской листок».
197
ОР РГБ. Ф. 332. К. 51. Д. 29-а. Л. 1–2 об.; ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. 4.18. Л. 10.
198
Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов… С. 10.
199
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 6.
200
Там же. Ч. 1. Л. 144 об.
201
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 2. Л. 176 об.
202
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 15.
203
Зайончковский П. А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847). М., 1959. С. 115.
204
ИРЛИ. Ф. 265. Оп.2. Д. 2998. Л. 1–1 об.
205
Самарин Ю. Ф. Сочинения. М., 1911. Т.12. С. 279–281, 422–425.
206
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 5.
207
Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов… С. 11.
208
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 19. Л. 162.
209
Так называл Н. А. Ригельмана Чижов в своих показаниях на следствии.
210
ОР РГБ. Ф. 332. К. 50. Д. 3. Л. 12 об.
211
Из писем Н. А. Ригельмана к Ф. В. Чижову от 2. VII. 1865 и 11.I.1866. — Там же. Л. 3, 3 об., 9 об., 10 об.
212
Киевская старина. 1897. Т. 56. С.4.
213
Там же. С. 3–4.
214
Русский архив. 1877. № 2. С. 229.
215
Цит.: Стороженко Н. Кирилло-мефодиевские заговорщики. Киев, 1906. С.6.
216
См. подробнее: Симонова И. А. К вопросу о взаимосвязи славянофильства с идеологией Кирилло-Мефодиевского общества. Ф. В. Чижов и кирилло-мефодиевцы // Советское славяноведение. 1988. № 1. С. 42–54.
217
Русский архив. 1879. С. 327, 328.
218
Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 304; см. также отрывки из дневника Н. А. Бомбелли за май 1847 года // Голос минувшего. 1918. Т. 10–12. С. 147, 148; Письмо В. А. Серебрякова к А. А. Иванову от 11. VI. 1847. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 51. Д. 43. Л. 8.
219
Стороженко Н. Кирилло-мефодиевские заговорщики. Киев, 1906. С. 3; ср.: ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 1. Л. 1, 1 об.; Ч. 2. Л.167, 167 об.
220
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 18. Л. 17 об.
221
Там же. Ч. 19. Л. 102; См. также: Ч. 18. Л. 23 об.
222
Там же. Ч. 18. Л. 23, 23 об.
223
Там же. Л. 70–74.
224
Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 306.
225
Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов… С. 10.
226
ГА РФ Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 72 об.-73, 111 об.-112, 113, 117–117 об., 120 об., 123.
227
Там же. Ч. 1. Л. 167.
228
Цит. по: Звавич И. С. Дело о выдаче декабриста Н. И. Тургенева английским правительством // Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926. С. 90.
229
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 129.
230
Из доклада гр. А. Ф. Орлова «Об Украйно-Славянском обществе» // Русский архив. 1892. №. 7. С. 306.
231
Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 306.
232
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 1. Л. 174 об.; Ч. 19. Л. 65 об.
233
Там же. Ч. 1. Л. 187 об.-!88, 210.
234
Там же. Л. 229.
235
Русская старина. 1889. Т. 63. С. 376–377.
236
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 5. Л. 4 об.
237
Из письма от 10. X. 1847 // Русский архив. 1884. № 1. С. 416.
238
Из письма от 24. XII. 1847 // Там же. С. 417.
239
Из письма от 26. XII. 1847 // Там же. С. 418–419.
240
Там же. Ф. 332. К. 2. Д. 4. Л. 21 об.; К. 9, Д. 11. Л. 14.
241
Из письма от 16. III. 1848 // Русский архив. 1884. № 1. С. 419.
242
Из письма от 13. VIII. 1848 // Там же. С. 420.
243
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 69–69 об.
244
Русский архив. 1902. № 4. С. 725.
245
См. подробнее: Дудзинская Е. А. Буржуазные тенденции в теории и практике славянофилов // Вопросы истории. 1974. № 1; Ее же. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983; Ее же. Общественная и хозяйственная деятельность славянофила Ю. Ф. Самарина в 40–50-х годах XIX века // Исторические записки. Т. 110. М., 1984.
246
Christoff, Peter К. An Introduction to Nineteenth century Russian Slavofilism. A Study in Ideas. Vol. II: I. V. Kireevsky. Paris, 1972. P.117; Owen, Thomas C. Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants, 1855–1905. Cambridge, 1981, p. 34, 39.
247
Дневниковая запись от 3. IX. 1842. — OP РГБ. Ф. 332. К. I. Д. 5. Л. 9 об.
248
См., например, дневниковую запись Чижова от 15.II.1836. — ОР РГБ. Ф. 332. К 1. Д. 4. Л. 11; Виргинский В. С. Возникновение железных дорог в России. М., 1945. С.184–185.
249
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1838. 30.VI. № 18. С. 349.
250
Сын отечества. 1840. Т. 2. С. 11–66. Ср. с оценкой, данной изобретению паровых машин И. В. Киреевским. — Abbot Gleason. European and Muscovite. Ivan Kireevsky and the Origins of Slavophilism. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts, 1972. P. 115.
251
Библиотека для чтения. 1838. Т. XXVIII. С. 89–92.
252
Там же. К. 2. Д. 6. Л. 40 об.
253
Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3. Ч. 1. С. 12.
254
Чижов Ф. В. Письма о шелководстве. М., 1870. С. 20, 22; ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 7. Л. 24 об.
255
Москвитянин. 1845. № 2. Науки. С. 64.
256
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 8 (машинопись). Л. 20.
257
Там же. Л. 23.
258
Беркут Н. К. Записки // Исторический вестник. 1911. С. 471.
259
Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3. С. 12–13.
260
ОР РГБ. Ф. 111. К. 7. Д. 41. Л. 34.
261
Там же. Д. 7. Л. 13.
262
Там же. Л. 44 об.
263
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 190 об.
264
Записки Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел мастера и скульптора: В 2-х ч. (Пер. с итал.). СПб., 1848. (Прил. к № 1 журнала «Современник» за 1848 год).
265
ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 2. № 59. Л. 2 об.
266
Гоголь и славянофилы // Русский архив. 1890. № 1. С. 149.
267
Русский архив. 1890. № 1. С. 149.
268
Из письма Ф. В. Чижова к А. А. Иванову от 13.VIII.1848. — ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 2. Д. 59. Л. 6.
269
Чижов Ф. В. Воспоминания о Гоголе // Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. Т. 2. С. 240.
270
Там же. С. 241.
271
Чероков А. С. Указ. раб. С. 32–33.
272
Российский государственный институт литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 195. Оп. 1. Д. 3022, 5124.
273
Миллер О. Ф., профессор Петербургского университета.
274
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 3. Л. III об., 112.
275
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 7. Л. 43.
276
Цит. по кн.: Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов: 1840–1850-е годы. Л., 1984. С. 52.
277
ОР РГБ. Ф. 265. К. 207. Д. 31. Л. 2 об.
278
Там же. Ф. 332. К. 2. Д. 7. Л. 43.
279
Там же. Л. 36–36 об.
280
Там же. Д. 8. Л. 2.
281
Там же. Ф. 265. К. 51. Д. 15. Л. 5 об., 6.
282
Там же. Ф. 332. К. 51. Д. 15. Л. 7.
283
Там же. Л. 9–9 об.
284
Там же. К. 2. Д. 8 (машинопись). Л. 30.
285
Там же. К. 35. Д. 29. Л. 23.
286
Чижов Ф. В. Заметки путешественника по славянским странам // Русская беседа. 1857. № 1. Смесь. С. 1–37; № 2. Смесь. С. 1–37; Его же. Джованни Анджелико Фиезолийский и об отношении его произведений к нашей иконописи // Русская беседа. 1856. № 4. Жизнеописания. С. 132–218.
287
См., например, статьи Ф. В. Чижова «О работах русских художников в Риме» и «О римских письмах Муравьева» / Московский литературный и ученый сборник. М., 1846, 1847; «О Фридрихе Овербеке» // Современник. 1846. XLIII. № 7. С. 17–68; Чижов также перевел с немецкого языка «Историю пластики» Вильгельма Любке и «Руководство к истории изящных искусств» Франца-Теодора Куглера.
288
Шильдер Н. К. Император Николай Первый: его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 467.
289
Молва. 1857. 14. IX. № 23. С. 277.
290
ГИМ ОПИ (Отдел письменных источников Государственного исторического музея). Ф. 178. Д. 27. Л. 1.
291
Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург. Полное собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 7. С. 189.
292
Цит. по: Сакулин П. Русская литература и социализм. М., 1924. Ч. 1. С. 79.
293
Записка неизвестного об учреждении Министерства торговли и промышленности от 31 марта 1856 года, Москва // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 560. Оп. 14. Д. 292.
294
Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. Л., 1981. С. 53, 54.
295
Акционер. 1862. 13.I. № 2. С.12.
296
РГИА. Ф. 560. Оп. 14. Д. 292. Л. 2 об. — 3, 11–11 об.
297
«Свободы торговли» (англ.).
298
РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. II. Д. 4, 29. Л. 3.
299
РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Д. 96. Л. 3 об., 4.
300
Н. А. Мельгунов допустил неточность: ежемесячный журнал.
301
Письмо от 3. IV. 1857 // Литературное наследство. М., 1955. Т. 62. С. 356.
302
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 9. Л. 2.
303
Цит. по: Пажитнов К. А. Развитие социалистических идей в России от Пестеля до группы «Освобождение труда». Пг., 1924. С. 305.
304
Чернышевский Н. Г. Начала народного хозяйства. Руководство для учащихся и для деловых людей Вильгельма Рошера / Пер. И. Бабста. М., 1860. Т. 1 // Чернышевский Н. Г. Избранные экономические произведения в 3-х т. М., 1948. Т. 2. С. 564.
305
Имеется в виду речь Бабста в Казанском университете 1856 года.
306
ОР РГБ. Ф. 332. К. 51. Д. 16. Л. 23–23 об.
307
Там же. К. 2. Д. 9. Л. 15.
308
ГИМ ОПИ. Ф. 44. Д. 1. Л. 103–103 об.
309
ОР РГБ. Ф. 332. К. 16. Д. 2. Л. 1–2.
310
И. Д. Беляев, известный историк-славянофил.
311
РГАЛИ. Ф.10. Оп. 4. Д. 132. Л. 2 об. 3.
312
Генкин Л. Б. Общественно-политическая программа русской буржуазии в годы первой революционной ситуации (1859–1861) по материалам журнала «Вестник промышленности» / Проблемы социально-экономической истории России. М., 1971.
313
«Сторонник свободной торговли» (франц.).
314
П.-Л. Росси, граф, итальянский государственный деятель, политэконом.
315
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 9. Л. 8, 14 об. — 15 об.
316
Цит. по: Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861–1900. М., 1974. С. 11.
317
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 9. Л. 23 об.
318
Акционер. 1806. 1.1. № 1. С. 1, 3.
319
Вестник промышленности. 1858. Т. 1. № 1. Отд. 1. С. 18; Акционер. 1861. 20.1. № 3. С. 11; 1806. 18.III. № 12. С. 47; 1861. 20.1. № 3. С. 11.
320
Вестник промышленности. 1860. Т. IX. № 7. Отд. 1. С. 5.
321
Акционер. 1862. 27.1. № 4. С. 25; 1861. 10.III. № 10. С. 37; Вестник промышленности. 1861. Т. XIV. № 2. Отд. 1. С. 116.
322
Дневник Ф. В. Чижова «Путешествие по славянским землям 1845 года…». С. 200.
323
Акционер. 1862. 6. I. С. 2.
324
Вестник промышленности. 1858. Т. II. № 6. Отд.1. С.261; Акционер. 1861. 7. IV. № 14. С.15.
325
Цит. по: Генкин Л. Б. Указ. раб. С. 97–98.
326
Вестник промышленности. 1858. Т. II. № 4. Отд. 1. С. 81.
327
Акционер. 1860. 18.III. № 12. С. 47.
328
Акционер. 1863. 1.VI (статья не была пропущена цензурой). — См.: ГА РФ. Ф. 335. Оп. 1. 1863. Д. 159.
329
Акционер. 1860. 5.II. № 6. С. 21.
330
Кошелев А. И. Соображения касательно устройства железных дорог в России // Русская беседа. 1856. Т. 1. Критика. С. 148–157; Его же. Соображения о пользе устройства железных дорог от Динабурга в Курскую губернию // Там же. С. 158–160; Его же. Еще соображения касательно железных дорог в России // Там же. Т. 3. Критика. С. 88–112.
331
Хомяков А. С. Письма в Петербург // Москвитянин. 1845. № 2. Словесность. С. 72.
332
Молва. 1857. 13.IV. № 1. С. 6.
333
Там же. 17.VIII. С. 217–218.
334
Акционер. 1861. 24.II. № 7. С. 52; 30.XII. № 49. С. 195; 1862. 6.1. С. 3.
335
Там же. 1862. 3. II. № 5. С. 39.
336
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 2. Л. 13.
337
Там же. Д. 3. Л. 64 об. — 65.
338
Русский архив. 1864. № 7–8. С. 822.
339
Министерство финансов. 1802–1902. Исторический обзор главнейших мероприятий финансового ведомства. СПб., 1902. С. 574.
340
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 160, 175 об.
341
Акционер. 1861. 30.XII. № 49. С.196; Вестник промышленности. 1860. Т. IX. № 8. Отд. 1. С. 83.
342
«Мошенник, аферист» (франц.).
343
РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 5042. Л. 2–2 об.
344
Акционер. 1861. 7.IV. № 14. С. 54.
345
Акционер. 1863. 26.Х. № 43. С. 174–175.
346
РГИА. Ф. 775. Оп. 1. 1863. Д. 291. Л. 7.
347
Русская беседа. 1856. Т. III. Науки. С. 93; См. также: Русская беседа. 1856. Т. IV. Науки. С. 102–108.
348
Акционер. 1861. 20.1. № 3. С. 9.
349
См., например, статью С. Бельского «О влиянии развития фабричной промышленности на земледелие» // Русская беседа. Т. IV. Науки. С. 102–128.
350
См. передовую статью газеты «Москва». 1867. 20.1. № 16.
351
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 9. Л. 14–14 об.
352
В это время в печати происходили ожесточенные споры между сторонниками классического и реального образования.
353
РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Д. 96. Л. 2 об. — 3.
354
Из письма Я. В. Прохорова к И. К. Бабсту от 12.IV.1857. — ГИМ ОПИ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 784. Л. 45.
355
Акционер. 1861. 20.1. № 3. С. 11.
356
Вестник промышленности. 1859. Т. IV. № 12. Отд. III. С. 308, 309.
357
Акционер. 1852. 27.1. № 4. С. 25.
358
ИРЛИ. Ф. 10 772. Л. 5 об.—6.
359
Акционер. 1863. 31.VIII.
360
Цит.: Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX–XX вв.). М., 1954. С. 136.
361
РГИА. Ф. 775. Оп. 1. 1863. Д. 159. Л. 1–1 об., 9–10.
362
Русская беседа. 1858. Т. II. Науки. С. 87–152.
363
Вестник промышленности. 1859. Т. II. № 6. Отд. 1. С. 254–255.
364
Акционер. 1863. 23.Х. № 43. С. 173.
365
Акционер. 1862. 10.III. № 10. С. 79.
366
Вестник промышленности. 1861. Т. XI. № 2. Отд. 1. С. 100.
367
Акционер. 1862. 1.II. № 5. С. 36.
368
Чижов Ф. В. Прощание с Франциею и Женева. Венеция 1844 года / Московский литературный и ученый сборник. 1847. С. 551–552.
369
Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1. С. 181; Т. 2. С. 60–61.
370
Московские ведомости. 1856. 10.III.
371
Акционер. 1860. 22.IV. № 16. С. 65, 66; 1861. 17.XI. № 43. С. 172.
372
Лесков Н. С. Письмо к Ф. В. Чижову от 10 декабря 1859 года // Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 249.
373
Вестник промышленности. 1859. Т. 1. № 3. Отд. II. С. 63–76.
374
Завалишин Д. Замечание на извлечение из отчета г. О. Эше и выпуску из триестской газеты // Вестник промышленности. 1859. Т. IV. № 10. Отд. VI. С. 72–82; Его же. Амур. Статья I. Кого обманывают, и кто окончательно остается обманутым? // Там же. № 11. Отд. III. С. 43–83; Его же. Заметки на проекты электрического телеграфа через Курильские и Алеутские острова и на некоторые сведения, сообщаемые о разных событиях в Восточной Сибири и на Амуре преимущественно // Там же. Отд. VI. С. 17–25; Его же. Новейшие известия о торговле на Амуре и замечания о действиях амурской компании // Там же. № 12. Отд. VI. С. 101–117.
375
РГИА. Ф. 775. Оп. 1. 1863. Д. 65. Л. I; Там же. Ф. 772. Оп. 1. 1859. Д. 4977. Л. 5056.
376
ОР РГБ. Ф. 332. К. 71. Д. 12.
377
РГИА. Ф. 772. Оп. I. 1861. Д. 762. Л. 1–20.
378
Там же. Ф. 775. Оп. 1. 1863. Д. 191. Л. 7 об.
379
Аксаков И. С. Федор Васильевич Чижов… С. 14; Либерман А. А. Краткий биографический очерк Федора Васильевича Чижова. М., 1905. С. 45.
380
Игроков А. С. Указ. раб. С. 32.
381
РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 124. Д. 4733. Л. 1–1 об.
382
Игроков А. С. Указ. раб. С. 33, 34.
383
ГА РФ. Ф. Третьего отделения (№ 109). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 15. Л. 261, 262 об.
384
Цит. по кн.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни… С. 118.
385
ИРЛИ. Ф. 10 772. Л. 3 об., 5.
386
Из письма Чижова к Ю. Ф. Самарину от 9.V.1864. — ОР РГБ. Ф. 265. К 207. Д. 31. С. 23.
387
День. 1865. 1.1. № 1. С. 13; Ср.: Там же. 16.1. № 3. С. 50.
388
Там же. 1865. 20. II. № 8. С. 172, 177.
389
Там же. 1.I. № 1. С. 13.ОР РГБ. Ф. 332. К. 50. Д. 6; Л. 11 об.
390
ОР РГБ. Ф. 332. К. 50. Д. 6; Л. 11 об.
391
День. 1864. 25.1. № 4. С. 6–10.
392
День. 1864. 28.111 и 4. IV. № 13, 14.
393
День. 1864. 4. IV. № 14. С. 7, 8.
394
День. 1865. 23.1. № 4. С. 76.
395
Там же. С. 78.
396
По данным газеты «День»; Н. А. Найденов в своих «Воспоминаниях о виденном, слышанном и испытанном» (М., 1905. Т. II. С. 33) дает иную цифру — 195 человек.
397
День. 1865. 23.1. № 4. С. 80.
398
Там же. С. 79.
399
Там же. 1865. 18. IX. № 32. С. 754–757.
400
Там же. 1885. 11. IV. № 16. С. 374.
401
Там же. 8.V. № 19. С. 447–450.
402
Цит. по: Соболев М. Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века. Томск, 1911. С. 329–330.
403
Мнение постоянной депутации московских купеческих съездов по поводу записки, представленной правительством Таможенного союза депутациею постоянного Германского коммерческого съезда о заключении торгово-промышленного договора между Россией и Германским таможенным союзом. М., 1865.
404
Письмо И. С. Аксакова к Ю. Ф. Самарину от 27.VII.1864 // Цит. по: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни… С. 121.
405
Из письма от 3. V. 1866. — ГИМ ОПИ. Ф. 44. Д. 1. Л. 109–109 об.
406
Из письма Чижова к И. С. Аксакову, б/д (между 7 и 11.IV.1866). — Цит. по: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни… С. 133.
407
Из письма Чижова к И. С. Аксакову от 25 и 26. IV. 1866. — ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 675. Л. 73 об.-76, 88–89 об.
408
Из письма Чижова к И. С. Аксакову от 24 и 27. IV. 1866. — Там же. Л. 130, 131.
409
Из письма Чижова к И. С. Аксакову от 6.V. б/г (1866). — ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 674. Л. 91–91 об; Ср. с письмами от 10. IV., 9.V б/г (1866) и письмом б/д (1866). Там же. Л. 79 об. — 80, 92, 93, 96.
410
Письмо от 9. X. 1866. — Цит. по кн.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни… С. 134.
411
День. 1865. 11. IX. № 31. С. 725.
412
Письмо от 26. XI. 1865. — ГИМ ОПИ. Ф. 44. Д. 1. Л. 108.
413
Никитенко А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 515.
414
Письмо б/д. — ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 675. Л. 56, 59.
415
Письмо от 10. I. 1868 года. — Цит. по кн.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни… С. 136.
416
Москва. 1867. XI. № 183.
417
РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 14. Д. 476. Л. 3 об.
418
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. 1867. Д. 4. Л. 367–370.
419
Там же. 1868. Д. 5. Л. 468 об. — 469 об.
420
Москва. 1867. 1.I. № 1.
421
Москва. 1867. 23.III. № 1.
422
Цит. по: Лаверычев В. Я. Указ. соч. С. 177.
423
См., напр.: Москва. 1867. 23.III. № 1.
424
Москвич. 1867. 24. XII; № 2. 30.XII. № 4.
425
Москвич. 1868. 10.1. № 11.
426
Москва. 1868. 20.1. № 16.
427
Москва. 1868. 17.1. № 17.
428
Москвич. 1667. 23.XII. № 1.
429
Москва. 1868. 4.IV. № 2.
430
ГИМ ОПИ. Ф. 44. Д. 3.
431
См.: Лаверычев В. Я. Указ. раб. С. 115.
432
См.: Шепелев Л. Е. Указ. раб. С. 114, 115.
433
Деятельность. 1868. 13. XI. № 183. С. 723.
434
Дневниковая запись от 25. IX. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 138.
435
Здесь и далее в цитате курсив Ф. Энгельса.
436
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 38. С. 264.
437
Из письма от 22.Х.1869. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 1506.
438
Дневниковые записи Чижова от 6. XI и 13. XI. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 159, 164 об.; См. также дневниковую запись от 5. XI. 1876. — Там же. Л. 158 об.
439
РГИА. Ф. 776. Оп.1. 1877. Д. 185. Л. 1–2, 11.
440
Дневниковая запись Чижова от 4. IV. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 55. Записки М. С. Мухановой были напечатаны в «Русском архиве» за 1878 год, в книгах 2-й и 3-й, а затем вышли в том же 1878 году в Москве отдельным изданием.
441
Из письма Чижова к В. С. Печерину от 26. IX. 1872. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 83 об.
442
Из писем Чижова к В. С. Печерину от 22. XII. 1865, 1. XI. 1870, 18. VII. 1871, 28. II. 1872. — Там же. Л. 1 об., 38 об., 60 об., 74 об.
443
Дневниковая запись Чижова от 22. 11.1873 и 22. VII. 1877. — РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 12. Л. 4; К. 3. Д. 5. Л. 106.
444
Дневниковые записи от 13. XI. 1876, 2. IV. 1877, 27. XI. 1870. — Там же. К. 3. Д. 4. Л. 164 об.; К. 3. Д. 5. Л. 51; К. 2. Д. 10. Л. 29.
445
Из письма Чижова к В. С. Печерину от 18. VII. 1871. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 60 об.; Дневниковая запись от 7. II. 1872. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 11. Л. 9 об.; Ср. письмо Чижова к И. С. Аксакову от 17. VII. 1871. — ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 675. Л. 15.
446
Дневниковые записи от 7. III. 1871 и 31. VIII. 1875. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 10. Л. 33 об; К. 3. Д. 3. Л. 104.
447
Дневниковая запись от 14. XI. 1874. — Там же. К. 3. Д. 2. Л. 38.
448
Запись от 27. VIII. 1866. — Там же. К. 2. Д. 10. Л. 13 об.
449
Дневниковая запись от 19. III. 1877. — Там же. К. 3. Д. 5. Л. 39.
450
Запись от 28. VIII. 1877. — Там же. Л. 128 об. — 129.
451
Москва. 1867. 2. III. № 48.
452
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 2. Л. 51.
453
Там же. Д. 3. Л. 80, 147.
454
Там же. Д. 4. Л. 183.
455
Там же. Д. 5. Л. 91.
456
Из письма Чижова к И. С. Аксакову от 11. VII. 1874. — ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 675. Л. 28.
457
Дневниковая запись Чижова от 8. III. 1877. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 5. Л. 34 об.
458
Здесь и далее в цитате курсив А. И. Герцена.
459
Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 15. С. 9–10.
460
Там же. Т. 7. С. 248.
461
См.: Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т. II. С. 114.
462
Дневниковые записи Чижова от 7. V, 21. V. и 16. VI. 1875. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 3. Л. 58 об., 61 об.-62, 73 об.
463
Дневниковые записи Чижова от 18. IX. 1872, 26. I и 15. II. 1877. — Там же. К. 2. Д. 11. Л. 19; К. 3. Д. 5. Л. 15 об., 28 об.
464
Герцен А. И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 10.
465
РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Д. 9. Л. 23 об.
466
ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 675. Л. 88 об.
467
Дельвиг А. И. Полвека русской жизни… Т. II. С. 90–92.
468
Вестник промышленности. 1859. № 3–5. Отд. III. С. 284–328, 1–54, 131–152.
469
Вестник промышленности. 1860. Т. VIII. № 5. Отд. III. С. 73–117; 1861. Т. XIII. № 7. Отд. П. С. 1–4.
470
Московско-Троицкая железная дорога должна была пройти вблизи стен Троице-Сергиевой лавры и Покровского монастыря в Хотькове.
471
Вестник промышленности. 1858. Т. 1. № 2. С. 130–131.
472
Дневниковая запись от 30. V. 1860. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 9. Л. 23 об.
473
Игроков А. С. Указ. раб. С. 45–46.
474
Беркут Н. К. Записки. С. 473.
475
Строение это, к сожалению, утрачено; в настоящее время на его месте стоит другое здание дореволюционной постройки, теснимое с одной стороны усадьбой, некогда принадлежавшей Лаврентию Берии, с другой — знаменитым «домом-комодом» Антона Павловича Чехова.
476
Акционер. 1861. 28.VII. № 28. С. 112.
477
Там же. 1860. 14.V. № 19. С. 79.
478
Там же. 1860. 27.V. № 21. С. 86.
479
Там же. 1860. 1.VII. № 26.
480
Там же. 1860. 27.V. № 21. С. 85.
481
Акционер. 1860. 1.IV. № 14. С. 59.
482
Здания вокзалов в Пушкино и Талице (в 1904 году переименованной в Софрино) сохранились до наших дней.
483
Аксаков И. С. Указ. раб. С. 14.
484
Дневниковая запись А. В. Никитенко от 2. XII. 1863. — Дневник… М… 1955. Т. 2. С. 386.
485
РГИА. Ф. 268. Оп. 1.4. 1. Д. 482. Л. 4–4 об.
486
Цит. по: Швабе Н. К. Архив Ф. В. Чижова // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1953. Вып. 15. С. 70.
487
См.: Верховский В. М. Краткий исторический очерк начала и распространения железных дорог в России по 1897 год включительно. СПб., 1898. Вып. 1. С. 94.
488
Курсив Ф. В. Чижова.
489
Москвич. 1868. 4.II. С. 94.
490
Дневниковая запись от 30. V. 1864,— ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 10. Л. 7.
491
Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1991. С. 58.
492
Из письма к В. С. Печерину от 13. IX. 1867. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 5–5 об.
493
Дневниковая запись от 9. I и 13. IX. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 2 об., 132 06.-133.
494
Из письма Ф. В Чижова к В. С. Печерину от 23. VII. 1873. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 109–109 об.
495
Аксаков И. С. Указ. раб. С. 15.
496
А. И. Герцен.
497
Некрасов Н. А. Современники. — Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 225.
498
Дельвиг А. И. Полвека русской жизни… Т. II. С. 93.
499
Дневниковая запись от 20. X. 1871. — Там же. К. 2. Д. 11. Л. 5.
500
Из письма Ф. В. Чижова к В. С. Печерину от 13. IX. 1867. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 6.
501
Акционер. 1862. 6.1. № 1. С. 3.
502
Москвич. 1868. 12.1. № 13.
503
РГИА. Ф. 268. Оп. 1 (1868–1870). Д. 101. Л. 1.
504
Письмо Ф. В. Чижова к И. К. Бабсту, б/д. — ГИМ ОПИ. Ф. 44. Д. 784. Л. 131.
505
Из письма Ф. В. Чижова к В. С. Печерину от 20. VII. 1869. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 8 об.
506
Из письма Ф. В. Чижова к В. С. Печерину от 4. IV. 1877. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 206 об.-207.
507
Из письма Ф. В. Чижова к В. С. Печерину от 31. XII. 1869. — Там же. Л. 19.
508
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 10. Л. 22.
509
Дельвиг А. И. Мои воспоминания: В 4 т. М., 1913. Т. IV. С. 105.
510
Дневниковая запись от 25. I. 1871,— ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 10. Л. 30 об.
511
Дневниковая запись от 31. X. 1870. — Там же. Л. 22 об.
512
В связи с назначением в 1871 году на должность государственного контролера А. А. Абаза не имел более права участвовать в частном предприятии; он вышел из числа пайщиков, и его заменил родственник Н. Д. Бернардаки, «разумеется, номинально». — Там же. Д. 11. Л. 25.
513
Аксаков И. С. Указ. соч. С. 15.
514
Дневниковая запись Ф. В. Чижова от 3. XII. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 177.
515
Дневниковая запись от 19. IX, 26. XI. 1875 и 23. I, 21. II. 1876. — Там же. К. 3. Д. 3. Л. 117, 142 об.; Д. 4. Л. 15 об… 34.
516
Дневниковые записи от 4. XII. 1874 и 9. I. 1876. — Там же. К. 3. Д. 2. Л. 44; Д. 4. Л. 2–2 об.
517
Цит. по: Чероков А. С. Указ. раб. С. 39; Лаверычев В. Я. Указ. раб. С. 74.
518
Дневниковая запись от 9. IV. 1875. — Там же. Д. 3. Л. 48 об.
519
Дневниковая запись от 5. VIII. 1875. — Там же. Л. 89.
520
Дневниковая запись от 8. IV. 1875. — Там же. Л. 48.
521
Дневниковая запись от 30. I. 1876. — Там же. Д. 4. Л. 22 об.
522
Дневниковые записи от 9 и 17. IX. 1856. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 8. Л. 4, 6 об.; Ср. с дневниковой записью от 6. X. 1855. — Там же. Л. 15 (машинопись).
523
Как, напр., доставка в 1843 году Чижовым богослужебных книг и культовой утвари для одной из церквей в Далмации.
524
РГИА СССР. Ф. 772. Оп. 1. 1859. Д. 4761. Л. 1.
525
Там же; ОР ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 356. Д. 372. Л. 1–4.
526
См., напр., письмо Чижова к М. Ф. Раевскому о В. Клуне от 25. VII. 1858 // Зарубежные славяне и Россия / Документы архива М. Ф. Раевского: 40–80-е годы XIX века. М., 1975. С. 468–469.
527
Клун В. Взгляд на торгово-промышленное положение Австрии // Вестник промышленности. 1858. Т. I. № 3. Отд. 1. С. 407–422; Его же. Обозрение промышленности в Австрии // Там же. Т. II. № 5. Отд. 1. С. 193–205; Его же. Обозрение промышленности и торговли в Австрии // Там же. Т. II. № 6. Отд. 1. С. 280–289.
528
Вестник промышленности. 1858. Т. II. № 6. Отд. 1. С. 290, 293.
529
Дневниковая запись Чижова от 18. XI. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 168–168 об.
530
Там же. Л. 168 об., 171.
531
Курсив И. С. Аксакова.
532
Цит. по: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни… С. 112.
533
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 10. Л. 6.
534
Там же. К. 6. Д. 10. Л. 1–2, 6.
535
Москва. 1867. 22.V; Ср.: Москвич. 1868. 9.1. № 10; 11.1. № 12.
536
См. дневниковую запись от 21. VIII. 1875. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 3. Л. 99.
537
Аксаков И. С. Указ. соч. С. 19, 20; Ср. с дневниковой записью Чижова от 15. IX. 1875. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 3. Л. 115.
538
ГИМ ОПИ. Ф. 209. Д. 51. М. Хр. А-464.
539
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 3. Л. 116; См. также: Никитин С. А. Русское общество и национально-освободительная борьба южных славян в 1875–1876 годах / Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии. М., 1957. С. 13.
540
Дневниковые записи Чижова от 15, 16, 17. IX. 1875. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 3. Л. 115–116.
541
Дневниковая запись Чижова от 19. IX. 1876. — Там же. Л. 117 об.
542
Дневниковые записи Чижова от 30. VII, 4 и 19. VIII. 1876. — Там же. Д. 4. Л. 111, 113, 120.
543
Аксаков И. С. Речь вице-президента Московского славянского благотворительного комитета в заседании 24 октября 1876 года // Полн. собр. соч. М., 1886. Т. I. С. 227–228.
544
Цит. по: Никитин С. А. Славянские комитеты в России… С. 303–305.
545
Дневниковая запись П. А. Валуева от 4. VIII. 1876 // Валуев П. А. Дневник: В 2 т. М., 1861. Т. 2. С. 381.
546
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 125 об.
547
См. дневниковые записи Чижова от 30.VII, 11. II и 12. VIII. 1876. — Там же. Л. 111, 116 об, — 117.
548
Дневниковые записи Чижова от 15, 18 и 24. VIII. 1876. — Там же. Л. 118–119, 122.
549
Аксаков.
550
Военный министр.
551
Дневниковые записи Чижова от 26 и 27. VIII. 1876. — Там же. Л. 124–124 об.; Ср. с письмом Чижова к графу К. Ф. Литке от 6. VIII. 1876. — ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 912. Л. 61–61 об.
552
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 121.
553
Дневниковая запись Чижова от 5. XII. 1876. — Там же. Л. 177 об.
554
Письмо от 15. XII. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 49. Д. 30. Л. 1–1 об.
555
Дневниковые записи Чижова от 17, 18, 21 и 22. III. 1876. — Там же. Д. 4. Л. 185 об, — 186 об.
556
Дневниковая запись Чижова от 24. VIII. 1876. — Там же. К. 3. Д. 4. Л. 122 об. -123.
557
Из письма Чижова к В. С. Печерину от 11. VII. 1876. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 191–191 об.
558
См. дневниковые записи от 22. III и 18. XI. 1876, 24 и 26. VI. 1877. — ОР РГБ. Ф. 332. К… 3. Д. 4. Л. 46, 168–171; Д. 5. Л. 52 об., 93 об.
559
Дневниковые записи от 24. VI, 1. VIII, 1. IX и 6. IX. 1877 года. — Там же. Д. 5. Л. 92, 130–131, 132 об. — 133.
560
Дневниковая запись от 22. XII. 1873.— ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 12. Л. 11 об.
561
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. II. Л. 7; К. 3. Д. 4. Л. 104; ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 52 об., 54, 100–100 об., 124 об., 159.
562
Дневниковая запись от 4. I. 1873. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 11. Л. 19 об.
563
Москва. 1867. 2. III. № 48.
564
Цветаева М. И. Сочинения: В 2 т. Минск, 1988. Т. 2. С. 7.
565
Цит. по: Поволжский вестник. 27. II. 1911; Русский архив. 1878. № 1. С. 136.
566
Игроков А. С. Указ. соч. С. 46–47.
567
ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 10. Л. 23.
568
ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 65.
569
Дневниковая запись от 14. V. 1872. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 11. Л. 16.
570
Дневниковая запись от 30. X. 1872. — Там же. Л.25 об. — 26.
571
Там же. К.З. Д.1. Л.З.
572
Там же. Л. 15.
573
Срочное — то есть точно выдержанное по графику движения, регулярное.
574
Из письма Ф. В. Чижова к В. С. Печерину от 28. 1. 1872. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 72 об.
575
Москва. 1867. 15.1. № 12.
576
Цит по: Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских: 1825–1853 гг. М., 1982. С. 261.
577
ОР РГБ. Ф. 332. К. 75. Д. 8.
578
Цит. по: Швабе Н. К. Указ. раб. С. 72.
579
Из письма Ф. В. Чижова к В. С. Печерину от 2. 1. 1874. — ИРЛИ. Ф. 334. Д. 15. Л. 124 об.
580
Из письма Ф. В. Чижова к И. С. Аксакову от 27. VII. 1874.— ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 675. Л. 33–33 об.
581
РГИА. Ф. 97. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об. — 8 об.
582
Из письма Ф. В. Чижова к В. С. Печерину от 16. VI. 1875. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 158 об.- 159.
583
Из письма Ф. В. Чижова к В. С. Печерину от 3. IX. 1875. — Там же. Л. 168 об.
584
Дневниковые записи от 13. VIII, 14. XI. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 117, 165.
585
Из письма Ф. В. Чижова к графу К. Ф. Литке от 4. VIII. 1876. — ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 912. Л. 62.
586
Там же.
587
Из письма Ф. В. Чижова к Л. Н. Оболенскому от 15. II. 1877. — РГИА. Ф. 97. Оп. 1. Д. 8. Л. 43 об.- 45.
588
Печерин В. С. Замогильные записки. С. 170.
589
Курсив В. С. Печерина.
590
Там же. С. 38, 150.
591
Письмо В. С. Печерина к А. И. Герцену от 20. IV. 1863 // Литературное наследство. М., 1955. Т. 62. С. 484.
592
Печерин В. С. Замогильные записки… С. 123; Письма В. С. Печерина к отцу от 17–19. I. 1859 года и к Ф. В. Чижову от 21. IX. 1865. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 6. Л. 21; Д. 11. Л. 4–4 об.
593
Печерин. В. С. Замогильные записки… С. 17.
594
Письмо от 4. IX. 1875. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 19. Л. 18 об.
595
Письмо от 17. VI. 1862 // Литературное наследство. Т. 62. С. 469–470.
596
Письмо от 29. II. 1863 // Там же. С. 478, 482.
597
Письмо к Н. П. Огареву от 6. IV. 1863 // Там же. С. 483; Ср.: Письмо к Ф. В. Чижову от 21. X. 1865. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 11. Л. 6.
598
Московские ведомости. 1863. № 163, 174.
599
М. Н. Катков.
600
Цит. по: Гершензон М. О. История молодой России. С. 163, 165.
601
День. 1865. 2.IX. № 29.
602
Там же.
603
Письмо от 10.XII.1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 20. Л. 23.
604
Письмо от 16. XII. 1866. — Там же. Д. 11. Л. 7 об. — 8 об.
605
Письмо от 10. XI. 1876. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 196 об. Л. 6 об.; Д. 12, Л. 34. Д. 18. Л. 1 об.
606
Письма от 20. X и 23. XII. 1872. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 20. Л.11, 25.
607
Письмо от 3. V. 1853 // Герцен А. И.Собр. соч. Т.П. С. 400.
608
Курсив В. С. Печерина.
609
Письма от 21. X. 1865, 24. XII. 1870, 10. XI. 1871, 28. II и 21. VI. 1875. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. II. Л. 6 об.; Д. 12. Л. 40; Д. 14. Л. 12; Д. 19. Л. 7 об., 14.
610
«Воспоминания сумасшедшего» (франц.).
611
Письма от 25. XI. 1870 и 11. II. 1874. — Там же. К. 45. Д. 2. Л. 6 об.; Д. 12, Л. 34. Д. 18. Л. 1 об.
612
Письмо от 25. V. 1871. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 53–53 об.
613
Курсив В. С. Печерина.
614
Письмо от 22. VI. 1871 // Опубл.: Русский архив. 1871. № 10. Стлб. 1740–1741.
615
Здесь и далее в цитате курсив В. С. Печерина.
616
«Враги рода человеческого» (лат.).
617
Письма В. С. Печерина к Ф. В. Чижову от 21. X. 1865, 23. X. 1867, 13. VIII. 1871 и 26. IX. 1872. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 11. Л. 4 об., 9 об.; Д. 14. Л. 3; Д. 15. Л. 27.
618
Дневниковая запись от 18. IX. 1872. — Там же. К 2. Д. 11. Л. 19.
619
Письмо от 28. IX. 1872. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 83–83 об.
620
Дневниковая запись от 18. IX. 1872. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. Д. 11. Л. 19.
621
Письмо к С. Ф. Пояркову от 22. VIII. 1867. — Там же. К. 45. Д. 8. Л. 113 об., 114.
622
Письма от 18. VII. 1869, 26. I. 1870 и 13. VI. 1875. — Там же. Д. 11. Л. 11; Д. 12. Л. 1, 2; К. 45. Д. 19. Л. 13–13 об.
623
Письмо к Ф. В. Чижову от 19. X. 1873. — Там же. Д. 17. Л. 39–39 об.
624
Письмо от 8. V. 1877. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 209.
625
Письмо от 18. VII. 1877. — Там же. Л. 60 об.
626
Письмо от 13. VIII. 1871. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 14. Л. 2, 2 об.
627
Письма от 15. VIII. 1866 и 11. VII. 1876. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 190; ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 20. Л. 17 об. — 18 об.
628
Письма от 9. VIII. 1870 и 19. X. 1873. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 17. Л. 38; Д. 12. Л. 18.
629
Письмо к В. С. Печерину от 17. VIII. 1870. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 28–29.
630
Письма от 16. II. 1866 и 21. X. 1865. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 11. Л. 6 об., 8 об.
631
Письмо от 1. XI. 1870. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 38 об.
632
Письма от 21. XI. 1870, 10. XI. 1876 и 10. VII. 1877. — Там же. Л. 41–41 об., 196; ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 21. Л. 12.
633
Письмо от 15. VIII. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 20. Л. 17 об. — 18.
634
Письма от 1. V и 18. VI. 1877. — Там же. Д. 21. Л. 9 об., 10 об. 11.
635
Письма от 19. VIII и 5. X. 1876, 8. V и 12. VI. 1877. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 192 об., 195, 208–210 об.
636
Письма от 13. VIII. 1871, 23. IX. 1872 и 7. XI. 1875. — ОР РГБ. Д. 14. Л. 2 об. — 3; Д. 19. Л. 22–22 об.; Д. 20. Л. 26–26 об.
637
Письмо от 23. XII. 1872 года. — Там же. Д. 20. Л. 6–6 об., 26–26 об.
638
РГАЛИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 22. Л. 135; Ср.; Письмо от 7. XI. 1875 года. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 45. Д. 19. Л. 22.
639
Из письма к В. С. Печерину от 2. IX. 1873. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 101.
640
Цит. по; Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов, Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. М., 1964. С. 706.
641
Из письма к В. С. Печерину от 5. III. 1873. — ИРЛИ. Ф. 384. Д. 15. Л. 99.
642
Цит. по: Сахарова Е. В. Хроника семьи художников… С. 51.
643
Цит. по: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. М.; Л., 1948. С. 357.
644
Цит. по: Сахарова Е. В. Хроника семьи художников… С. 165.
645
См.: Копшицер М. И. Савва Мамонтов. М., 1972. С. 38.
646
Цит. по: Сахарова Е. В. Хроника семьи художников… С. 211.
647
Там же. С. 209.
648
К лету 1876 года.
649
Там же. С. 191–192.
650
Там же. С. 192.
651
Картину «Садко в подводном царстве», доставившую Репину звание академика, через посредничество А. П. Боголюбова пообещал приобрести за 3 тысячи рублей Наследник Цесаревич Великий князь Александр Александрович, однако большую часть оговоренной суммы художнику предстояло получить лишь по возвращении в Россию.
652
Там же. С. 146–147.
653
Там же. С. 185.
654
Там же. С. 188–189.
655
Русский мир. 1876. 19.11. № 287.
656
L’Univer illust. 1876. 13. V. № 1103.
657
Цит по: Сахарова Е. В. Хроника семьи художников… С. 202.
658
Цит. по: Арзуманова О. И., Кузнецова Т. Н., Макарова В. А., Невский В. А. Музей-заповедник в «Абрамцеве». М., 1988. С. 103.
659
Цит по: Сахарова Е. В. Хроника семьи художников… С. 206.
660
Там же. С. 166.
661
Там же. С. 205.
662
Там же. С. 209, 211.
663
Курсив И. Е. Репина.
664
Там же. С. 246.
665
Дневниковая запись Чижова от 24. VIII. 1876. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 4. Л. 122.
666
Пчела. 1876. № 9, 10.
667
Цит. по: Сахарова Е. В. Хроника семьи художников… С. 221–222.
668
Цит. по: Киселева Е. Г. Дом на Садовой. М., 1986. С. 4.
669
Цит. по: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов… С. 83.
670
Цит. по: Арензон Е. В. Савва Мамонтов. М., 1995. С. 43.
671
Курсив Ф. И. Шаляпина.
672
Цит. по: Киселева Е. Г. Указ. раб. С. 124–125, 140.
673
Цит. по: Либерман А. А. Указ. раб. С. 9–10.
674
Беркут Н. К. Записки. С. 472–474.
675
Скавронская М. За четверть века: Из воспоминаний // Наблюдатель. 1897. № 1. С. 224.
676
Дневниковая запись от 7. II. 1877. — ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 5.
677
ОР РГБ. Ф. 332. К. 3. Д. 5.
678
Русский архив. 1893. № 3; Новое время. 1893. № 6114. См. также: О капитале Чижова… — РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 354.
679
Там же.
680
Из речи доктора Скворцова при открытии учебного родовспомогательного заведения в 1902 году в г. Костроме. — Цит. по: Либерман А. А. Указ. раб. С. 45.
681
Опубл. в журн.: Костромская старина. 1991. № 2. С. 8.
682
Саладин А. Т. Очерки истории московских кладбищ. М., 1997. С.116.
683
Часть черно-белых иллюстраций заменена на аналогичные цветные (прим. верстальщика).
Все книги автора в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com
Эта же книга в других форматах