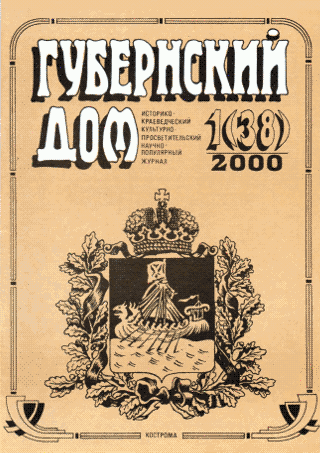Губернский дом 2000 год. № 1
Историко- краеведческий культурно- просветительский научно- популярный журнал № 1. – Кострома: Б/и, - 2000.
Содержание
Время, общество, знаниеМузеем станет город 3
Из истории музейного дела в Нерехте 5
Край ремесленный, богатый 9
Вспоминают старожилы 14
Песни березового рожка 17
Праздники с “Росинкой” 20
Свидетельства, архивы, документыСвятые места. Сыпаново 23
Из истории Нерехтского уезда 27
Городская летопись 31
Путешествия высочайших особ через Нерехту 36
Имя в истории края. Михаил Диев. Елизавета Дьяконова. Николай Селифонтов 42, 48, 52
Промыслы и ремесла. Сырный сезон. Отходники 57, 59
Народное просвещение. Нерехтское училище.
Девичье учебное заведение 64, 67
История в документах 70
Литература, искусство, культураОбычаи и обряды 73
Нерехте кая кухня 76
Народное краснословие 78
Путешествия высочайших особ Дома Романовых через Нерехту
“История города Нерехты” была для М.Я. Диева работой, которую он писал почти всю свою жизнь. К истории родного города он возвращался снова и снова, это заметно по черновым записям, сохранившимся в составе рукописных сборников. В трудах по истории епархии (это была еще одна “стержневая” для него тема), в описаниях монастырей и церквей, он снова и снова опирался на документы, многие из которых были найдены им в Троицкой церкви села Сыпанова, что под Нерехтой, или в архиве церкви села Тетеринское.
Из этих разрозненных документов, из рассказов очевидцев, из собственных впечатлений М.Я. Диев складывал ряд событий, выстраивая его по хронологическому принципу, и получалась своеобразная летопись — историографический жанр, ушедший к тому времени в прошлое и сохранившийся лишь в провинции, в среде историков-непрофессионалов.
Быть может, со временем краевед и создал бы целостную картину Нерехтской истории, как это он сделал с историей Костромской епархии, но два сохранившихся списка, вероятно, так и не были подготовлены им к публикации. Один из них содержится в Петербурге, в Российской национальной библиотеке, в составе фонда ростовского краеведа А.А. Титова (Тит 3999), другой оказался в собрании Костромской губернской ученой архивной комиссии, а затем “по наследству” перешел в фонды нынешнего Костромского музея-заповедника (КОК 24761).
Последняя рукопись была частично опубликована в первые послереволюционные годы в XIII выпуске “Трудов Костромского научного общества по изучению местного края” (Кострома. 1919). Редактор сборника (по-видимому, Е. Ф. Дюбюк) сделал примечание: “Печатаемая часть составляет стр. 47-177 подлинника. Первая часть рукописи (до 1701 г.) и последняя (после 1825 г.) намечены к напечатанию в последующих выпусках “Трудов Научн. Об-ва” (С. 65).
Однако в следующих выпусках продолжения не последовало. Возможно, это было связано с переездом в Москву Е.Ф. Дюбюка. Так и осталась Нерехта без полной истории своего города, да и “Труды КНО" 1919 года сегодня трудно доступны, а часто и не известны широкому кругу краеведов и школьников. Остается надеяться, что рукопись М.Я. Диева все же когда-нибудь будет опубликована полностью и найдет свое место на книжных полках нерехтчан.
Сегодня мы предлагаем “избранные места" из рукописи, хранящейся в собрании музея-заповедника. Они повествуют о посещении города высочай шими особами Дома Романовых (от Федора Алексеевича с малолетними братьями, Иоанном и Петром, до наследника Российского престола Александра Николаевича).
Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами, текст разделен на абзацы.
Лариса СИЗИНЦЕВА
***
1678. Федор Алексеевич с братьями Иоанном и Петром “остановлялся в Нерехте в доме Нестора Трескина. Посещая не один раз Сретенский монастырь, государь приказал на построение там каменной церкви и другие надобности дать довольное число денег, а из казны каждогодно выдавать монахиням летний урок, который чрез несколько годов и выдавали каждой монахине, но поскольку, неизвестно.
Шестилетний же царевич Петр Алексеевич тогда дал в этот же монастырь вклад напрестольное Евангелие, покрытое зеленым бархатом, с серебряными и вызолоченными евангелистами; оно доселе хранится там в целости.
Вскоре по отбытии государя заложена в Сретенском монастыре каменная церковь во имя Владимирския иконы Божия Матери, несколько далее на юго-запад от тогдашней деревянной. Когда же церковь долго не приходила в окончание, то игуменья того монастыря Фекла через шесть лет явилась в Москву с новым прошением о помощи, это было 1685 года. Царь Петр Алексеевич приказал выдать из казны двести восемь рублей, на кои деньги церковь на другой год окончена и была освящена 28 ноября 1686 года, по благословению московского патриарха Иоакима. Эта церковь огромнее всех нынешних церквей в Нерехте и есть именно царский памятник!”.
1798. Павел I, его сыновья Александр и Константин. “1798 г. 3 июня император Павел Петрович проездом из Казани в Ярославль в 5 ч. пополудни прибыл в Нерехту. Городничий Графен по распоряжению костромского губернатора Островского, бывшего тогда в Нерехте, встретил государя на заставе с обнаженными саблями. Островскому высочайше тогда же повелено выехать из Нерехты, почему и епископ костромской Павел Зернов, прибывший для встречи государя и вышедший из собора со святыми иконами, тогда же, не являясь императору, отъехал в Кострому. Император городничему сказал: “Ты выехал меня встречать, как Ивана Фатеича!” (Фатеич — известный в Нерехте разбойник — Л.С.).
Государь путешествовал с наследником престола Александром Павловичем и цесаревичем великим князем Константином Павловичем. Ночевали в доме купца Хворинова, что на углу к рынку в квартале 3. Тогда государь жаловал Хворинова золотыми часами.
Пред путешествием был объявлен указ, чтобы для встречи императора не было готовлено особых построек и все чиновники находились при своих должностях, поэтому и архиерей Павел не осмелился явиться к государю.
Самый мост, тогда построенный через реку Нерехту и лишь только выкрашенный, губернатор приказал ночью запачкать грязью, дабы не подать вида, что мост отделан для государя.
Поутру на восходе солнечном по прекрасному мосту изволили прогуливаться великие князья Александр и Константин. Народ столь был рад государю, что некоторые падали на колени и молились на государя, который это запрещал несколько раз, смотря в наугольно окошко к рынку. Когда один мальчик, в толпе народной затесненный, заплакал, государь кричал народу: “Не задавите ребенка!”.
В народе был узнан отставной гвардеец, который за несколько лет до того одного из великих князей обучал ружью. Потребовали наверх, изволили благосклонно разговаривать и наградили деньгами.
Государь на другой день в 6 часов пополуночи отбыл в Ярославль на Туношну. Нерехгчане так были рады высоким гостям, что нигде не топили печей, чтобы не беспокоить дымным запахом.
Говорят, что встретить государя с обнаженными саблями присоветовал его сродник, любимец государя, Нелединский, бывший в его свите и пред государем прибывший в Нерехту. Уездный предводитель Афанасий Тухачевский не советовал так выезжать навстречу, но Островский слепо верил Нелединскому.
Островского описывают человеком деятельным и прямодушным и говорят, что государь готовил ему ленту, но вышло напротив: вследствие сей встречи Островский был смещен. Строго было запрещено кричать “ура!” — боялись, чтобы простой народ по усердию не закричал это приветствие. Тухачевский ходил между чернью и уговаривал стоять тише. У Островского были с Нелединским домашние неудовольствия.
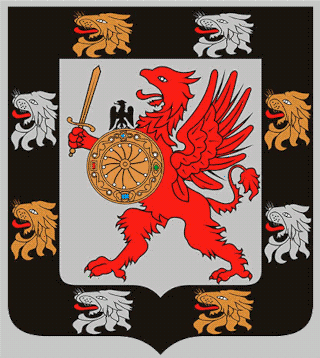
1837. Наследник цесаревич Александр Николаевич, будущий Александр II.
“1837 года, мая 13, в четверток, в 3 часа пополудни Нерехтою из Шуи через Иваново в Кострому проезжал государь наследник, великий князь Александр Николаевич. Свиту его составляли, кроме камердинера, генерал Александр Александрович Кавелин, Василий Андреевич Жуковский, Константин Иванович Арсеньев, Владимир Иванович Назимов, Юревич и поручик.
Еще с утра город наполнился на родом и начался благовест при соборе. В 2 часа за полдень народ встретил цесаревича при Егорьевой горе, радостным криком “ура!” провожая до собора, где у паперти ожидало его с крестом и святою водою духовенство.
В собор цесаревич приехал в одном экипаже с Кавелиным. Приложившись к кресту и иконам, изволил спросить протоиерея Высотского, нет ли чудотворных икон и давно ли собор строен. При отзыве незнанием со стороны протоиерея, цесаревич изволил приказать о здравии отпеть молебен.
Из собора проехал на квартиру, в дом Бориса Ивановича Дьяконова, тут был приготовлен обед. Наследник кушал в особой горнице, а свита — в зале. По приезде на квартиру через Жуковского было представлено цесаревичу сочинение сыпановского священника Михаила Диева под заглавием “История владык Новгородских с археологическими примечаниями”, причем было доложено, что Диев состоит действительным членом императорского Общества истории и древностей Российских и сотрудником Общества любителей Российской словесности, на какие звания жалован дипломами, что собрал значительное число рукописей, грамот, старинных монет, старопечатных книг и до 2 тысяч томов библиотеку, употребляя на покупку книг законоучительское жалованье, получаемое при Нерехотском уездном училище.
Цесаревичу было угодно Диева потребовать к себе, благосклонно с ним разговаривать и пожаловать его золотыми часами, такими же пожаловать изволил Бориса Ивановича (Дьяконова — Л.С.), наследнику поднесшего вместе с супругою, Евдокиею Ивановною, хлеб, соль и полотно.
После того являлись чиновники. Градских старост спросить изволил: “Есть ли в городе фабрики?” Ответил Василий Иванович Сколкин-Серебряников: "Есть одна, и содержит ее крестьянин”. Потом, обратясь к почетному смотрителю, спросил: “Сколько училищ?” Через минуту ответил штатный смотритель: "Два в Нерехте и третие в Плесе". Также “Сколько учеников?” — “Сто в Нерехте и 40 в Плесе”.
Потом Кавелин доложил: “Народ желает, государь, Вас видеть!”. Цесаревич открыл окно, и тысячи голосов закричали "Ура!”. Тогда Жуковский представил цесаревичу “Статистическое обозрение Нерехты”, составленное Нерехтского уездного училища учителем Егором Степановичем Знаменским.
При тысяче голосов “Ура!” цесаревич отправился в Кострому. Благосклонные взоры и ласковое обращение цесаревича показывают, что Нерехта высокому посетителю понравилась. Это самое должно приписать радушному приему наследника и свиты, сделанному в Нерехте предводителем дворянства, умным и любимым чиновниками двора, Константином Карловичем Бошняком.
Наследник инвалидам пожаловал 50 рублей, а на бедных — 300 рублей ассигнациями. По распоряжению городничего Ивана Ивановича Волова, чиновники и граждане на другой день собрались в соборе отпеть благодарственный молебен о здравии августейшего дома”.
"Костромская вивлиотека" Михаила Диева
Елена Сапрыгина
Сырный сезон
Ирина ТлифВерстах в 15 от города Нерехты лежит село Никольское в живописной долине при речке Стрельне. К концу XIX века в нем на “122 дворах" проживало “562 души мужеска и женска пола”. Из “мужеска” малая часть уходила в Санкт-Петербург на строительные работы, остальные прочно сидели на месте, занимались нехитрым и многотрудным крестьянским делом. Когда зародился в Никольском единственный в уезде сыроваренный завод, верных свидетельств не сохранилось, но в 1897 году он уже исправно поставлял в Москву “голландский сыр и скоромное масло”. Завод был основан московскими купца ми В.И. и Н.И. Бландовыми, которым по праву принадлежит заслуга и честь распространения сыроваренного промысла в Костромской губернии.(1).
Условия в Нерехтском уезде мало благоприятствовали развитию молочной промышленности. Здешние места не славились ни породистыми коровами, ни обилием сочных трав. Костромские статистики, давая в 1875 году оценку губернским луговым угодьям, отнесли к “местностям с особенно бедными лугами” весь Нерехтский уезд, так как “обширные, но довольно тощие покосы представляет здесь одна долина р. Солоницы и нижнее течение Сунжи; даже Волга прилегает к уезду не низкими заливными лугами, а крутыми, во многих местах довольно высокими обрывами".(2)
По общему количеству скота этот малоземельный, плотно населенный уезд первенствовал в губернии, однако оставался последним по числу четвероногих кормильцев на каждый крестьянский двор. Результаты обследования молочного хозяйства показали, что нерехтские крестьяне “не сбывают молочных продуктов /.../, если каждое крестьянское хозяйство и скопит несколько фунтов масла и продаст его, то и сам скоп и продажа носят настолько случайный характер, что учету не поддаются /.../; крестьянская корова в среднем за 9 месяцев дает не больше 3 штофов в день”.(3) А для выработки 1 пуда сыра требовалось 11 пудов молока. В 1900 году в Нерехтском уезде из 125 тысяч голов скота на 100 хозяйств приходилось от 85 до 108 коров.
Более всего буренок держали в домах земледельцев. Им, помимо молока для питания семьи, требовалось большое количество удобрений, без которых костромская земля не давала ни овощей, ни хлеба. Безошибочен был выбор места опытными заводчиками-сыроделами: Никольская волость, где процвел молочный монополист, входила в земледельческий район уезда и частью располагалась в Присолоницкой луговой зоне.
В Нерехтском уезде, как ранее в Костромском и Буйском, предпринимателям удалось преодолеть недоверие жителей к новому промыслу. Главным доводом в его пользу была денежная наличность, выдаваемая крестьянам за принесенное на завод молоко. За пуд цельного молока сдатчикам платили 35 копеек, что в конечном итоге было немалым подспо рьем в крестьянском хозяйстве. В 1897 году завод принял 5500 пудов молока, из которого изготовили 650 пудов сыра и 50 пудов сливочного масла.(4)
Сырный сезон продолжался 210 дней в году. В горячую пору, когда молока поступало особенно много, в мастерской трудилось до 6-ти человек по 17-ть часов в сутки. Долгий рабочий день не редкость в период "молочной страды”, но вряд ли найдется еще 2-3 завода в губернии, на которых держали бы более 5 работников. Мастер и 1-2 помощника — вот обычный “штат" большинства костромских сыроварен. Впрочем, к 1910 г. Никольский завод вполне вписался в местные условия и оформился в аккуратное заведение с одним управляющим-мастером и 2-3 подмастерьями. Выпуск сырной продукции не опускался ниже 350 пудов в год.(5)
То, что завод принадлежал Бландовым, уже гарантировало высокое качество товара: бландовские сыры поступали на московский и петербургский рынки, пользовались постоянным спросом у зарубежного потребителя. В санитарном отношении заводы Бландовых были на порядок выше молочных заведений других хозяев. Санитарные врачи не раз отмечали, что многие сыроварни — ветхое, полуслепое здание, сальная посуда, бесконтрольно спускаемые сточные воды — стали очагами инфекции для окружающих жителей. На Никольском заводе блюстители гигиены могли отдохнуть от сильных отрицательных впечатлений. Его “просторное, светлое и теплое помещение”, содержащаяся в чистоте и порядке утварь и сепаратор Лаваля рождали самые положительные эмоции, укрепляли оптимистический взгляд на будущее сыродельного промысла.(6)
В начале XX века до Костромской губернии докатился 1-й “бум” молочной кооперации. В 1906 году в селе Саметь Костромского уезда появилась первая крестьянская артель, а к 1913 году частник был просто сокрушен силой и активностью “низового элемента”. Бывшие сдатчики молока, а иными словами, скотовладельцы, объединялись в молочные кооперативы и как “равноправные пайщики” ожидали доходов от реализации “конечного продукта”. Сомневающихся и тугодумов переманивали в артель путем повышения платы за молоко. Много приличных частных заведений было тогда разорено. Однако это ни в коей мере не коснулось нерехтского края: Никольский завод благополучно пережил романтический всплеск пробуждающегося творчества народных масс, оставшись при этом и частным, и рентабельным, и по-прежнему единственным в уезде.
Уездное земство, не желая мириться с отсутствием положительных сдвигов в молочном хозяйстве, приступило к изучению всех источников корма для скота. Долина р. Солоницы стала главным объектом внимания луговодов. Ведь именно там располагались “обширные, но тощие покосы", с которых собирало сено большинство нерехтских жителей. Прекрасные плодородные почвы Присолоницкого района, заболоченные от постоянных разливов и разбитые пасущимися на лугах стадами, обещали при благоприятных условиях обильнейшие урожаи трав.
В 1909 году был заложен 1-й опытный участок с целью обследования почвенного слоя речной поймы и выявления сортов трав, способных дать при укосе наилучший результат. К 1913 году показательных участков стало 12, начались мелиоративные работы, открылись прокатные пункты с луговодными машинами и орудиями. Энтузиасты-просветители посредством лекций, бесед и брошюр соответствующего содержания активно приобщали население к агрономическим знаниям. В 1916-17 годах нерехтское земство приобрело 10 племенных быков для улучшения местной породы крупного рогатого скота, а губернское — купило неподалеку от г. Нерехты усадьбу Шахматово для устройства общегубернского рассадника луговых трав. В 1917 году были посеяны и травы на семена. (7)
“Молочные реки" потекли в уезде с 1920-х гг., когда ни земства, ни усердных пестователей молочного промысла купцов Бландовых уже не было. На месте губернского питомника вырос совхоз “Шахматово”, продолживший земские начинания, а вокруг Никольского завода образовалось большое молочное хозяйство, куда вошло более 240 пайщиков. В 1920 году завод переработал 120 пудов молока в сыр, который по хорошо накатанному привычному маршруту партиями был отправлен в Москву. (8)
В 1944 году бывший Нерехтский уезд в очередной раз был “разукрупнен”, и село Никольское “с окружающими его деревнями” стало частью Бурмакинского района Ярославской области. Неизвестно, процветает ли там и ныне старинный сыродельный промысел или давно угас, оставив по себе память в справочниках по Костромской губернии и на пожелтевших страницах архивных дел.
ПРИМЕЧАНИЯ:1. ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 325а. Л. 26.
2. Материалы для статистики Костромской губернии. Вып. 3. Кострома. 1875. С. 31-32.
3. Сборник статистических сведений по Костромской губернии. Т. 1. Нерехтский уезд. Вып. 1. Кострома. 1901. С. 160.
4. ГАКО. Ф. 161. Там же.
5. ГАКО. Ф. 205. Оп. 2 ос. д. 1598. Л. 43.
6. Врачебно-санитарный обзор Костромской губернии. Вып. VIII. Кострома. 1909 .С. 11.
7. Мешалин И В. Экономическое описание Нерехтского уезда Костромской губернии. Нерехта. 1927. С. 9-10, 47, 50, 96.
8. Там же. С. 117.
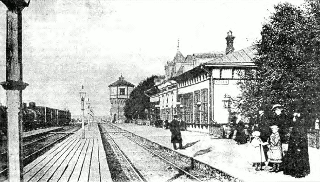
Железнодорожная станция в Нерехте.